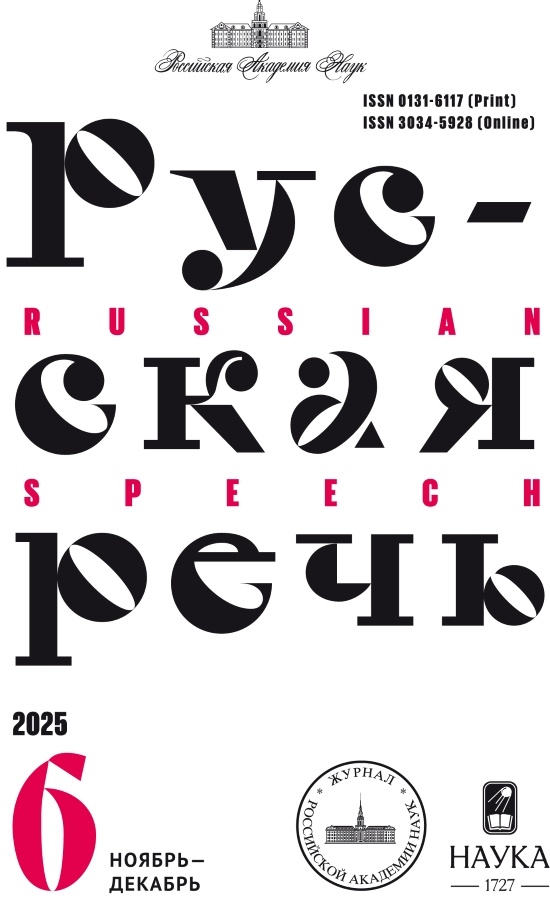Бишь: баять или быть? О происхождении одной частицы
- Авторы: Глаголева А.С.1
-
Учреждения:
- Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 60-69
- Раздел: Из истории русского языка
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6117/article/view/255739
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0131611724010058
- ID: 255739
Полный текст
Аннотация
В статье предпринята попытка установить происхождение русской частицы бишь. Дискуссионность этого вопроса обусловлена расхождением мнений исследователей о производящей основе: данные этимологических словарей говорят о развитии этой частицы из формы 2-го лица единственного числа глагола баять (баешь), при этом отдельные исследования указывают на ее происхождение от одной из форм прошедшего времени глагола быти — 3-го лица множественного числа аориста бышѧ или 3-го лица единственного числа имперфекта бѧше.
Для достижения указанной цели были исследованы условия возникновения аллегроформ в аспекте фонетических закономерностей степени ударности слов; проведено сравнение этимологических данных; оговорено различие глагольных форм прошедшего времени, в частности в рамках процесса разрушения системы прошедших времен. Материалом исследования стали данные Национального корпуса русского языка (панхронический корпус), а также сведения этимологических и диалектологических словарей.
В результате была предложена гипотеза формирования исследуемой частицы из особой формы, образовавшейся при смешении употреблений аориста и имперфекта, которое было характерно уже для XIV в. Возникновение собственно частицы относится к XVII в., о чем свидетельствуют лексикографические данные.
Ключевые слова
Полный текст
Частица бишь, согласно данным Национального корпуса русского языка (НКРЯ), была широко употребима в 1840-е гг. (а первая фиксация современного написания бишь среди текстов, содержащихся в корпусе, датируется 1799 г. — в тексте И. М. Долгорукова). Далее частота ее использования снижается; в настоящее время она употребляется значительно реже и в современных толковых словарях часто сопровождается пометой устаревшее.
Словари современного русского языка определяют бишь как частицу, употребляющуюся в речи ‘при усилии вспомнить что-либо забытое’ [Евгеньева (ред.) 1985: 92; Горбачевич (гл. ред.) 2004: 660–661; Ожегов, Шведова 2006: 49].
Значимых изменений в семантике рассматриваемой частицы на протяжении разных периодов развития языка не происходило, однако менялось ее орфографическое оформление, что отмечено в «Словаре русского языка XI–XVII веков» и в «Словаре русского языка XVIII века»: в текстах XVII–XVIII вв. встречаются формы бешь, бѣшь, биш.
Вопрос об этимологии рассматриваемой частицы остается дискуссионным. С точки зрения «Русской грамматики» 1980 г. частица бишь является первообразной, так как не имеет живых словообразовательных связей со словами других классов [Шведова (гл. ред.) 1980: 722]. В «Грамматике русского языка» 1960 г. отмечено глагольное происхождение бишь [Виноградов и др. (ред.) 1960: 637].
Большинство исследователей-этимологов разделяют мнение о том, что бишь является аллегровой формой 2 л. ед. ч. презенса баять (например, [Аникин 2009: 220], [Фасмер 1986: 170], [Kopečný 1980: 91], [Шанский 1971: 47]). А. Е. Аникин приводит следующую цепочку преобразований: ба́ять — ба́ешь — ба́ишь — бишь. Исследователь отмечает эквивалентность форм бишь и бешь (также в составе частиц бешти и бешто), аргументируя различия в орфографическом и фонетическом оформлении частиц возобладанием в бешь гласного е.
С фонетической точки зрения эта теория не вполне убедительна: как известно, процесс образования аллегроформ возможен при различных условиях в разговорной речи (открытые и закрытые слоги, стечение гласных и согласных и др.), но в неударных слогах [Земская (отв. ред.) 1973: 177–179]. Условия предполагаемого процесса фонетического оформления частицы бишь (редукция ударного слога) в данном случае противоречат общим правилам образования аллегроформ.
Этимологические словари Н. М. Шанского и А. Е. Аникина указывают на аналогию процесса образования этой частицы с другими частицами, также обладающими семантикой говорения: «Возникло в разговорной речи из глагола баешь — “говоришь”, так же как обл. грит из говорит, дескать» [Шанский 1971: 47]; «указывают аналогии в част. де, мол» [Аникин 2009: 200]. Однако в приведенных исследователями примерах ударные слоги производящей основы сохранены; а в случае формирования бишь из баишь (с акцентированием первого слога) корректной была бы аллегроформа башь, а не бишь (бешь).
Важно отметить, что форма башь также фиксируется этимологическими и диалектными словарями со значением и с синонимичными лексемами, аналогичными частице бишь — «употребляется при усилии вспомнить что-л. забытое <...> Синонимичная част. баште́, ба́ште» [Аникин 2008: 315–316; Филин (гл. ред.) 1966: 166]. Единственный контекст ее употребления, отображенный в [Филин (гл. ред.) 1966: 166] (Как, башь, тебя зовут?), аналогичен контекстам употребления частицы бишь (ср.: Ведь мы не куда-нибудь в дурное место поедем, а именно в пустынь эту... как бишь ее зовут? (А. В. Амфитеатров. Княжна. 1889–1895)1.
В «Словаре русских народных говоров» находим также формы бышь, быша ‘бишь’ [Филин (гл. ред.) 1968: 358], фонетическое оформление которых близко к временны́м формам древнерусского глагола быти (и его форм бышѧ и быше, о которых будет сказано далее).
В лингвистике представлено несколько версий происхождения рассматриваемой частицы от быти. Согласно одной из них, сформулированной А. А. Потебней и переданной М. Фасмером в его «Этимологическом словаре», бишь — результат преобразования 3 л. мн. ч. аориста бышѧ. М. Фасмер также указывает на сопоставление бишь со старославянскими бъшиѭ, бьшиѭ А. И. Соболевского [Фасмер 1986: 170]. Е. А. Галинская в статье «Об одном реликте древнеславянского имперфекта» высказывает предположение о том, что бишь является результатом развития имперфектной формы 3 л. ед. ч. бѧше.
Отметим, что в случае образования частицы бишь от глагольных форм имперфекта или аориста фонетические закономерности не нарушаются: Е. А. Земская указывает на то, что глагол-связка быть почти обязательно безударна или слабоударна, а «в словах с ослабленным ударением слабоударный гласный способен несколько изменяться. <...> Слабоударные слова примыкают к рядом стоящим ударным словам, входя с ними в один такт» [Земская (отв. ред.) 1973: 42, 45–46], что характерно и для частиц.
Имперфект «передает длительные процессы и состояния, а также многократные и регулярно повторяющиеся действия, события» [Молдован (ред.) 2020: 573]. При этом контекстная реализация частицы бишь сопоставима не только со значением длительности:
1) Кто, де беш<ь> у меня языку птичью горазд [Бархударов (ред.) 1975: 190];
2) А девушку-то изжени и с тем... как бишь его зовут? (А. П. Сумароков. Вздорщица. 1770);
3) Да о чем бишь я тебѣ хотелъ сказывать? [Фонвизин 1829: 100];
4) — Из какой бишь Аристотелевой книги читаете вы проповедь? — спросил он с насмешкою у Каллисфена (Д. В. Фонвизин. Каллисфен. 1788);
5) «Такъ стало онъ можетъ перелагать или разлагать — какъ бишь вы изволили сказать? — и рѣшеніе уголовныхъ напримѣръ бы...» — «Какъ же!» отвѣчалъ нашъ повѣствователь (Ф. Н. Глинка. Новая пробирная палатка. 1827);
6) Да! какова бишь невеста собою, я и позабыл спросить (М. П. Погодин. Черная немочь. 1829);
7) В песне-то не то сказано, как бишь я ее наладил: Жизнь наша сон! всё песнь одна! Или ко сну, или со сна! (А. С. Грибоедов, П. А. Вяземский. Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом. 1823).
Как видно из приведенных примеров, бишь употребляется в контекстах, называющих длительное действие или состояние (см. примеры 1, 2, 6: горазд, зовут, какова собою), повторяющееся действие (пример 3: хотел сказывать), непродолжительное действие в прошлом или настоящем (примеры 4, 5, 7: читаете проповедь, изволили сказать, наладил).
Е. А. Галинская в качестве одного из аргументов в пользу бишь от формы имперфекта указывает на «вхождение бишь в состав союза то бишь, синонимичного с точностью до стилистической окрашенности союзу то есть, по поводу которого не возникает сомнений в том, что его вторая часть является формой 3 л. ед. ч. глагола быть» [Галинская 2006: 51]. Однако частица бишь не ограничена употреблением исключительно в контекстах с формой единственного числа и имперфектным значением:
8) Посколько, бишь, вы за всякий праздник своих долгов уплачиваете? (Н. А. Львов. Письмо Г. Р. Державину. 1786–1799);
9) Нет-с; еще что бишь они велели вам сказать? (А. С. Грибоедов. Студент. 1817);
10) — У вас, Анна Федоровна, нервы расстроены, я вам пропишу немножко лавровишневой воды, на свет не ставьте — она портится, так принимайте... сколько, бишь, вам лет? — капель по двадцать (А. И. Герцен. Доктор Крупов. 1846).
Аорист употреблялся для обозначения ограниченного во времени действия, «для изложения хронологически последовательных событий, имевших место в прошлом, и тем самым был основным временем нарратива. <...> Аористные формы от глаголов несовершенного вида обычно использовались в контексте с обстоятельствами времени, указывающими на продолжительность некоторого процесса или состояния» [Молдован (ред.) 2020: 572].
Кроме того, аорист использовался также в модальной функции в составе сослагательного наклонения (применительно к рассматриваемым формам — с утратой конечной гласной в бышѧ; см. [Жолобов 2017: 41]). Так, уже в XII в. усеченная форма быше встречается в берестяной грамоте № 809: пъвели нѣкъмоу, ѿ оуцинять ... жемецюженъ окънъ быше стрѣлъкы. По замечанию А. А. Зализняка и В. Л. Янина, «словоформа <бышь> должна интерпретироваться здесь как бышѧ (3 мн.), которое уже утратило конечную гласную, — подобно истерѧешь из истерѧеши в этой же грамоте. Ср. бышь из бышѧ (2 раза) в грамоте рижан ок. 1300 г. (Напьерский, № 49), также в Ипат. (а бышь, л. 172)» [Янин, Зализняк, Гиппиус 2004: 35–36].
Частица бишь (ввиду своей частеречной принадлежности и особенностей семантики) не сочетается с обстоятельствами времени; однако в остальном характер употребления данной частицы созвучен аористу. Согласно предположению А. А. Потебни, аорист, послуживший основой для формирования частицы бишь, находился в форме 3 л. мн. ч. Но, как следует из примеров, утверждать исключительно плюральную грамматическую функцию в контекстах с бишь-аористом невозможно, так же как и сингулярную в контекстах с бишь-имперфектом.
Такая несогласованность числовых форм может быть обусловлена процессом разрушения системы простых прошедших времен, начавшимся в XII в. и вошедшим в активную фазу в XIV в. А. А. Зализняк отмечает широкое распространение смешения в письменном языке «имперфекта и аориста (в частности, смешение окончания 3 лица единственного числа имперфекта -ше и окончания 3 лица множественного числа аориста -ша). <...> Например, в Строевском списке Псковской 3-й летописи (XVI в.) словоформа поехаше может означать как ‘они поехали’ (т. е. выступать как вариант к аористу поехаша), так и ‘он поехал’ (и тогда это вариант к аористу поеха); между тем в древнем языке поѣхаше могло быть только имперфектом совершенного вида (со значением ‘он всякий раз ехал’)» [Зализняк 2008б: 101].
Таким образом, поливалентность частицы бишь в плане временного и числового соотнесения позволяет предположить ее образование именно от такой смешанной аористно-имперфектной формы (которой могла быть быше — после утраты конечного гласного из бышѧ — или бѧше). Такие формы имеют тенденцию превращения в энклитики ([Зализняк 2008а: 34]; см. также работу [Пожарицкая 2010]) — и в общем смысле частица бишь имеет характер энклитики, т. к. в просодическом отношении обычно примыкает к предшествующему слову фразы.
Наиболее ранние контексты употребления бишь, содержащиеся в исторических словарях русского языка, относятся к XVII в. Аргументом в пользу того, что переход глагольной формы в частицу произошел в этот период, являются сведения о завершении процесса утраты глагольных претеритов после утраты сверхсложного прошедшего в XVII–XVIII вв., в результате чего универсальной формой прошедшего времени стал бывший перфект.
Семантическое наполнение частицы бишь только в редких случаях может быть соотнесено с общим значением говорения глагола баять; большинство контекстов употребления этой частицы могут быть проинтерпретированы в значении, близком к глаголам осуществления события (к которым, согласно [Бабенко (ред.) 1999: 466], относится быть): ‘некоторое осуществленное событие или имеющееся знание требует актуализации в данный момент речи’.
Наличие в лексиконе современного русского языка вариантных форм данной частицы также подтверждает ее развитие от глагола быти. Гласные, следовавшие за начальным согласным в разных временных формах быти — [ы], [’а], [’э], учитывая энклитический характер рассматриваемых языковых единиц и их слабую фразовую позицию, могли совпасть в одном звуке. Для парадигмы спряжения древнерусского глагола быти характерно также чередование согласных в начальном звуке основы [б] // [б’]. В результате контаминации форм аориста и имперфекта, вероятно, фонетические чередования в гласных и согласных звуках основы эксплицировались в вариантах орфографического оформления частицы бишь — бешь / бышь / башь, которые и отражены в этимологических и диалектологических словарях современного русского языка.
1 Здесь и далее цитаты взяты из Национального корпуса русского языка (если не указано иное).
Об авторах
Анастасия Сергеевна Глаголева
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: glagoleva.anastasiia@mail.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 2. (б — бдынь). М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2008 336 с.; Вып. 3. (бе — болдыхать). М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 344 с.
- Бабенко Л. Г. (ред.). Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы. М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 704 с.
- Бархударов С. Г. (гл. ред.). Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1 (А — Б). М.: Наука, 1975. 372 с.
- Виноградов В. В. и др. (ред.). Грамматика русского языка. T. 1: Фонетика и морфология. М.: АН СССР, 1960. 719 с.
- Галинская Е. А. Об одном реликте древнеславянского имперфекта в русском языке // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2006. № 6. С. 47–60.
- Горбачевич К. С. (гл. ред.). Большой академический словарь русского языка. Т. 1. А — Бишь. М.: Наука, 2004. 664 с.
- Евгеньева А. П. (ред.). Словарь русского языка: В 4-х т. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1985. Т. 1. А–Й. 702 с.
- Жолобов О. Ф. Древнерусская грамматика: простые претериты и praesens historicum. Казань: Издательство Казанского университета, 2017. 190 с.
- Зализняк А. А. Древнерусские энклитики. М.: Языки славянских культур, 2008а. 280 с.
- Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. 3-е изд., доп. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2008б. 480 с.
- Земская Е. А. (отв. ред.). Русская разговорная речь. М.: Наука, 1973. 239 с.
- Молдован А. М. (ред.). Русский язык: энциклопедия. 3-е изд., перераб. и доп. М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. 904 с.
- Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: http://www.ruscorpora.ru (дата обращения: 03.06.2022).
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М.: ООО «А ТЕМП», 2006. 944 с.
- Пожарицкая С. К. Модальные слова производные от глаголов быть, бывать в севернорусской диалектной речи // Русский язык в научном освещении. 2010. № 1. С. 103–131.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / пер. с нем. и доп. чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачева / Под ред. Б. А. Ларина. Изд. 2-е, стер. М.: Прогресс, 1986. Т. 1 (А — Д). 574 с.
- Филин Ф. П. (гл. ред.). Словарь русских народных говоров. Вып. 2. (ба — блазниться). М.—Л.: Наука, 1966. 315 с.; Вып. 3. (блязнишка — бяшутка). Л.: Наука, 1968. 360 с.
- Фонвизин Д. В. Бригадир. М., 1829. 120 с.
- Чиркина И. П. Грамматическая омонимия сравнительных союзов и частиц в современном русском языке // Вопросы морфологии, синтаксиса русского языка и методики его преподавания. Пермь: [б. и.], 1965. С. 43–53.
- Шанский Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя / Под ред. чл.-корр. АН СССР С. Г. Бархударова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1971. 542 с.
- Шведова Н. Ю. (гл. ред.). Русская грамматика: в 2 т. М.: Наука, 1980–1982. Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология / Н. С. Авилова, А. В. Бондарко, Е. А. Брызгунова и др. М.: Наука, 1980. 788 с.
- Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1997–2000 гг.). Т. XI. М.: Русские словари, 2004. 288 с.
- Kopečný F. Etymologický slovník slovanských jazyků: Slova gramatická a zájmena. Sv. 2, Spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia. Praha: Academia, 1980. 783 s.