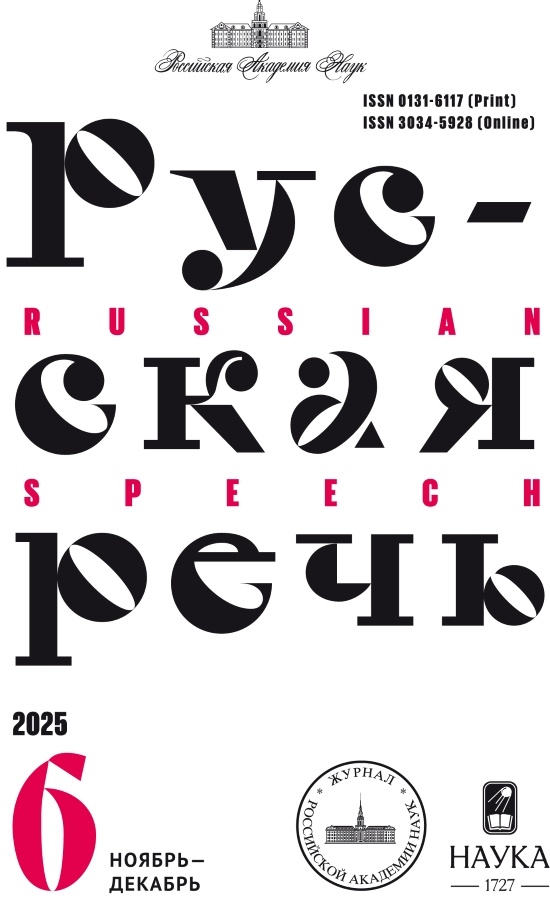Лексико-семантическая репрезентация образа Кавказа в творчестве М. Ю. Лермонтова
- Авторы: Киселева И.А.1, Поташова К.А.1, Ермакова А.С.1
-
Учреждения:
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения»
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 82-97
- Раздел: Язык художественной литературы
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6117/article/view/255741
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0131611724010076
- ID: 255741
Полный текст
Аннотация
Целью исследования является выявление типологии смысловых обозначений Кавказа в творчестве Лермонтова. Установлено, что «кавказский текст» Лермонтова детально воспроизводит местный колорит, представляет срез кавказской жизни эпохи военной кампании 1820-х — начала 1840-х годов. Утверждается, что Кавказ в художественном мире Лермонтова отличается топографической точностью, его словесной репрезентации присущ очерковый характер, выражающийся в использовании особой топонимики, многообразии именований населяющих его народов, в передаче их характеров и взаимоотношений. В статье систематизированы лексико-семантические средства передачи социокультурного, исторического, географического образа Кавказа, рассмотрена семантика топонимов, этнонимов и этнографизмов в лирике, прозе, эпистолярии Лермонтова. Выявлено, что одним из ведущих принципов поэтики Лермонтова при создании образа Кавказа является раскрытие в тексте произведений этимологии и значения названий поселений, рек, гор. Сопоставление топонимических единиц, характерных для Лермонтова, с именованиями кавказских земель на военно-исторических картах первой половины XIX в. показало, что поэт активно использует адаптированную лексику, принадлежащую словарному составу действующей русской армии, тем самым представляет взгляд русского кавказца. Проводится сравнение «кавказского текста» Лермонтова с мемуарной и очерковой литературой первой трети XIX в., что позволяет реконструировать представление о Кавказе в русском обществе 1820–1840-х гг. В результате проведенного исследования доказано, что, детально раскрывая язык и культуру горцев, Лермонтов изображает Кавказ и в его онтологии, связанной с пониманием сущности восточного мира, и в его конкретно-исторической этнографически яркой явленности.
Ключевые слова
Полный текст
После присоединения в 1801 г. к Российской империи Восточной Грузии под влиянием первых впечатлений от картин первозданной природы и свободолюбия горцев оформился романтический образ Кавказа как пространства «широкой раздольной воли» [Белинский 1900–1948: XII, 16]. В течение 1820–1830-х гг. образ Кавказа постоянно обогащался и пополнялся за счет обрастания новыми личностными коннотациями, чему способствовали как глубокое проникновение в кавказскую культуру, быт, познание нравов кавказцев через столкновение с ними, так и реалистический вектор развития литературы. Романтический образ Кавказа постепенно дополнялся военными и социальными реалиями, приобретающими знаковый характер. Отсутствие полноценного этнографического и географического освещения кавказских земель в первой трети XIX в. восполнялось путевым, эпистолярным и собственно художественным материалом побывавших там писателей и военных. Именно они формировали устойчивое представление о нем и служили «источником для пополнения русского языка восточной лексикой» [Добродомов 1967: 374].
Интерес Лермонтова к нравам, культурно-бытовым особенностям, устно-поэтической традиции неоднократно отмечался в лермонтоведении и становился предметом специального научного изучения [Ахмадова 2018, Багратион-Мухранели 2019, Захаров 2014, Лотман 1985, Маркелов 2008, Семенов 1939, Ходанен 2015]. Не оставалась без внимания исследователей и лексическая репрезентация образа Кавказа [Бородина 2018, Дионк 2011, Джубаева 2008, Шипулина 2016]. Однако целостного исследования репрезентативных средств организации «кавказского текста», отражающего эпоху Кавказской войны, не проводилось, в то же время обращение к смысловым обозначениям кавказского пространства позволяет уточнить смысловую наполненность топоса Кавказа в художественном мире Лермонтова.
Для передачи социокультурного, исторического, географического образа Кавказа поэт активно использует три лексических пласта. Это топонимические единицы, обобщенный функционал которых связан с передачей пространственной локализации событий; этнонимы, служащие средством изображения этнокультурных сообществ; этнографизмы, воссоздающие элементы национальной культуры. Наиболее значимую роль в этом спектре лексических единиц занимают различные топонимические единицы, призванные создавать этническое и/или историческое пространство, в котором развиваются события. Ведущим обозначением образа Кавказа является соответствующий топоним — Кавказ, выступающий как обобщенная номинация территории: «В теснине Кавказа я знаю скалу» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 215]; «Кавказ! далекая страна! // Жилище вольности простой!» [Лермонтов 1954–1958, т. 1: 107].
Помимо именования территории привычным топонимом Кавказ, Лермонтов использует обобщенное образное именование Восток. Традиционно обозначающий сторону света («Яснеет уж восток, // Черкес проснулся» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 173]), восток в литературе лермонтовского времени приобретает дополнительную коннотацию — это пространство, окруженное ореолом таинственности, приобретшее «характер романтической ирреальности» [Киселева 2019: 95]. Примечательны в этой связи случаи написания слова Восток Лермонтовым с прописной буквы в ее «выделительной функции» [Шмелев 2017: 699] как географической территории: «Златой Восток, страна чудес» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 132], «Люблю тебя, страна Востока!» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 133]. Называя кавказские земли Востоком, поэт эмоционально маркирует это пространство романтическими представлениями о Кавказе как о гармоничной вселенной; территория при этом не только включает в себя собственно Кавказ, но и распространяется на Иран («Дремлет Тегеран» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 194]), Иерусалим («Вот — у ног Ерусалима» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 194]), Египет («Моет желтый Нил // Раскаленные ступени» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 194]), бытие которых связано с древними цивилизациями. И сам Кавказ у Лермонтова связан с представлением о допотопных временах: «Над допотопными лесами // Мелькали маяки кругом» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 169]. Использование по отношению к Кавказу определения «допотопный», предполагающего временну́ю характеристику, отнесенность к чрезвычайно древним временам, обусловлено его давней историей, топоним является одним из наиболее древних названий в Евразии.
Однако поэт не только включает топос Кавказа в более широкий топос Востока, расширяя таким образом ассоциативное поле Кавказа, но и конкретизирует его. В связи с художественной репрезентацией Кавказа как исторического пространства Лермонтов значительно увеличивает активный состав топонимических единиц русского языка. Поэт активно использует не только топоним Кавказ, но и множество частных географических названий, которые поддаются следующей систематизации:
— именование городов и координат, составляющих городское пространство: Кизляр («Он тотчас же отправил нарочного в Кизляр» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 221]), Кисловодск («Приезжай через неделю в Кисловодск» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 221]), Пятигорск («Вчера я приехал в Пятигорск» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 260]), Ставрополь («Вы, верно, едете в Ставрополь» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 204]), Тифлис («Я ехал на перекладных из Тифлиса» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 203]), источники («Пойду к Елизаветинскому источнику» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 261]), постройки («построен павильон, называемый Эоловой Арфой» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 262]);
— именование аулов, станиц, крепостей: Коби («Нам должно было спускаться <...>, чтоб достигнуть станции Коби» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 226]), Джемат («Велик, богат аул Джемат» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 267]), Бастунджи («Скажи, // Не знаешь ли аула Бастунджи?» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 245]), Грозная («Пишу тебе из крепости Грозной» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 456]), Черкасск («я заезжал в Черкаск к генералу» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 455]);
— именование рек: Арагва и Кура («Внизу Арагва и Кура» [Лермонтов 1954–1958, т. 4: 167]), Аргуна («Шумит Аргуна мутною волной» [Лермонтов 1954–1958, т. 4: 178]), Валерик («Он отвечал мне: Валерик» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 172]), Терек («Лишь Терек в теснине Дарьяла // Гремя нарушал тишину» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 202]), Подкумок («Через струи Подкумка голубые» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 248]);
— именование гор и ландшафтов с ними связанных: Казбек («Под ним Казбек, как грань алмаза» [Лермонтов 1954–1958, т. 4: 184]), Машук и Бештау («Где за Машуком день встает, // А за крутым Бешту садится» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 156]), Гуд-гора («Гуд-Гора курилась» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 206]), Эльбрус («оканчиваясь двуглавым Эльборусом») и его кавказское именование Шат-гора («Шат подъемлется за ними» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 164]); Койшаурская гора («под нами лежала Койшаурская Долина» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 224]); гора Крестовая («Вот и Крестовая» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 226]); Дарьяльское ущелье («В глубокой теснине Дарьяла» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 202]).
Обращение к представленным в творчестве поэта именованиям исторических областей Кавказа показывает, что географические координаты этого пространства у Лермонтова обширны и соответствуют имперским границам 1830-х годов. Территорию Кавказа составляет Грузия («здесь когда-то была граница Грузии» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 225]); Кабарда («лошадь его славилась в целой Кабарде» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 211]); Авария и Чечня («В Чечню, в Аварию, к горам» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 169]); Дагестан («О светлом небе Дагестана?» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 274]). В письме к С. А. Раевскому от октября-ноября 1837 г. Лермонтов сообщает: «Изъездил линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 440]. Включенные в этот перечень географические объекты, приведенные в той последовательности, как пролегал путь Лермонтова по Кавказу, очерчивают его широкую территорию — охватывают Дагестан, Азербайджан и Грузию. Поэт называет как известные топонимы (Кизляр, Тамань, Кахетия), так и связанные с делами его военной службы, а именно участием Нижегородского полка в подавлении вспыхнувшего в Азербайджане восстания («Для ликвидации восстания из Кахетии (из местечка Карагач) были отправлены в Кубу два эскадрона Нижегородского драгунского полка» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 733]). В связи с отсутствием дополнений историко-литературного характера, которые бы конкретизировали время пребывания Лермонтова в этих местах, важно сделанное А. А. Бестужев-Марлинским в очерке «Путь до города Кубы» примечание, что полк Лермонтова располагался «в так называемой Новой Кубе, в двенадцати верстах от Старой <...>. Месторасположение — прелесть, плодовые леса шумят кругом» [Бестужев-Марлинский 2010: 137].
Наиболее примечательны обозначения кавказских территорий в стихотворении «Валерик». Придавая отсылкам к военным походам генерала А. П. Ермолова бо́льшую достоверность и подчеркивая опытность воинов, Лермонтов оперирует конкретными топонимами, которые проецируются на реальную карту кавказских военных походов: «Как при Ермолове ходили // В Чечню, в Аварию, к горам» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 169]. Топонимы Чечня и Авария включены в контекст событий героического прошлого не случайно, именно посредством их поэт дает отсылку к кульминационным событиям военной кампании А. П. Ермолова. Результатом чеченской экспедиции стало строительство в 1818 г. крепости, которая, как вспоминает сам генерал, «стоя на удобнейшей дороге к Кавказской линии и недалеко от входа чрез урочище Хан-Кале, названа Грозною» [Ермолов 1868: 49]. Сам Лермонтов, будучи в этой крепости в июле-августе 1840 г., пишет свой «Валерик». Аналогичны коннотации топонима Авария. Успешное взятие Аварского ханства в 1819 г., о чем также вспоминает Ермолов («Возвышения были взяты на штыках. <...> Аварский хан пытался было предпринять поход с целью изгнать русских из своих владений, но предприятие это закончилось полной неудачей, и он вынужден был покориться» [Ермолов 1868: 79]), тоже напоминает о героическом прошлом. В черновом варианте стихотворения поэт употребляет топонимы Чечня и Дагестан («в Чечню, к аварцам, в Дагестан» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 288]), а в беловике — Дагестан заменяется Аварией («в Чечню, в Аварию, к горам» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 169]). Отказ от топонима Дагестан может быть обусловлен и стремлением Лермонтова подчеркнуть славу ермоловских военных походов, одним из значимых результатов которых стало взятие Аварского ханства, и собственно географическая конкретизация походов: Авария — это конкретная местность в обширном Дагестане.
Значимы в этом контексте и выбранные Лермонтовым предлоги, служащие средством выражения пространственных отношений: «В Чечню, в Аварию, к горам» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 169]. Используемые в сочетании с топонимами пространственные предлоги, ведущими среди которых являются предлоги «в» и «на», имеют некоторую смысловую дифференциацию, которую точно улавливает Лермонтов. Для языковой картины мира поэта характерно использование предлога «на» по отношению к пространным территориям («С тех пор, как я на Кавказе» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 455]; «Спеша на север издалека» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 103]; «Чтоб путь на север заградить» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 116]), тогда как посредством предлога «в» поэт сообщает точные координаты («Завтра я еду <...> в Чечню брать пророка Шамиля» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 455]; «я тебе писал из действующего отряда в Чечне» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 456]). Использование того или иного предлога позволяет уловить смысловые оттенки текста. Употребление «в Чечню», а не «на Чечню», «в Аварию», а не «на Аварское ханство», что было бы логичнее в случае описания военных походов, подразумевает конкретную направленность движения и его характер — это движение предполагает не собственно освоение территорий, но нахождение внутри их границ. Конечным в этом перечислении военных локаций является пространственное указание «к горам» — вот цель движения. Предлог «к» несколько выбивает именование этой локации из типовых конструкций топонимов с пространственным предлогом «в», но тем самым сообщается то конкретное место, в сторону которого направлены поступательные действия-движения; древние горы — это некий конечный пункт, которого нужно достигнуть и который стоит в своем роде вне политики. Поэт в беловике делает акцент именно на территорию («в Аварию»), заменяя черновое «к аварцам». Для него важен именно аспект достижения результата в пространственном отношении.
Одним из ведущих принципов поэтики Лермонтова при создании образа Кавказа является раскрытие в тексте произведений этимологии и значения названий поселений, рек, гор. При этом поэт в зависимости от контекста приводит и объяснения топонимов, бытовавшие среди горцев, и предания, ходившие в кругах русского воинства. Так, название речки Валерик поэт разъясняет от лица кавказцев, что оказывается смыслообразующим для стихотворения: «Он отвечал мне: Валерик, // А перевесть на ваш язык, // Так будет речка смерти» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 172]. В романе «Герой нашего времени» Лермонтов приводит историческое предание о горе Крестовой, могучем горном хребте, ставшем своеобразной опорой Российской империи, заслуга в этом принадлежит генералу Ермолову: «Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр 1-й, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 226].
Значительное количество топонимов Лермонтов адаптирует к русской речи. Показательным своей обрусевшей кавказской топонимикой является стихотворение «Валерик». Будучи «знакомым со словоупотреблениями, характерными для речи кавказского населения» [Киселева, Поташова, Сеченых 2019: 269], что следует уже из знания им кавказских именований гор (например, кавказское «Шат-гора» вместо общеупотребимого названия «Эльбрус»), Лермонтов в «Валерике» употребляет топонимы, используемые в русской армии, акцентируя тем самым точку зрения русской стороны, поэт представляет взгляд русского кавказца. И это наиболее заметно именно благодаря топонимам. Чеченское название реки Гихи (ГихтӀа) в стихотворении адаптируется под русскую речь и вместе с наречием времени «раз» создает стилизованное под разговорное повествование о героических подвигах: «Раз — это было под Гихами» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 169]. Аналогичный процесс наблюдается и в связи с названием реки Валерик, которая в чеченском языке звучит как Валарта, Валериг, Валерг, Вайрик. Подобными адаптированными к русской речи топонимами пользовались в военной среде, в такой адаптации топонимы помещены на карту военных крепостей Российской империи [Фелицын 188?]. Лермонтов четко различает именования земель Кавказа — Чечня, Авария, Ичкерия. Употребление последнего топонима особенно примечательно. Именование Ичкерия («Из гор Ичкерии далекой // Уже в Чечню на братний зов // Толпы стекались удальцов» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 169]) не встречалось в известных письменных и фольклорных источниках народов Кавказа; естественно предположить, что оно было в употреблении русской армии. В среде самих чеченцев юго-восточная территория, названная Ичкерией, именуется как Нохчи-мохк (в буквальном переводе «Чеченская земля» [Кушева 1963: 74]). Эта этимология породила частое ошибочное распространение названия на всю территорию Чечни, тогда как топоним Ичкерия, возможно, образованный от названия реки Искерк, использовался для обобщенного обозначения юго-восточных сел в русских военных документах. В частности, это название в виде топонима Ичкери присутствует на военно-исторической карте Северного Кавказа, обозначающей местонахождение оборонительных сооружений. Именование ичкеринцы присутствует и в воспоминаниях генерала Ермолова: «Тогда же дали знать лазутчики, что пришли чеченцы, по Мичику живущие, часть ичкеринцев и несколько лезгин» [Ермолов 1868: 182].
Как следует из воспоминаний генерала Ермолова, в военной среде четко различались этнонимы, обозначающие многонациональное население Кавказа. Лермонтов также использует множество названий этнических общностей, посредством которых создает цельный национальный портрет Кавказа, опровергая при этом бытовавшую в путевых наблюдениях 1830-х гг. одностороннюю оценку этой территории как «средоточия опасного для русских мусульманского народа» [Шишков 1835: 57]. В «Перечне писем из Грузии» (1835) А. А. Шишков категорично заключает: «Народ очень дикий, необузданный, только лишь имеющий веру, но никаких при этом высоких нравов» [Шишков 1835: 57]. Лермонтов, узнавая культуру Кавказа, отказывается от столь категоричных суждений. В качестве обобщенного именования кавказских народов Лермонтов использует этноним татарин, посредством сочетания с ним определения мирной, т. е. не воюющий с русскими, поэт стирает привычные для фольклора и древнерусской словесности отрицательные коннотации этой лексемы: «Мирной татарин свой намаз // Творит, не подымая глаз» [Лермонтов 1954–1958, т. 2: 207].
Помимо обобщенного именования горских народов, Лермонтов включает в свое повествование целый спектр этнонимов, отражающий основное население Кавказа: кабардинец («наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 207]; «в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 281]); грузин, грузинка («Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 204]; «это совсем не то, что грузинки» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 221]); лезгинец, лезгинка («Лезгинец, слыша голос брани, // Готовит стрелы и кинжал» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 168]; «Пусть, подойдя, лезгинку он узнает: // В ее чертах земная жизнь играет» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 169]); чеченец («Свободный, как чеченец удалой» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 76]; «Сидел чечен однажды предо мною» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 156]); осетин («порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 207]); черкес, черкешенка («Черкесы храбрые не спят» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 20]; «Черкесов тучные стада» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 18]; «Меж тем черкешенки младые // Взбегают на горы крутые» [Лермонтов 1954–1958, т. 3: 17]). Обобщая данные к этнонимам определения-характеристики в национальный портрет кавказского жителя, можно заключить, что на первый план в этом портрете выходят смелость, общность, свободолюбие. При этом принципиальных различий между представителями различных этносов Лермонтов не проводит, выделяет только осетин, ведущих мирную жизнь и исповедующих христианство, на чем поэт не делает акцент, отмечая лишь их миролюбивость как свойство характера. В случае же с представительницами кавказских этносов поэт акцентирует их молодость и красоту. Обращение к личным именам в кавказском тексте Лермонтова позволяет сказать, что поэт был сведущ в культуре многих кавказских этносов и включал в повествование аварские (Куршуд-бек), кабардино-черкесские (Азамат, Бей-Булат, Казбич), ингушские (Акбулат, Бэла), чеченские (Ахмат-Булат), лезгинские (Ахмет, Ашик-Кериб), кумыкские (Гарун, Гирей), табасаранские (Гюльнара), абхазские (Зара, Ибрагим, Измаил-бей, Селим) антропонимы [Намиткова, 2012].
Еще одним лексическим средством воссоздания национального колорита Кавказа являются этнографизмы. Знатоком бытовых реалий Кавказа у Лермонтова становится кавказец — герой одноименного очерка, «тип русского офицера, сформированного кавказской войной» [Юхнова 215]. В сравнении с предшествующими путевыми очерками у Лермонтова образы, обозначаемые бытовой и военной лексикой, не остаются одиночно упомянутыми, они слагаются в цельные этнографические зарисовки, что позволяет говорить о сочетании в «Кавказце» признаков как физиологического очерка, так и путевого. Сочетающийся с художественным изображением публицистико-документальный принцип создания кавказского пространства в очерке Лермонтова позволяет рассматривать «Кавказца» в одном ряду с передающими в реалистическом ключе кавказскую атмосферу путевыми заметками А. С. Грибоедова и А. С. Пушкина, представляющими Кавказ в «земной плоскости» [Поташова 2020: 260].
Показательно в этом отношении использование лексемы «бурка», которая встречается и у Пушкина, и у Грибоедова, и у Лермонтова, но именно у последнего бурка приобретает характер знакового для своего времени явления, использование этого слова позволяет оценить степень взаимопроникновения элементов языка и культуры русских и кавказцев. В поэме «Кавказский пленник» Пушкин в портрете черкеса приводит бурку как характерную деталь горского облачения: «В косматой шапке, в бурке черной, // К луке склонясь, на стремена // Ногою стройной опираясь, // Летал по воле скакуна» [Пушкин 1937–1959, т. 4: 99]. В своих этнографических зарисовках и Грибоедов, и Пушкин ограничиваются упоминанием этого вида верхней одежды, ее назначение, связанное с удобством в дороге, понятно из контекста: «Щедро обсыпанный снегом, я укутался буркою, обвертел себе лицо башлыком, пустил коня наудачу и не принимал участия ни в чем» [Грибоедов 1959: 411]; «Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости» [Пушкин 1937–1959, т. 8: 463]. Поэтам не нужно давать пояснений к бурке, с пребыванием русских на Кавказе она уже стала типичным элементом портрета не только горца, но и русского воина. Лермонтов же в «Кавказце», стремясь к цельному представлению образа армейского офицера, создает широкое культурно-смысловое поле слова бурка, включающее обстоятельное объяснение ее назначения («бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего!»; «он спит на ней и покрывает ею лошадь» [Лермонтов 1954–1958 т. 6: 350]); сообщение о ней как о своеобразном знаковом явлении эпохи, окруженном героическим ореолом («прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 350]); описание ее внешних особенностей («бел<ая> с черной каймой внизу» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 350]). Обращает на себя внимание и включенное в описание бурки указание на наличие неких требований к ней, важность приобретения именно лучшего ее образца: «Он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую Андийскую бурку» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 350]. Этнониму андийский в данном контексте соответствует ассоциация с подлинностью, качеством. Белые и черные андийские бурки изготовлялись коренным народом Дагестана и ценились как самые красивые на Кавказе и за его пределами, андийская бурка была и у самого Лермонтова (поэт в такой бурке изображен на автопортрете в форме Нижегородского драгунского полка, 1837). Причина указанной поэтом сложности в приобретении такой бурки объясняется «Предписанием генерала Ермолова грузинскому губернатору о запрещении горцам Дагестана прибывать в Грузию по торговым делам» (1821), которое ограничивало возможность горцев продавать бурки: «Чтобы бурки, выделываемые андийцами и другими горцами, отнюдь не были впущаемы для продажи; в случае же тайного привоза оных, конфисковать их и доносить мне в то же время, как об именах тех, кому оные принадлежат» [Ермолов 1821]. Создавая реалистический образ, поэт с доброй иронией включает в характеристику кавказца «разные хитрости и пронырства» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 350].
У «настоящего кавказца», портрет которого создает Лермонтов в очерке, должны быть не только «настоящая» бурка, но и «настоящее» оружие и конь. Как и в случае с буркой, этим составляющим образа кавказца даются самые превосходные характеристики: «настоящая», «отличная», «чистая» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 349]. Если Грибоедов в своих путевых заметках не уделяет внимания оружию вовсе, Пушкин ограничивается только номинацией оружия и его общими характеристиками («кинжал и шашка суть члены их тела» [Пушкин 1937–1959, т. 8: 449]), то Лермонтов значительно расширяет перечень оружия. Поэт впервые включает в кавказский текст этнографизмы, связанные с чеченскими обозначениями оружия, этот перечень сопровождает комментариями, позволяющими оценить приведенные предметы как истинные произведения кавказских мастеровых: «У него завелась шашка, настоящая гурда, кинжал — старый базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 349]. Представленный перечень составляет не только привычное для русского языка слово шашка, посредством которого именуется уставной тип холодного оружия, вошедшего в обиход русской армии в первой трети XIX в., но и этнографизмы гурда и базалай. Значимо, что Лермонтов, создавая портрет офицера, пребывающего на Кавказе, изображает его как ценителя и знатока оружия, он подчеркнуто владеет лучшим оружием. В «Герое нашего времени» Лермонтов указывал на необходимость лучшего оружия для горца: «Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 211]. Аналогично и у русского офицера оружие составляет предмет его гордости. И шашка, и кинжал, и пистолет кавказца сопровождаются уточняющими разъяснениями, качественно выделяющими это оружие. У кавказца не типовая шашка, а чеченское оружие с характерным клеймом на клинке — гурда, которая, как отмечает военный историк В. А. Потто, «не уступала старым европейским клинкам, но даже превосходила их» [Потто 1887–1889]. У него не простой кинжал, а базалай — в качестве номинации оружия используется клеймо «Базалай», сообщающее о принадлежности клинков известным мастерам из рода кумыкских булатников. Ценность этого кинжала Лермонтов также нисколько не преувеличивает, редкость его подчеркивает В. А. Потто: «Настоящие из них так редки, что немногим удавалось даже видеть их, и большинству они известны только понаслышке» [Потто 1887–1889]. Образ офицера с двумя шашками в руках типичен для рисунков Лермонтова кавказского периода. Лучший у кавказца и конь («Лошадь — чистый Шаллох»), что подчеркнуто в этнографизме, обозначающем породу лошади, названную по именованию конного завода; достоинством этой породы была «особая выносливость» [Казиев, Карпеев 2003: 86].
Кавказ в художественном мире Лермонтова отличается топографической точностью. Многочисленные топонимы, обозначающие как широкие территории, так и более узкие, конкретные локации, встречаются и в поэмах Лермонтова, составляющих своеобразный кавказский цикл, и в лирике, и в прозе, и в письмах, поэтому «кавказскому тексту» поэта, детально воспроизводящему местный колорит, присущ очерковый характер. Кавказский текст Лермонтова привлекает внимание представленным срезом кавказской жизни эпохи военной кампании 1820-х — начала 1840-х гг. Поэт, усвоив «вполне нравы и обычаи горцев» [Лермонтов 1954–1958, т. 6: 349], в деталях представляет язык и культуру кавказского народа, слагающиеся в единый кавказский мир. Лермонтов представляет Кавказ и в его онтологии, связанной с пониманием сущности восточного мира и его связи с древностью, и в его конкретно историческом воплощении, явленном в яркой этнографичности, особой топонимике, многообразии именований населяющих его народов, в передаче их характеров и взаимоотношений.
Источники
Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: в 12 томах. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1900–1948. Т. XII. 1926. 586 с.
Бестужев-Марлинский А. А. Путь до города Кубы / Русские писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2010. Т. 1. С. 133–144.
Грибоедов А. С. Сочинения. М.; Л.: Гослитиздат, 1959. 782 с.
Ермолов А. П. Предписание генерала Ермолова грузинскому губернатору о запрещении горцам Дагестана прибывать в Грузию по торговым делам. 1821. URL: https://drevlit.ru/docs/kavkaz/XIX/1800-1820/Dvizenie/1-20/18.php (дата обращения: 20.04.2023).
Ермолов А. П. Записки Алексея Петровича Ермолова: В 2-х ч. Ч. II (1816–1827). М.: Университетская типография, 1868. 727 с.
Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954–1957.
Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. СПб.: Кн. склад В. А. Березовского, 1887–1889. URL: https://drevlit.ru/docs/kavkaz/XIX/1800-1820/Potto_V_A/Kavk_vojna_4/text44.php (дата обращения: 18.04.2023).
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, 1837–1937: В 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959. Т. 4. Поэмы, 1817–1824. 1937. 483 с.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, 1837–1937: В 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959. Т. 8. Романы и повести. Путешествия. Кн. 1. — 1948. 496 с.
Фелицын Е. Д. Военно-историческая карта Северо-западного Кавказа с обозначением местонахождения не существующих ныне крепостей, укреплений, постов и главнейших кордонных линий, устроенных русскими войсками с 1774 года до окончания Кавказской войны [Карты]. Тифлис, 188?. 2 л.
Шишков А. А. Сочинения и переводы капитана А. А. Шишкова: В 4 ч. СПб.: В тип. Императорской Российской Академии, 1835. Ч. 3. 143 с.
Об авторах
Ирина Александровна Киселева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения»
Автор, ответственный за переписку.
Email: ia.kiseleva@mgou.ru
Россия, Москва
Ксения Алексеевна Поташова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения»
Email: ka.potashova@mgou.ru
Россия, Москва
Алена Сергеевна Ермакова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения»
Email: as.ermakova@mgou.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Ахмадова Т. Х. Кавказ и кавказцы в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Современный ученый. 2018. № 1. С. 57–61.
- Багратион-Мухранели И. Л. Концепт кавказского пленника в русской литературе XIX в. // Новое прошлое. 2019. № 3. С. 178–201. doi: 10.23683/2500-3224-2019-3-178-201.
- Бородина Н. А. Экзотическая лексика в кавказских поэмах М. Ю. Лермонтова // Мир русского слова. 2018. № 3. С. 83–87. doi: 10.24411/1811-1629-2018-13083.
- Дионк К. М. Лексическое воплощение образа Кавказа в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011. № 1. С. 85–88.
- Джаубаева Ф. И. Этнокультурные явления — способ взаимодействия языков на Кавказе (на примере произведений М. Ю. Лермонтова) // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 59. С. 114–123.
- Добродомов И. Г. Некоторые вопросы изучения тюркизмов в русском языке // Вопросы лексики и грамматики русского языка. М.: М-во просвещения РСФСР, 1967. С. 364–374.
- Захаров В. А. «Ориентализм» Эдварда Саида и восприятие Северного Кавказа как Востока в произведениях М. Ю. Лермонтова // Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа. Краснодар: ООО «Экоинвест», 2014. С. 26–81.
- Казиев Ш. М., Карпеев И. В. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в ХIХ веке. М.: Молодая гвардия, 2003. 451 с.
- Киселева И. А. О смысловой цельности дефинитивного текста поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1839) // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 4. С. 91–106. doi: 10.15393/j9.art.2019.6422.
- Киселева И. А., Поташова К. А., Сеченых Е. А. Творческая история стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор» (1841) в культурно-историческом контексте // Научный диалог. 2019. № 10. С. 264–279. doi: 10.24224/2227-1295-2019-10-264-279.
- Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. М.: АН СССР, 1963. 371 с.
- Лотман Ю. М. Проблема Востока и Запада в творчестве позднего Лермонтова // Лермонтовский сборник. Л.: Наука, 1985. С. 5–22.
- Маркелов Н. В. Лермонтов и Северный Кавказ. Пятигорск: Снег, 2008. 384 с.
- Намиткова Р. Ю. Сводный словарь личных имен народов Северного Кавказа. М.: ФЛИНТА, 2012. 584 с.
- Поташова К. А. Поэтика визуального образа в «кавказском тексте» А. С. Грибоедова // Научный диалог. 2020. № 3. С. 250–264. doi: 10.24224/2227-1295-2020-3-250-264.
- Семенов Л. П. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск: Орджоникидзевское краев. изд-во, 1939. 224 с.
- Ходанен Л. А. Культурный концепт «Кавказ» и его текстообразующая роль в творчестве А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова // Сибирский филологический журнал. 2015. № 4. С. 47–57. doi: 10.17223/18137083/53/6.
- Шипулина Г. И. Этимологически восточная лексика в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (по материалам двухтомного «Словаря языка Лермонтова») // Метеор-Сити. 2016. № 6. С. 22–37.
- Шмелев А. Д. Прописные буквы в светской и церковной печати // Сретенский сборник. Научные труды преподавателей СДС. 2017. № 7–8. С. 698–734.
- Юхнова И. С. Очерк «Кавказец» в контексте творчества М. Ю. Лермонтова // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1–1 [Электронный ресурс]. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17118 (дата обращения: 24.04.2023).