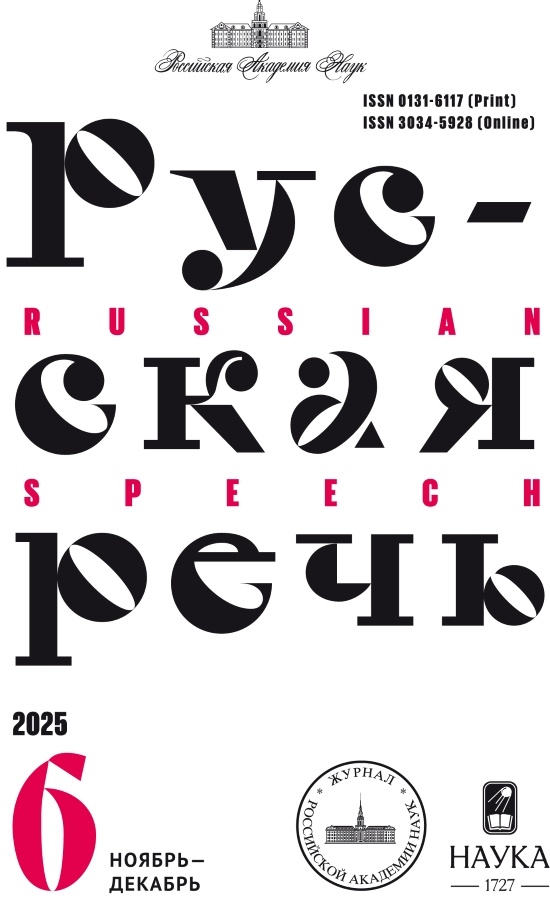О некоторых ошибках в переводе на азербайджанский язык романа Ф. М. Достоевского «Бесы»
- Авторы: Тагиева М.М.1
-
Учреждения:
- Бакинский славянский университет
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 79-88
- Раздел: Язык художественной литературы
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6117/article/view/259424
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0131611724030075
- ID: 259424
Полный текст
Аннотация
В настоящей статье представлена попытка оценить качество перевода, установить отношения адекватности и эквивалентности между художественными текстами романа «Бесы» Ф. М. Достоевского на русском и азербайджанском языках. Произведение было написано и издано в 1870–1872 гг., но на азербайджанский язык было переведено только в 2011 г. При сравнительно-сопоставительном анализе оригинала и перевода мы сталкиваемся с некоторыми неточностями и искажениями исконного текста. Художественный текст Достоевского отличается полифонизмом, идейностью, галереей характеров, а также пространственно-временным единством, идиостилем и поэтикой, что важно соблюдать и в переводе на азербайджанский язык. Сопоставляя аналогичные части в исконном и переведенном текстах, автор статьи указывает на некоторые неточности при передаче имен числительных. Эти неточности при переводе приводят к уменьшению или усилению процесса действия романных событий, что в обоих случаях нежелательно. В статье также указывается на порой неверную транслитерацию собственных имен (особенно в ремарках), исторических фактов (в частности, название газеты), что может ввести читателя в заблуждение. Неадекватная передача личных местоимений, указывающих на пол действующих лиц, способствует алогичному восприятию романных событий. Часть обнаруженных несоответствий автор статьи относит к техническим ошибкам и упущению переводчика, а часть — к редакторской невнимательности.
Полный текст
Художественный перевод как одно из средств межнационального общения объединяет носителей разных языков на национально-культурном и историко-этнографическом уровнях. «Искусство художественного перевода играет важную роль в сближении культур разноязычных народов и укреплении дружеских отношений» [Semedova 2016: 3]. Художественный перевод как разновидность письменного перевода служит развитию межнационального литературоведения. «Особенно плодотворной стороной литературных взаимоотношений выступает художественный перевод — ключ к мировой литературной сокровищнице» [Гулузаде 1999: 3].
Произведение Достоевского «Бесы» было переведено на азербайджанский язык ученым-исследователем Мамедом Коджаевым еще в 2011 г., однако об этом переводе написано всего несколько научно-исследовательских статей. Изучение и анализ новых переводов, выявление неточностей и упущений непосредственно повлияют на качество повторных переводов.
Сопоставительное изучение и анализ оригинальных и переведенных текстов также способствуют развитию компаративистики, литературных связей, служат для более полной и достоверной передачи идеи, образного мира, языка произведения, ставшего предметом перевода. Мы не ошибемся, если скажем, что «Бесы» — это «самое невезучее произведение» [Taghiyeva 2020: 5] Достоевского; «роман исследован слабее других» [Карякин 1981: 73]. Еще Г. Н. Поспелов отмечал, что «надолго, отчасти и вплоть до нашего времени, “Бесы” сохранил за собой очень дурную репутацию пасквиля на революционное движение. Но следовало бы пересмотреть такую категорическую оценку романа» [Поспелов 1971: 37]. Интересно и мнение самого переводчика: «Роман “Бесы” — один из сильных в художественном отношении и сложных и противоречивых со стороны идейного содержания произведений писателя» [Коджаев 2007: 2].
Цель нашей статьи состоит в том, чтобы, сравнивая исходный и переведенный тексты по предложениям, выявить переводческие упущения и ошибки. В тексте «Бесов» на азербайджанском языке очень важны и интересны вопросы единства времени и пространства и передача собственных имен героев без искажения. Эти не столь важные, на первый взгляд, случаи при неправильной трактовке и переводе приводят к недопониманию содержания исходного текста и отдалению от него.
Язык Достоевского отличается своеобразием и многогранностью. «Слово Достоевского — всегда живое слово» [Захаров 1979: 27]. Каждое выражение, каждое слово, даже каждый суффикс в тексте писателя несут в себе смысловую нагрузку, подчеркивают какую-то особенность того или иного предмета и явления. «В его произведениях нет ничего случайного, даже незначительные, на первый взгляд, детали у него глубоко оправданы» [Белов 1979: 28]. Сохранение формы и содержания произведения, логической последовательности сменяющих друг друга событий внутри романа относятся к числу факторов, непосредственно влияющих на единство времени и пространства романа. «Язык временнбых обозначений используется Достоевским метафорически для описания духовных исканий героев; довольно четко дифференцируемые в художественном мире писателя, временные обозначения становятся характерным для него средством выражения философских и психологических смыслов» [Галышева 2008: 18]. На первый взгляд может показаться, что тот промежуток времени, в котором происходит определенное событие, можно передать с точностью без особого труда. Здесь речь идет о переводе количественных числительных, о передачи таких единиц исчисления времени, как месяц, неделя и т. д. Сравнивая с этой точки зрения соответствующие отрывки из текстов оригинала и перевода, содержащие определенную когнитивную информацию, мы обнаружили некоторые неточности.
В начале произведения речь идет о Шатове, об исключении его из университета, об обучении им детей в купеческом доме, где он познакомился со своей будущей женой Марией, и об их поездке за границу вместе с купеческой семьей. Из-за гордого и свободолюбивого характера гувернантки (Марии) хозяин через некоторое время увольняет ее. В тексте Достоевского читаем: «Месяца через два купец ее выгнал» [Достоевский 1974: 27]. Найдем единицу исчисления времени в переведенном тексте: «iki hәftәdәn sonra» [Dostoyevsky 2011: 40], т. е. через две недели. Из вышеприведенных примеров становится ясно, что временной промежуток («месяца через два») в переведенном тексте сокращается в разы («через две недели»).
Однако Шатов и Мария как быстро поженились, так и быстро расстались. В исходном тексте читаем: «Прожили они вдвоем недели с три» [Достоевский 1974: 27]. Рассмотрим достоверность этого промежутка времени в переводе: «iki hәftәyә yaxın» [Dostoyevsky 2011: 40] (около двух недель). Из сравнений видно, что в переведенном тексте купец выгнал Марию из своего дома не через два месяца, а через две недели, и прожили они с Шатовым вместе почти не две, а три недели. В данном случае переводчик допускает искажение фактической информации, что недопустимо согласно современным нормам перевода.
Скитаясь по Европе, Шатов зарабатывал на жизнь чисткой обуви на улице, был носильщиком в каком-то порту, наконец, вернулся в родные края к своей старой тетке и вскоре после этого (месяц спустя) похоронил ее: «Поселился со старухой теткой, которую и схоронил через месяц» [Достоевский 1974: 27]. В переведенном тексте этот промежуток времени продлился до двух месяцев: «iki aydan sonra» [Dostoyevsky 2011: 40]. Такие упущения нежелательны, нужно отметить их как отклонение от текста оригинала и искажение фактической информации. Однако здесь наряду с упущением переводчика присутствует и невнимательность редактора. Следует помнить, что «переводчик и редактор несут такую же ответственность за каждое предложение, как и автор» [Semedova 2016: 3].
При переводе важно адекватно передать поведение героев, их поступки. В ходе исследования были выявлены некоторые детали, которые не сходятся в исходном и переведенном текстах. Например, в случае со Ставрогиным. Он вернулся в свой особняк из столичного Петербурга по настоянию матери. Этот двадцатипятилетний юноша на виду у светского общества совершает дерзкие и аморальные поступки, и ему абсолютно не стыдно: «Наш принц вдруг, ни с того ни с сего, сделал две-три невозможные дерзости разным лицам» [Достоевский 1974: 38]. В этом случае переводчик умаляет подлое поведение Ставрогина: «...две-три невозможные дерзости» заменяет на «одну-две невообразимые грубости» («bir-iki ağlasığmaz gobudluq» [Dostoyevsky 2011: 54]). Когда Павел Павлович Гаганов в очередной раз произнес свою часто повторяемую фразу «Меня не проведут за нос!» [Достоевский 1974: 38], Ставрогин на глазах у всех сильно схватил его за нос двумя пальцами и протащил его два-три шага, потом торопливо, небрежно извиняясь, ушел. В оригинале читаем: «...успел протянуть за собой по залу два-три шага» [Достоевский 1974: 39]. Числительное переводится как «bir neçә» [Dostoyevsky 2011: 54]. Написав вместо «два-три шага» «несколько шагов», переводчик тем самым смягчает созданный Достоевским крайне жестокий и легкомысленный характер Ставрогина.
Есть и другие примеры неверного обозначения временнбых отрезков. В оригинале читаем: «Я [Юлия Михайловна — М. Т.] просидела два часа пред этою картиной и ушла разочарованная» [Достоевский 1974: 235]. В переведенном тексте временнбая единица увеличилась на один час: «üç saat» [Dostoyevsky 2011: 301], т. е. три часа. Предложение «я [Степан Трофимович — М. Т.] двинулся с двадцатипятилетнего места» [Достоевский 1974: 353] передано как «Mәn iyirmi illik yerimdәn tәrpәndim» [Dostoyevsky 2011: 453] («Я двинулся с двадцатилетнего места»). Имеет ли смысл увеличивать время на час или сокращать его на пять лет? Вышеупомянутые отклонения от текста оригинала являются нежелательными.
При чтении, анализе и исследовании художественного произведения мы сталкиваемся с ремарками, которые уточняют те или иные моменты текста, определяют говорящего, дополняют его речь собственным мнением автора и т. д. Ремарки также выражают непосредственное отношение автора к изображаемому или дополняют сюжетную линию произведения. С другой стороны, в диалогической речи писатель обращается к ремаркам, чтобы прямо показать, кому принадлежат те или иные слова.
Анализируя перевод романа «Бесы», мы заметили, что в некоторых ремарках имена героев не соответствуют оригиналу. Например, в беседе Петра Верховенского с новоназначенным губернатором Андреем Антоновичем фон Лембке о Кириллове, Шатове, Ставрогине мы находим ремарку «...брякнул вдруг Петр Степанович» [Достоевский 1974: 181]. В переводе вместо Петра Степановича оказывается Степан Трофимович: «Stepan Trofimoviç birdәn dedi» [Dostoyevsky 2011: 232–233]. Если это так, то читатель недоумевает: когда Степан Трофимович вступил в диалог? С другой стороны, переводчик почему-то пренебрегает значением слова «брякнул», оно переводится нейтральным «сказал вдруг».
В другом примере неверно передано отчество героя. В исходном тексте читаем: «Удивила меня тоже уж слишком необыкновенная невежливость тона Петра Степановича» [Достоевский 1974: 379]. В переводе — «Mәni Pyotr Trofimoviçin qeyri-adi nәzakәtsiz tonu da tәәccüblәndirdi» [Dostoyevsky 2011: 485] («Меня удивил и необыкновенный, невежливый тон Петра Степановича»). Помимо неверного преобразования имен собственных, интенсификатор привычки «тоже» не используется на месте, «меня тоже» следует переводить как «mәni dә». В переводе логическое ударение падает на слово «тоже», а не на слово «меня», что является отклонением от исходного текста.
В предложении «Ну, я так и знал, что нарвусь, — пробормотал опять Верховенский» [Достоевский 1974: 313] — «...Virginski yenә dә donquldandı» [Dostoyevsky 2011: 401] фамилия Верховенский при переводе заменена на Виргинский. Правда, наряду с Шигалевым, Липутиным и Лямшиным в этом разговоре участвует и Виргинская, но вышеприведенная мысль принадлежит Верховенскому.
В азербайджанском языке, в отличие от русского языка, не существует категории рода имени существительного. Достоевский использует личные местоимения в тексте романа во избежание повторов имен героев. В переведенном тексте в нескольких местах местоимение мужского рода ошибочно переводится как существительное женского рода, а иногда и наоборот. Так, предложение «Болезненное впечатление отразилось в его лице» [Достоевский 1974: 399] было переведено как: «Lizanın sifәtindә ağrılı bir tәәssürat әks olundu» [Dostoyevsky 2011: 512]. Удивительно, что местоимение «его», указывающее на мужской род, переводится собственным именем женщины (Лизы). Цитата взята из разговора Ставрогина и Лизы и относится к сцене, где Лиза отвергает предложение Ставрогина уйти вместе с ним, а точнее издевается над ним. Болезненный вид отражается в лице отвергнутого Николая, а не в лице Лизы, которая насмехается над ним.
Аналогичный пример находим в описании отношений Шатова и Марьи: «Каждый день в эти три года он мечтал о ней, о дорогом существе, когда-то ему сказавшем: “люблю”» [Достоевский 1974: 434]. Ср.: «“sevirәm” dediyi bu әziz mәxluqu arzulamışdı» [Dostoyevsky 2011: 559]. Из исходного текста можно сделать вывод, что Марья говорила Шатову «люблю», а из переведенного текста — что, наоборот, Шатов — Марье.
Марья Лебядкина — одна из героинь романа, отличающаяся мечтательностью. У нее свой мир, и она очень счастлива в этом мире грез: здесь она со Ставрогиным, «своим соколом», и с собственным малышом. Когда кто-то извне зовет ее, Марья возвращается в реальный мир и разговаривает с этим человеком. В остальное время, что бы ни говорили вокруг нее, она ничего не слышит, ни на что не реагирует. В произведении Шатов громко разговаривает с Марьей, привлекая ее внимание к диалогу: «Я громко говорю; тех, которые не с нею говорят, она тотчас же перестает слушать» [Достоевский 1974: 115]. Обратим внимание на это предложение в переведенном тексте: «Mәn ucadan danışıram... onunla belә danışmayanda, o qulaq asmır» [Dostoyevsky 2011: 151] («Я громко говорю... если говорить с нею не так, она не слушает). Из перевода можно заключить, что каждый должен говорить с Марией громко, иначе она не будет никого слушать. На самом деле Марья не слушала тех, кто не разговаривал с ней, громко или тихо — это не имело особого значения.
Если сравнить исходный текст романа «Бесы» с переводом, то можно увидеть, что в переводе отрицательные частицы иногда упускаются из виду, и поэтому мысль, выраженная в отрицательном значении, звучит утвердительно. Например, Ставрогин признается Лизе: «Я знал, что я не люблю тебя, и погубил тебя» [Достоевский 1974: 401]. Предложение переведено так: «Bilirdim ki, səni sevirəm vә sәni mәhv etdim» [Dostoyevsky 2011: 516] («Я знал, что я люблю тебя, и погубил тебя»). Или: «Визит продолжался недолго» [Достоевский 1974: 295] переводится как: «Görüş uzun çәkdi» [Dostoyevsky 2011: 378] («Визит продолжался долго»).
Смещение знаков препинания при переводе также может привести к отклонению от текста оригинала: «Ты не вертись! — крикнул он студентке, которая порывалась со стула. — Нет, я тоже слова прошу, я обижен-с» [Достоевский 1974: 306]. На азербайджанском языке — «Нет, я тоже слова прошу, я обижен-с» [Dostoyevsky 2011: 393] дано с абзаца. Таким образом, целостная речь майора при переводе была разделена на две части, в результате чего создается впечатление, что это речь майора и студентки, т. е. монологическая речь передана как диалогическая.
Собственные имена, используемые в оригинале, в том числе топонимы, названия газет и журналов и т. д., при переводе должны оставаться неизменными. В оригинале читаем: «Чрез его руки, в молодости, прошли целые склады “Колокола” и прокламации» [Достоевский 1974: 303]. Очевидно, вследствие опечатки название газеты в переведенном тексте выглядит как «Kolovkol» [Dostoyevsky 2011: 389], где не должно быть буквы «v». «Недопустимо преподносить читателю искаженные факты по небрежности и некомпетентности» [Semedova 2016: 113], — пишет исследовательница Л. Самедова.
Таким образом, в ходе сравнения оригинального и переведенного текстов романа «Бесы» нами были обнаружены определенные несоответствия, недочеты и технические ошибки, которые можно легко устранить при следующих изданиях. Неверная транслитерация собственных имен, искажение фактического материала и обозначений времени считаются недопустимыми в переводимых текстах. Некоторая невнимательность переводчика привела к лексико-грамматической трансформации, в результате чего отрицание превратилось в утверждение. Однако выявление ошибок такого рода — работа редактора.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что непосредственное обращение к творчеству Ф. М. Достоевского и такому сложному произведению, как «Бесы», требует от переводчика, в первую очередь, смелости и трудолюбия. Являясь исследователем творчества Достоевского и владея билингвальными знаниями, профессор М. К. Коджаев внес неоспоримый вклад в азербайджанское литературоведение и переводоведение. Переводчику удалось сохранить содержание, художественность, композицию, систему образов, а главное — личный стиль автора. И заслуга переводчика в том, что благодаря ему Достоевский заговорил на азербайджанском языке, тем самым открыв очередную страницу ставших традицией русско-азербайджанских литературных связей.
Источники
Достоевский Ф. М. Бесы / Полное собрание сочинений в 30-ти тт. Т. 10. Л.: Наука, 1974. 520 c.
Dostoyevski F. M. Şeytanlar. Seşilmiş әsәrlәri üç cilddә. T. 3. Баку: Шерг-Герб, 2011. 704 c.
Об авторах
Махрух Мазахим Тагиева
Бакинский славянский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: mahrux_tagiyeva@live.ru
Азербайджан, Баку
Список литературы
- Белов С. В. Почему братьев Карамазовых было трое? // Русская речь. 1979. № 4. С. 28–33.
- Галышева М. П. Момент и миг у Достоевского // Русская речь. 2008. № 5. С. 15–18.
- Гулузаде Я. М. Художественный перевод и литературные связи. Баку: Мутарджим, 1999. 148 с.
- Евнин Ф. И. Роман «Бесы» // Творчество Ф. М. Достоевского. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 215–264.
- Захаров В. Н. Слово и курсив в «Преступлении и наказании» // Русская речь. 1979. № 4. С. 21–27.
- Карякин Ю. Ф. Зачем хроникер в «Бесах»? // Литературное обозрение. 1981. № 4. С. 72–84.
- Коджаев М. М. Характеры и идеи Ф. М. Достоевского. Баку: Мутарджим, 2007. 464 с.
- Поспелов Г. Н. Творчество Ф. М. Достоевского. М.: Знание, 1971. 64 с.
- Sәmәdova L. H. Tәrcümә mәtninin redaktәsi. Baku: Sabaх, 2016. 124 с.
- Tağıyeva M. M. Fyodor Dostoyevski Azәrbaycan dilindә. Baku: Мутарджим, 2020. 224 с.