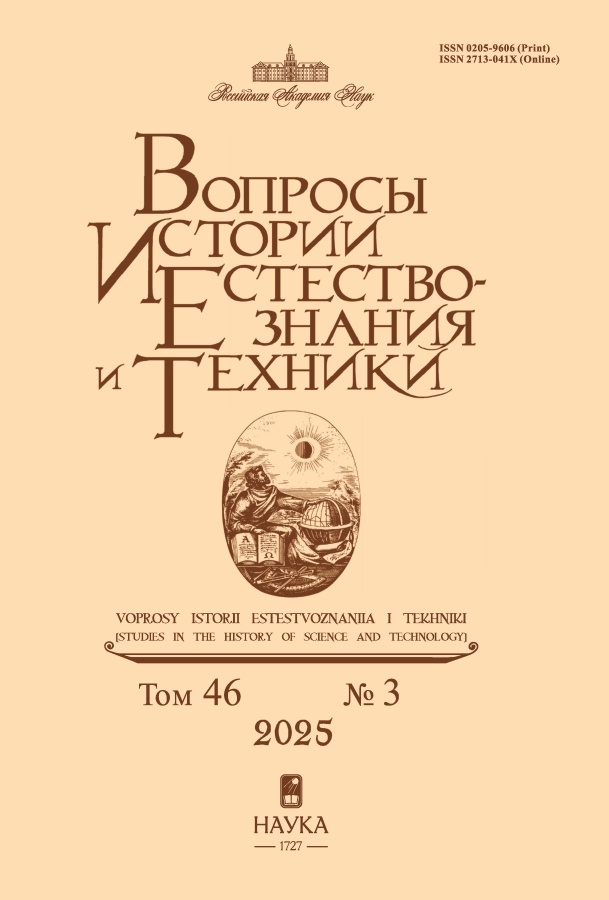Josephson P. R. Hero projects: the russian empire and big technology from lenin to putin. New york: oxford university press, 2024. 344 p. Isbn 978-0-19-769839-6
- Авторы: Крайнева И.А.1
-
Учреждения:
- Институт систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН
- Выпуск: Том 45, № 3 (2024)
- Страницы: 626–637
- Раздел: Книжное обозрение
- URL: https://journal-vniispk.ru/0205-9606/article/view/269475
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0205960624030109
- EDN: https://elibrary.ru/YRFAKR
- ID: 269475
Полный текст
Полный текст
Автор представляемой монографии – Пол Джозефсон, американский историк науки, почетный профессор истории Колледжа Колби (США). Он хорошо известен российским коллегам и является членом редколлегии журнала «Вопросы истории естествознания и техники». Область его научных интересов – история большой науки и техники, экологические проблемы, связанные с технологиями XX в. Он автор 15 монографий, последней из которых является «Ядерная Россия»1. В последние годы ученый живет в Барселоне и работает в Барселонском институте международных исследований (Institut Barcelona dʼEstudis Internacionals). В настоящее время он пишет книгу об экологической истории ядерного века.
Можно с большой долей уверенности сказать, что монография Джозефсона «Великие стройки: Российская империя и большие технологии от Ленина до Путина» ориентирована на западного читателя, для российских исследователей в истории мегапроектов она не сделает больших открытий. Тем не менее книга важна и полезна, потому что в ней собраны под одной обложкой истории многих отечественных больших проектов – «героических» в терминологии автора – и больших проблем, с ними связанных. Дословный перевод, хотя и вполне понятен, все-таки уводит от исторического дискурса: на самом деле речь идет о «великих», или «ударных», стройках. Эти словосочетания в отечественной историографии сопровождает описание реалий «социализма, коммунизма, первых пятилеток, индустриализации» и т.д.
Нельзя упрекнуть автора в том, что он односторонен в своем стремлении обратить внимание, например, на проблемы окружающей среды, связанные с масштабными технологическими проектами по освоению огромных российских территорий и извлечению полезных ископаемых, так как параллельно он делает сравнительно-исторические экскурсы в аналогичные истории других стран (Австралия, Китай, США, страны Латинской Америки), утверждая, что крупномасштабные инженерные проекты являются парадигмой развития во всем мире.
С одной стороны, он встраивает отечественные реалии в широкий исторический контекст, с другой – подчеркивает их отличие от мировых тенденций. Отличие как раз и состоит в том, что мегапроекты, как постулирует автор, с конца XIX в. и по сей день стали ведущим императивом нашей страны по освоению территорий. И не только по масштабам замыслов, но и по масштабам ресурсных и финансовых затрат, экологических и людских потерь, политическому и культурно-символическому значению. Сразу замечу, что финансовые проблемы практически остались за скобками, что является следствием малой доступности соответствующих источников и невозможности их верификации. Джозефсон понимает, что «журналистские расследования» или намеки в прессе на коррупцию легко опровергаются благими намерениями исполнителей, как, например, в случае с железной дорогой на Ямале (с. 59–65). В августе 2013 г. «Ведомости» обратили внимание на то, что подрядчики при «строительстве 26 мостов на железной дороге на Ямале могли обсчитать «Газпром» на 19 млрд руб. В результате самый длинный в мире мост за полярным кругом (через реку Юрибей) получился менее основательным, чем предполагалось: на мосту были уложены деревянные шпалы и сооружены опоры из металлических труб вместо железобетонных плит и контурных блоков. Хотя проектанты отрицали изменения в проекте, представители Газпрома объяснили «облегчение» конструкции стремлением избежать нагрузки на почву2.
Как всякое фундаментальное исследование, книга основана на подробном и тщательном знакомстве с источниками и историографией вопроса. В результате представляется возможность познакомиться с зарубежными исследованиями по данной проблематике, в изучении которой западные коллеги достаточно активны. В библиографический список включены и отечественные работы: статьи из научных журналов, монографии, диссертации (в том числе Президента РФ В. В. Путина). В качестве источников использованы документы КПСС и материалы партийных съездов; тематические сборники документов по проектам и событиям; периодика – журнал «Наука и жизнь», газеты «Наука в Сибири», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Москоу таймс» и др.; сборники публицистических сочинений; художественная литература – произведения В. Гроссмана, В. Арсеньева, В. Ажаева, В. Шаламова; биографии – охранника БАМЛага И. В. Чистякова, одного из руководителей строительства Трансполярной магистрали В. А. Барабанова, горняка А. Г. Стаханова, ученых-энергетиков А. В. Винтера и В. И. Вейца, проектировавших и строивших Днепрогэс, профессора зоологии Кемеровского университета Т. Н. Гагиной и др. Также использовались документальные фильмы, например «Всегда с народом» – о поездке Л. И. Брежнева в районы Сибири и Дальнего Востока весной 1978 г., песни и стихи В. Я. Шаинского, О. Б. Фельцмана, Р. И. Рождественского, филателия. Привлекались материалы, размещенные на сайтах Газпрома, НОВОТЭКа, БАМа, прочих крупных компаний и организаций.
Монография состоит из введения, шести глав («Рельсы и ресурсы», «Шахты и магнаты», «Вода и империя», «Ядерная страна чудес», «Мосты империи», «Ностальгическая инженерия: мегапроекты и Россия в XIX в.»), эпилога, библиографических сносок по главам, предметного указателя и благодарностей. Текст сопровождается визуальным рядом, включающим фотографии, карты, схемы, почтовые марки и др.
Тридцатистраничное, структурированное на подразделы введение позволяет познакомиться с творческой лабораторией автора, его методологией и методикой, а также включает довольно подробный историко-географический экскурс, который дает представление читателю об экономической и физической географии России, раскинувшейся в 11 часовых поясах.
Теоретические построения автора, подкрепленные набором аргументов, свидетельствуют, что он акцентирует внимание не на разработках новых технологий и рациональных форм упорядочивания производственной деятельности государства и общества. Он сосредоточен на социальных связях и отношениях при доминирующей активности государства, его лидеров, вовлекающих в свой круг массу исполнителей, добровольных и случайных, сметая тех, кто противится грандиозным проектам, подобно героям повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Это мир не только сложившихся социальных связей и отношений, но и мир формирующихся новых иерархий и зависимостей, которые не всегда органичны. Под органичностью автор понимает консенсус действующих агентов, их согласие в осуществлении замысла, соответствие его реализации предполагаемому результату. На многочисленных примерах в монографии показано, что в результате строительства гидротехнических сооружений жители вынуждены покидать территорию, обжитую их предками, оленеводы Севера – оставлять веками используемые пастбища. От загрязнений природы тяжелыми металлами, нефтяными отходами и прочего страдает окружающая среда и люди. Исследование Джозефсона погружает в социально-политическую историю СССР всего периода его существования с экскурсами в экологию и связанные социальные проблемы.
Ведущий методологический подход автора заключен в понятии «технологический импульс», он же императив, который способствовал и продолжает поддерживать движение россиян вглубь территории. В этом понятии объединены социально-политическая необходимость освоения территории (импульс), а также интеллектуальное и техническое оснащение мегапроектов. Технологический импульс стал ведущим императивом завоевания территории, ее социально-экономического освоения, решения геополитических задач, в некоторых случаях вопреки смыслу, норме, а порой и рациональности. Технологический импульс и рациональность – в известном смысле антагонисты в этой книге, подтверждением чему служат такие примеры, как строительство Трансполярной железной дороги Салехард – Игарка (известна как «Мертвая дорога», которая строилась с 1947 по 1953 г. силами зэков ГУЛАГа).
Технологический импульс – это и показатель исторической преемственности в действиях российского государства, когда современные решения восходят к прошлому опыту освоения территорий (с. 15–19, 253). Джозефсон показывает, что проекты историчны: некоторые, такие как проект по перекрытию днепровских порогов, будущая Днепрогэс, были задуманы еще до Октябрьской революции в начале XX в. министром путей сообщения С. В. Рухловым и его помощником В. Н. Шаховским. Идея пятилетних планов заимствована у крупного отечественного инженера-теплотехника В. И. Гриневецкого, издавшего в 1919 г. книгу «Послевоенные перспективы российской промышленности». Осуществление других проектов сдерживалось технологически (например, проект Трансполярной дороги) или финансово (трудности времен Второй мировой войны или в 1990-х гг.). Так, проект переброски сибирских рек в Среднюю Азию в 1990-е гг. не осуществился именно по финансовым причинам, хотя его реализации помешало и мощное протестное движение3. На данный момент он отложен, хотя время от времени к нему возвращаются.
Большинство «великих строек», по мнению автора книги, имеют двойное назначение – гражданское и военное, причем первая компонента менее значима. «Граждане России могли бы гордиться этими современными технологическими чудесами: блестящими новыми железнодорожными “магистралями”, огромными рудниками, которые доставляли на поверхность медь, платину и алмазы, и первыми в мире атомными электростанциями. Но им приходится платить за них низкими зарплатами, плохим снабжением магазинов, мизерными пенсиями, недостаточными расходами на здравоохранение, загрязнением воды, а также разрушенными ландшафтами и водными путями» (с. 150). По мнению автора, мегапроекты важны для понимания истории страны потому, что при смене российских правителей они оставались актуальными не только из-за военного и экономического значения, но и ввиду необходимости обеспечения международного признания технологического развития нации, ее способности покорять природу. Проекты и в наши дни имеют идеологическую нагрузку, формируя у современников те же представления о величии, могуществе страны, ее широких возможностях, что и в советский период. Эти обстоятельства отмечены и российскими историками.
Джозефсон не случайно вслед за российской историографической традицией использовал термин «великие стройки». Он видит в этом их символизм, мировоззренческую (идеологическую) ценность, культурно-воспитательный аспект. В советское время продвижение, героизация мегапроектов вылилась в целую индустрию прославления исполнителей и идейных вдохновителей проектов, которые можно было видеть, как пишет автор, «в книгах на журнальном столике, в биографиях героев-инженеров, смелых строителей и дальновидных политиков, в многочисленных развешанных повсюду плакатах, прославляющих или призывающих к постоянному увеличению промышленного производства, в ежегодных праздниках тружеников промышленности, в государственных наградах руководителей и заслуженных работников; и даже в почтовых марках…» (с. 22–23). Красноречивый пример основательности этой идеологической работы – память о стахановском движении и культурно-историческом типе передовика производства, сформированном в 1930-е гг. Слово «стахановец» живет в нашем современном языке как представление о человеке, который трудится, превышая нормы выработки и преодолевая свои физические возможности. Автор пишет, что медиа-продвижение «великих строек» актуально и сегодня с привлечением технологических новшеств PR-индустрии (с. 98, 141, 187).
Обращают на себя внимание некоторые другие терминологические особенности книги. Выше мы рассмотрели один из терминов – «технологический импульс», который объясняет устойчивость формирования, осуществления, а также торможение и неудачи мегапроектов в России несмотря на разные политические системы, экономические обстоятельства, географические и климатические условия. Автор мало говорит о том, когда возник этот импульс, предложив в качестве такой хронологической точки время правления Петра I, когда будущее страны ставилось в зависимость от производства, добычи и торговли природными и минеральными ресурсами: пушниной, лесом, рыбой и прочим. Но добыча «пушной валюты» началась гораздо раньше, и некоторые исследователи даже полагали, что само расширение страны на восток шло вслед за местами обитания соболя, его добычи и превращения в источник благосостояния государства – шло своеобразное «первоначальное накопление капитала»4. С этой точки зрения пушнину можно рассматривать как ранний мегапроект, подобно более поздним – добыче угля, нефти и т. д., которые по мнению Джозефсона, остаются «великими стройками» Российской Федерации и в наши дни (с. 112).
Другое терминологическое словосочетание – «имперские технологии», которые, по Джозефсону, есть проекты, инициируемые государством и осуществляемые в значительной мере принудительно, когда принуждение прикрывалось цивилизаторской миссией, в сталинский период осуществлялось рабочей силой ГУЛАГа и шараг, позже – с привлечением военных строителей и массовых кампаний по призыву «энтузиастов». Он пишет: «Имперские технологии России – крупные проекты, финансируемые государством, – захватывают наше воображение: царская Транссибирская магистраль от Москвы до Владивостока на тихоокеанском побережье, построенная в 1890-х гг.; ленинский грандиозный план государственной электрификации 1920-х гг.; величественный, но убийственный сталинский Магнитогорский сталелитейный комбинат, шахты, железные дороги и множество других проектов ГУЛАГа (курсив мой. Об этом смотри ниже. – И. К.); мощные ледоколы, сначала дизельные, затем атомные, чтобы сохранить открытым великий Северный морской (Арктический) путь […]; каскадные гидроэлектростанции на крупных реках, обеспечивающие электроэнергией местную промышленность, включая алюминиевые и плутониевые заводы; грандиозные водохозяйственные сооружения, построенные в 1920-х гг. и завершенные в 1950-х, 1960-х и 1970-х гг., которые создали сельскохозяйственные оазисы в степи, в Центральной Азии и в других местах. Эти и другие крупномасштабные стройки стали центральным элементом проектов экономического развития России» (c. 1). Целеполагание современных российских «великих строек» – поддержание геополитических интересов, экономической мощи и самооценки, международной безопасности, а также ностальгия по престижу советского прошлого.
Джозефсон полемизирует с авторами, по мнению которых понятие «империя» не совсем подходит для таких государств, как царская Россия, Советский Союз и Российская Федерация, потому, что империи – это те национальные государства, у которых есть колонии «за океаном». Но он полагает, что важным стимулом осуществления «великих строек» в России была именно внутренняя колонизация территории, благо для этого были возможности. «Великие стройки» объединяли науку, технологии, стимулировали основание поселений и освоение ресурсов в пределах национальных границ, порой не считаясь с интересами коренного населения, нарушая экологию, изменяя традиционный уклад жизни (с. 9–10). Именно благодаря попыткам понять особенности «внутренней колонизации» феномен империи снова стал важным центром внимания исследователей (с. 282). И здесь автор ссылается на работу профессора Бристольского университета Стивена Хоу5.
Еще одна особенность текста обращает на себя внимание – это написание слова ГУЛАГ, которое, как мы знаем, является аббревиатурой. В книге Джозефсона это ни аббревиатура, ни акроним, он использует его как имя нарицательное или имя прилагательное, пишет строчными буквами, тем самым подчеркивая некую обыденность его бытования и применения, его историческую принадлежность русскому новоязу: gulag projects, gulag camps, gulag bosses, gulag roots и т.д.
Практически во всех главах книги содержится отсылка к геополитическим интересам российской власти. В частности, на геополитические и военные императивы строительства железных дорог в восточных и северных регионах и освоения месторождений полезных ископаемых автор указывает, ссылаясь на неназванный им российский источник. Он утверждает, что национальная железнодорожная система продолжает расширяться, чтобы поддерживать добычу нефти, газа и угля, а не транспортировку пассажиров (с. 35). Таким образом, в первой же главе подчеркивается ресурсный характер государства, его экономики и политики, которым эта особенность присуща с давних времен. Даже если полезные ископаемые подвергаются переработке, как, например, в ОАО «Ямал СПГ», продукт идет на экспорт, газификация же российской территории достигает весьма скромных показателей. «Ресурсное проклятие» продолжает работать, и руководство, и граждане РФ все больше и больше признают, что у России нет какой-либо эффективной экономической стратегии, которая могла бы переформатировать экономику, кроме надежды на подорожание нефти и газа (с. 264).
Многие современные мегапроекты имеют корни в советском прошлом не только ментально, но и физически: их выполнение легло на плечи узников ГУЛАГа, слово которое Джозефсон пишет с прописных букв. Повествуя о тяжелых условиях работы узников ГУЛАГа на строительстве Трансполярной магистрали, он, видимо, чтобы усилить впечатление от циничности сталинского режима, упоминает выдающегося советского авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева – в книге он Андрей Королев (с. 44) – как одного из строителей. Это заблуждение: самолетостроитель Туполев никогда не работал на строительстве железной дороги, в отличие от выдающегося ракетостроителя С. П. Королева, который был арестован летом 1938 г., а после осуждения отбывал наказание на золотоносном прииске Мальдяк Сусуманского р-на Магаданской области.
Упоминание Беломорско-Балтийского канала в главе «Рельсы и ресурсы» в качестве средства пропаганды эффективности подневольного труда «на благо Родины» и как средства перевоспитания противников советской власти несколько сбивает стройность изложения, в основном относящегося к железнодорожному строительству. В целом мысль автора понятна, и видны его предпочтения как исследователя сталинского периода нашей истории, когда «великие стройки», основанные на принудительном труде заключенных, были обычным явлением. Для автора важно внушить читателю мысль о преемственности, историческом факте, что «практически все пассажирские поезда дальнего следования в России сегодня курсируют по путям, изначально проложенным зэками» (с. 46). Беломорско-Балтийский канал, оставаясь символом великой силы перевоспитания инакомыслящих общественно-полезным трудом, является, по мнению автора, неотъемлемой частью «технологического импульса»: в одном поколении россияне становились обитателями индустриальной державы, выросшей из крестьянского быта.
Еще одна область, в которой автор прослеживает преемственность с предыдущим периодом истории, – это проблемы экологии и социологии, возникающие и продолжающиеся на «великих стройках». «Магистрали, железные дороги и каналы меняют ландшафты разума и природы», – пишет Джозефсон, и нельзя не согласиться с ним. К настоящему времени влияние строительства железных дорог, трубопроводов, каналов и угольных разрезов на экосистемы, флору и фауну хорошо известно. Джозефсон пишет, что транспортные технологии изменяют традиционный быт населения во многом потому, что они отражают экономические, политические и военные стремления их создателей, влекущие необратимые изменения в отношениях, образе жизни коренных жителей и среды их обитания (с. 68).
Повествование об истории добычи угля в главе «Шахты и магнаты» как очередной «великой стройке» рисует не менее неприглядную картину. Автор пишет, что шахты грязны и опасны, многие рудники являются наследием ГУЛАГа. Этот раздел книги также насыщен описанием экологических проблем в угледобывающей отрасли. Несмотря на то, что добывающая промышленность имеет решающее значение для долгосрочных экономических планов России, в настоящее время у горнодобывающих компаний сложное положение. Нужно сказать, что горняки в Советском Союзе были рабочей элитой. Впервые они заявили о себе как оппозиция власти в годы перестройки, когда случился коллапс экономики, тогда шахтеры в числе первых высказали свое недовольство. Несомненно, добыча угля, залегающего на глубине, сопряжена с рисками, и аварии при несоблюдении мер безопасности нередки. В 1964 г. один из корифеев горного дела в России и СССР, член-корреспондент АН СССР Н. А. Чинакал написал статью «Шахта будущего». Он видел ее как «шахту коммунистического общества», а главными характеристиками ее являлись «высокая производительность труда, безопасность и экономичность». Но эти идеи так и остались на бумаге. Сегодня Донецкий бассейн практически не функционирует, а в Кузбассе набирает обороты добыча угля открытым способом, которая ведется с нарушением экологических норм. Причем зачастую издержки экологии не входят в систему ценообразования, и затраты на рекультивацию минимальны (с. 92, 121).
Технологии открытых карьеров приводят к тому, что люди живут, дышат и воспитывают детей практически в условиях экологической катастрофы: огромные карьеры и близлежащие реки и озера, питающие водопроводы, содержат рекреационную воду, насыщенную тяжелыми металлами, серой и золой. «Хвосты» угледобычи (пустая порода) заполняют овраги, а кучи шлака возвышаются над школами, магазинами и даже домами нуворишей. Уголь печально известен своим воздействием на здоровье населения и визуальным воздействием на качество жизни, особенно в Кузбассе. Это приводит к социальной напряженности, к протестам населения, о которых известно из российских СМИ. Катастрофические последствия аварий на шахтах также нашли место в книге, как и другие техногенные катастрофы, обусловленные пренебрежением мерами безопасности, слабым контролем над стареющим оборудованием. Автор подчеркивает, что добыча угля по-прежнему обеспечивает шестую часть энергии РФ, которая обладает вторыми по величине запасами угля после США. Уголь идет на экспорт, часть его используется на городских ТЭС. Но ни для кого не является секретом экологическая опасность, исходящая от сжигания бурого угла Канско-Ачинского бассейна. В целом автор приходит к выводу, что эта старая отрасль недостаточно капитализирована, сильно загрязняет окружающую среду и обладает высоким уровнем аварийности (с. 94).
В продолжение озабоченности Джозефсона можно обратить внимание на еще одну проблему горнодобывающей отрасли в Кузбассе, которая проявилась в поселке Шерегеш на юге Кемеровской области. Здесь в результате работы одного из самых крупных месторождений железной руды в России на территории поселка образуются все новые и новые провалы – огромные расползающиеся воронки, которые засасывают под землю все, что на ней стоит. Местечко знаменито на всю страну развивающимся горнолыжным курортом Шерегеш, который расположен неподалеку. В прошлом 2023 г. его посетили более 2 млн чел., и с каждым годом поток растет. Власти планируют развитие этой территории как курортной зоны, но как повлияет на эти планы угроза техногенной аварии, непонятно. Часть жителей поселка уже потеряла свои дома, а остальные пребывают в растерянности6. Согласно акторно-сетевой теории Б. Латура, природные объекты имеют равный с людьми статус в производстве действия7. Он настаивал, что «объекты природы не покорны по своей природе. Какой ученый скажет, что они полностью управляемы? Наоборот, они всегда сопротивляются контролю и вносят путаницу в наши планы»8.
В главе «Вода и империя» автор обращает внимание на не менее тревожную ситуацию с гидротехническими сооружениями – плотинами, каналами, ирригационными системами. Некоторые из них построены на основе проектов, задуманных царскими инженерами, в то время как современные гидротехнические сооружения выросли в размерах, масштабах и видах. Изменились орудия труда, которыми возводятся эти сооружения, ГУЛАГ сменили проектные институты, пишет Джозефсон, но цели остались прежними: «проекты водников облегчают столетний марш Кремля по огромным речным бассейнам России для организации транспортного сообщения, получения электроэнергии, обеспечения коммунальных услуг и в XXI веке» (с. 125). В современной России были и попытки возродить проект изменения русел сибирских рек 1970–1980-х гг., задуманный как «инкубатор русской колонизации в проектах националистов девятнадцатого века», но признанный экологически вредным. Значение воды возрастает, она стала прибыльным товаром. Китай ведет переговоры с Россией по проекту продажи воды из Алтайского края, которая будет перекачиваться по трубопроводу в регионы Нинся и Шаньси (с. 126).
Символизм и историзм гидротехнических проектов России Джозефсон видит в их сравнении с восточными деспотиями, которые держались на централизованном контроле над ирригационными системами, а также с периодом Великой депрессии 1930-х гг. в США, когда «специалисты по планированию предполагали, что электричество волшебным образом решит проблемы Великой депрессии и укрепит саму демократию <…> [проекты по ирригации] имеют общие черты просвещения масс и их волшебного избавления от бедности и отсталости» (с. 132). Вспомним: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». Крупные сооружения, такие как плотина «Три ущелья» в Китае или австралийский проект «Снежные горы», по мнению автора, демонстрируют, что «сталинские проекты не были результатом махинаций сумасшедшего, а были стандартным продуктом двадцатого века» (с. 133). Но какими бы ни были историографические дебаты, сталинская гидротехническая цивилизация была построена авторитарным правительством с использованием армии рабов, ее кульминацией стала Куйбышевская ГЭС, на момент завершения строительства в 1957 г. – крупнейшая плотина в мире. Техногенные катастрофы, подобные произошедшей на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 г., в результате которой погибли 75 чел., недавние катастрофические наводнения в Орске, на Алтае и в других регионах, подрывают веру в могущество инженерной мысли и также говорят о неприглядных сторонах деятельности человека (c. 127).
История «великих строек» в области высоких технологий – это создание атомных реакторов, ледоколов и других устройств с ядерной энергией, чему посвящена глава «Ядерная страна чудес». Советский атомный проект, гигантская шарашка, возникшая в конце 1940-х гг., являлась предшественником гражданских и военных программ Минсредмаша СССР – советского министерства атомной энергетики. Сегодня это мощная госкорпорация «Росатом». По мнению автора, это критически важно для российских геополитических интересов, экономической мощи и роста самооценки в обществе. Как и любой проект, описанный в этой книге, ядерные технологии – двуликий Янус. Опасности ядерного загрязнения в результате аварий (Чернобыль-1986, Фукусима-2011) не отменяют перспектив ядерной энергетики в области медицины, радиационной стерилизации продуктов питания, создания плавучих и мобильных атомных электростанций, ледоколов. Все это получило развитие в России, которая продолжает реализацию планов по открытию Северного морского пути для круглогодичного фрахта. Известно также, что на Росатом возложены обязанности по решению экологических проблем. В частности, в конце 2020 г. решением правительства РФ единственным исполнителем работ по подготовке проекта и ликвидации накопительного вреда окружающей среде от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (5,67 млн куб. м) поручено предприятию Росатома ФГУП «Федеральный экологический оператор», который должен выявить или разработать с помощью Сибирского отделения РАН технологии для рекультивации отходов БЦБК, применив локальные решения по каждой группе.
Ядерные отходы также представляют проблему. Как свидетельствуют источники, затопленные в арктическом регионе российские объекты с отработанным ядерным топливом и ядерными отходами «следует рассматривать в качестве источников потенциальной опасности, масштабы которой будут зависеть от состояния защитных барьеров, отделяющих радиоактивные вещества от морской среды, скорости их разрушения и дальнейших процессов переноса техногенных радионуклидов морской водой, включая воздействие на биоту и человека»9.
Не вдаваясь в дальнейшие подробности изложения, обратимся к выводам, которые составили последнюю, шестую главу и эпилог книги Джозефсона. Ссылаясь на социологические опросы, он приходит к выводу о том, что в современной России многие граждане испытывают сильную ностальгию по советской эпохе: по власти и авторитету правителей, мощи государства, по культурным традициям – в противоположность упадку Запада – и особенно по достижениям науки и техники (с. 243–266). Воспоминания о том, что СССР первым построил атомную электростанцию в 1954 г., первым побывал в космосе, запустив спутник в 1957 г. и отправив на орбиту первого человека в 1961 г., и прочих достижениях науки и техники напоминают о том, что все это обеспечивало небывалый международный престиж и поддерживало национальную гордость. И в настоящее время, приходит к выводу Джозефсон, мегапроекты призваны «обеспечить Кремль богатством и властью». «Великие стройки» отражают парадокс славной традиции инженерного мастерства в сочетании с грубыми методами эксплуатации природных ресурсов. Через все более закрытую систему политические лидеры, правительственные бюрократы, а также владельцы и менеджеры государственных корпораций и приватизированных коммунальных предприятий, строительных и нефтегазовых компаний продвигаются по территории страны и ее водным путям, чтобы контролировать ее минеральные и природные богатства. Государственные инспекции и регулирующие органы оказались в плену у тех отраслей, которые они призваны контролировать. Сегодняшние лидеры, как и при царях и большевиках, не сомневаются в том, что государственная власть нуждается в «великих стройках», чтобы подчинить российскую территорию прихоти Кремля.
В этой части книги Джозефсон вводит еще один термин – «ностальгическая инженерия» – увлечение советским технологическим прошлым, которое позволяет множеству людей переоценивать успехи, игнорировать неудачи и не задумываться о социальных и экологических издержках былых достижений. Ностальгия по прошлому величию, по мнению автора, имеет глубокие корни в российской ментальности. И вновь, справедливости ради, он приводит в качестве примера исследование американского историка Д. Ная, который в книге об опыте США по увлечению железными дорогами, мостами, плотинами, небоскребами и электрификацией описывает то, как люди реагируют на технологии. Исследователь выявил, что эта реакция сродни благоговению и восхищению, она помогает сплочению общества и способствует ощущению его «особости»10. Таким образом, автор обосновывает глубинные причины ностальгии по величию, коренящиеся в психологии людей. Он показывает, что ностальгия по величию бывает сильнее стремления к благополучию и спокойствию в разных слоях любого общества. Для российского общества, так же, как в свое время для советского, слова-лозунги «Первый в мире!», «Самый дальний Север!», «Первая полярная навигация!» имеют значение. Под лозунгом национальной миссии мегапроекты, которые, как убежден Джозефсон, в первую очередь приносят пользу центру, а не периферии, выполняются за счет провинций и укрепляют российскую власть. Тот факт, что современные «трубопроводы и железные дороги на полуострове Ямал, угольные шахты и гидроэлектростанции в Сибири, плавучие реакторы в Арктике и мост через Керченский пролив сделаны из одного и того же материала – бетона и стали – что и советские великие стройки» (с. 248), связывает их исторически, физически и духовно.
История пишется и переписывается. Находятся новые факты, либо проясняющие исторические события, либо поднимающие новые вопросы. Завершая это короткое эссе, представляющее замечательную, глубокую, но и небесспорную работу Пола Джозефсона, я бы хотела процитировать еще одну недавнюю книгу: «Пройдут десятилетия. Наше сегодняшнее время станет предметом скрупулезного изучения. Ученые-историки будут рыться в архивах, сопоставлять документы, статьи, и, наверное, даже ролики в Интернете <…> Большое видится на расстоянии, и какие-то оценки будут меняться, как это не раз бывало на протяжении нашей истории»11. Я цитирую школьный учебник, потому что в нем заключена квинтэссенция подходов к исторической реальности, дальней и близкой, принятых сегодня официально. В любом случае, нашим последователям есть и будет от чего оттолкнуться. Хочется еще раз подчеркнуть, что коллеги-историки других стран, и среди них Пол Джозефсон, внесли значительный вклад в изучение многих аспектов нашей истории, и даже если мы не всегда с ними полностью согласны, мы знаем, что наука – это поле для дискуссий.
1 Josephson P. R. Nuclear Russia. The Atom in Russian Politics and Culture. London; New York: Bloomsbury Academic, 2022 (Russian Shorts)..
2 Шлейнов Р. Как обсчитали «Газпром» // Vedomosti.ru. 26 августа 2013 г. (https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/08/26/kak-obschitali-gazprom).
3 Зеликин М. И. История вечнозеленой жизни. М.: Факториал пресс, 2001.
4 Вилков О. Н. Пушной промысел в Сибири // Наука в Сибири. 19 ноября 1999. № 45. С. 8.
5 Howe S. Imperial and Colonial History // https://archives.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/imperial_post_colonial_history.html
6 Поселок Шерегеш рядом с горнолыжным курортом проваливается под землю // https://www.youtube.com/watch?v=nLPUIK5xYUY.
7 Ерофеева М А. Акторно-сетевая теория и проблема социального действия // Социология власти. 2015. № 1. С. 17–36.
8 Latour В. When Things Strike Back: A Possible Contribution of ‘Science Studies’ to the Social Sciences // British Journal of Sociology. 2000. Vol. 51. No. 1. P. 107–123.
9 Саркисов А. А., Сивинцев Ю. В., Высоцкий В. Л., Никитин В. С. Атомное наследие холодной войны на дне Арктики. Радиоэкологические и технико-экономические проблемы радиационной реабилитации морей. М.: Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, 2015. С. 417.
10 Nye D. American Technological Sublime. Cambridge, MA: MIT Press, 1994.
11 Мединский В. Р., Торкунов А. В. История России. 1945 год – начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень. Учебник. М.: Просвещение, 2023. С. 414.
Об авторах
Ирина Александровна Крайнева
Институт систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: cora@iis.nsk.su
Россия, 630090, Новосибирск, пр. Академика Лавретьева, д. 6