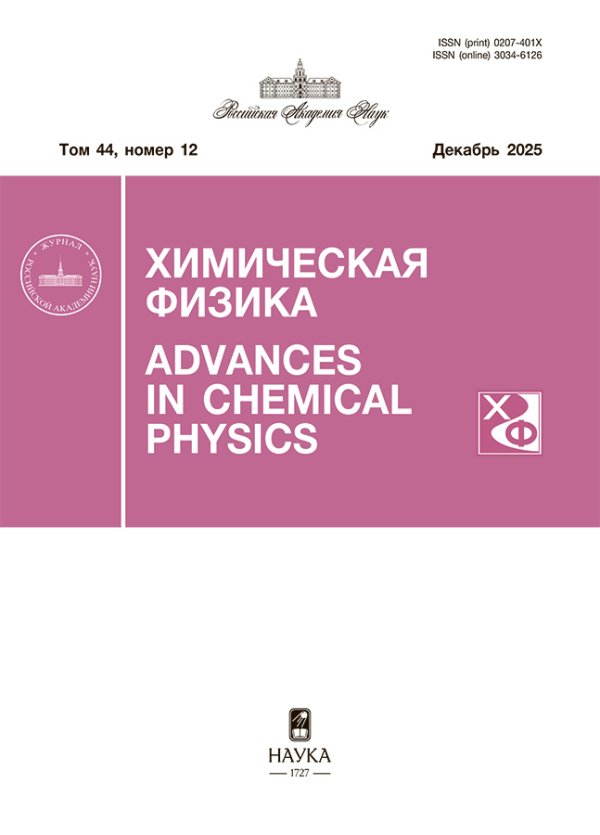Spectral model for calculation of radiation characteristics of shock heated gas
- Authors: Bykova N.G.1, Kusov A.L.1, Kozlov P.V.1, Gerasimov G.Y.1, Levashov V.Y.1, Zabelinsky I.E.1
-
Affiliations:
- Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 43, No 6 (2024)
- Pages: 33-40
- Section: Combustion, explosion and shock waves
- URL: https://journal-vniispk.ru/0207-401X/article/view/273061
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24060042
- ID: 273061
Cite item
Full Text
Abstract
The extended version of the previously developed computational procedure SPECTRUM is presented, which allows to calculate the radiation characteristics of a shock-heated gas, taking into account the decrease in the radiation intensity in an absorbing medium. The procedure is based on line-by-line calculation of the emission and absorption spectra of atoms and molecules that make up the gas mixture under study. When calculating the emission spectra of atoms and molecules, the values of spectroscopic constants were taken from known databases. The results of calculating the time-integrated spectral characteristics of shock-heated air are compared with the available experimental data obtained in the ultraviolet, visible, and infrared regions of the spectrum.
Full Text
1. ВВЕДЕНИЕ
Проблема защиты поверхностного слоя спускаемого космического аппарата (КА) от тепловых нагрузок при его движении в атмосфере Земли тесно связана с правильной оценкой конвективных и радиационных тепловых потоков к поверхности КА [1]. Конвективный тепловой поток при орбитальных скоростях движения КА является преобладающим [2]. Рост скорости входа КА в атмосферу Земли приводит к увеличению радиационной составляющей полного теплового потока, и при скоростях порядка суперорбитальной и выше радиационный и конвективный тепловые потоки становятся сравнимыми друг с другом [3].
Основными источниками информации по радиационным характеристикам ударно нагретого воздуха являются результаты обработки экспериментальных данных, полученных в ударных трубах [4–7]. Эта информация используется как для оценки тепловых потоков к поверхности космического аппарата, так и для тестирования различного рода физико-химических моделей, способных предсказать поведение высокотемпературного воздуха за фронтом сильной ударной волны (УВ).
Для расчета радиационных характеристик ударно-нагретого газа используются различные спектральные [8–10] и столкновительно-радиационные [11–16] модели. Среди спектральных моделей наибольшей популярностью пользуется вычислительная процедура NEQAIR [8], позволяющая выполнить полинейный (line-by-line) расчет спектров излучения и поглощения атомов и молекул, входящих в состав исследуемой газовой смеси. Данная модель часто используется в качестве радиационного блока в компьютерных программах, описывающих газодинамику течения [17–19]. В настоящей работе представлена расширенная версия разработанного ранее пакета прикладных программ SPECTRUM [20], которая позволяет рассчитывать радиационные характеристики высокотемпературного газа с учетом снижения интенсивности излучения в поглощающей среде.
2. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Считается, что в направлении поперек распространения УВ радиационные характеристики ударно нагретой среды моделируются однородными источниками излучения. При этом расчет наблюдаемой интенсивности излучения компонентов газа проводится с учетом ослабления мощности излучения при его распространении в поглощающей среде в соответствии с законом Ламберта–Бера (Lambert–Beer) [21]. Если предположить, что в исследуемом газе оптические параметры излучения, такие как мощность излучения B0(λ) и коэффициент поглощения k(λ), где λ – длина волны излучения, одинаковы в каждой точке вдоль линии наблюдения, то для мощности наблюдаемого суммарного излучения B(λ) на длине l с учетом поглощения получаем следующее выражение:
. (1)
Сделанное предположение вполне реалистично для случая наблюдения излучения УВ в поперечном направлении к ее распространению. Мощность излучения B0(λ), входящая в выражение (1), рассчитывалась по формуле Эйнштейна:
(2)
Здесь n и m – индексы верхнего и нижнего уровней дипольного перехода n → m; h – постоянная Планка; c – скорость света; Anm – коэффициент Эйнштейна для спонтанного излучения; Nn(Te) – заселенность уровня n; Te – температура заселенности электронных уровней; λnm – центральная длина волны для перехода n → m. Контур спектральной линии S(x), входящий в выражение (2) для исходной мощности излучения B0(λ), должен удовлетворять соотношению:
В рассматриваемом случае он описывается функцией Фойгта (Voigt), представляющей собой свертку гауссова (допплеровского), SG(x), и лоренцовского (дисперсионного), SL(x), распределения [22]:
Коэффициент поглощения k(λ), входящий в выражение (1) для наблюдаемой мощности излучения B(λ), рассчитывался по формуле:
(3)
где Nn – заселенность n-го уровня, которая в предположении больцмановского распределения по уровням вычисляется по формуле
. (4)
В выражении (4) N0(Te) – концентрация компоненты газа; En и gn – энергия и статистический вес уровня n; kB – постоянная Больцмана;
,
где суммирование ведется по всем энергетическим уровням компоненты газа.
При расчете спектров излучения атомов значения спектроскопических констант λnm, Anm, En, Em, gn, gm взяты из базы данных [23], где приведено порядка 4000 линий для атомов и ионов N, N+, O, O+, C и C+. Учтены также более поздние рекомендации, приведенные в базе данных NIST [24]. Уширение спектральных линий оценивалось с помощью упрощенной формулы, полученной в работе [25] и аппроксимирующей контур Фойгта с точностью не хуже 3%.
Расчет молекулярных спектров излучения проводился полинейным суммированием интенсивности излучения по всем вращательным линиям J′J″ соответствующего электронного перехода молекулы. Мощность излучения вращательной линии J′J″ рассчитывалась по формуле (2), в которой коэффициент Эйнштейна AJ’J’’ представляется в виде [26]:
(5)
где – и – длина волны и сила вращательной линии; J′ и J″ – вращательные квантовые числа верхнего и нижнего комбинирующих состояний; – символ Кронеккера. Для силы вращательной линии, входящей в формулу (5) для коэффициента Эйнштейна, использовалось выражение (6), справедливое в приближении Борна–Оппенгеймера:
, (6)
где r – межъядерное расстояние; De(r) – зависимость дипольного момента от межъядерного расстояния; v′ и v″ – колебательные квантовые числа верхнего и нижнего комбинирующих состояний; и – колебательные волновые функции верхнего и нижнего состояний; – факторы Хенля–Лондона. Значения коэффициентов Хенля–Лондона рассчитывались по алгоритму, описанному в работе [25].
Колебательные волновые функции находились из решения уравнения Шредингера:
, (7)
где Ev – энергия колебательного состояния v; Uef – эффективный потенциал; µ – приведенная масса молекулы. Потенциальная кривая энергии взаимодействия ядер при колебательном движении молекулы строилась на основе коэффициентов Данхема (Dunham), которые брались из базы данных RADEN [27]. Для малых значений колебательных квантовых чисел потенциальная кривая определялась методом RKR (Ridberg–Klein–Rees). Аппроксимация потенциальной кривой на большие значения колебательных квантовых чисел проводилась с использованием модифицированного потенциала Морзе. В уравнении Шредингера (7) учитывалось также влияние вращательного движения на колебательные волновые функции путем введения оператора центробежной энергии в выражение для эффективного потенциала Uef. Статистические суммы для молекулярных компонент вычислялись полинейным суммированием по всем вращательным линиям всех электронных состояний молекулы, спектроскопические константы для которых были взяты из справочника [28].
Наряду с коэффициентами Эйнштейна AJ′J′′ часто используются безразмерные величины – силы осцилляторов fJ′J′′, которые вычисляются по формуле
, (8)
Здесь me и e – масса и заряд электрона. В предположении независимости электронного, колебательного и вращательного движений молекулы, силы осцилляторов молекул, определяемых с помощью выражения (8), можно представить в виде: fJ′J′′ = f0S J′J′′. На рис. 1 в качестве примера показаны вычисленные значения величин f0 для молекул N₂ и молекулярных ионов N₂+, которые характеризуют интенсивность и спектральный диапазон полос излучения данных частиц газа. Перечень переходов в двухатомных молекулах, которые учитывались в дальнейших расчетах радиационных свойств ударно-нагретого воздуха, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Системы полос молекулярных компонентов, учитываемые в вычислениях
Молекула | Система полос | Переход | Спектральный диапазон, нм |
N₂ | 1-я положительная | B³Пg → A³Σu⁺ | 500–1100 |
2-я положительная | C³Пu → B³Пg | 250–450 | |
Бирге–Хопфилда I | b¹Пu → X¹Σ⁺g | 98–132 | |
Бирге–Хопфилда II | b¹Σ⁺u → X1Σ⁺g | 83–180 | |
N₂⁺ | 1-я отрицательная | B²Σ-u → X²Σ⁺g | 250–600 |
NO | ε | D²Σ⁺ → X²П | 166–350 |
δ | C²Пr → X²П | 160–570 | |
β | B²Пr → X²П | 170–450 | |
γ | A²Σ⁺ → X²П | 160–500 | |
O₂ | Шумана–Рунге | B³Σ-u → X³Σ-g | 200–400 |
CN | фиолетовая | B²Σ⁺ → X²Σ⁺ | 340–450 |
Для корректного сравнения расчетных спектров с наблюдаемыми проводилась свертка расчетного спектра с аппаратной функцией системы регистрации ударной трубы. Аппаратная функция представлялась в виде контура Фойгта с параметрами, выбранными из условия наилучшего совпадения с контуром изолированной спектральной линии.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Вычислительная процедура SPECTRUM, разработанная в настоящей работе, была использована для численного исследования радиационных характеристик ударно-нагретого воздуха. Результаты расчетов сравниваются с недавними экспериментальными данными, полученными на ударной установке DDST-M (modified double-diaphragm shock tube) Института механики МГУ в ультрафиолетовой и видимой областях спектра (λ = 190–670 нм) [29], в которой основной вклад в излучение дают молекулярные полосы, а также в видимой и ближней инфракрасной областях спектра (λ = 600–1100 нм) [30], где основной вклад в излучение дают атомарные линии азота и кислорода.
Рис. 1. Силы осцилляторов системы полос излучения: а – N₂(2+) и б – N⁺₂(1–).
Следует отметить, что зона неравновесного излучения за фронтом сильной УВ, где релаксационные процессы далеки от завершения, имеет достаточно узкий временной интервал. Как показывают результаты измерений на установке DDST-M [29], длительность неравновесного излучения при начальном давлении в камере низкого давления установки p₀ = 0.25 Торр и скоростях ударной волны VSW = 8 км/с и выше составляет величину порядка 0.1 мкс. При этом эффективное время процесса в несколько раз превышает длительность неравновесного излучения. Поэтому расчеты проводились с использованием равновесных значений концентраций компонентов ударно-нагретого воздуха [31].
Рис. 2. Сравнение расчетной (1) и экспериментальной (2) спектрограмм мощности излучения воздуха в ультрафиолетовой и видимой областях спектра при VSW = 10 км/с.
Сравнение спектрограммы объемной мощности излучения Bλ, измеренной в ударной трубе DDST-M в диапазоне длин волн излучения λ = = 190–670 нм, с соответствующей расчетной спектрограммой приведено на рис. 2. Данные получены при p₀ = 0.25 Торр и VSW = 10 км/с. Наблюдается достаточно хорошее согласие экспериментальных и расчетных данных. Следует отметить, что на экспериментальной спектрограмме, показанной на рис. 2, кроме полос молекул N₂, O₂, NO и молекулярных ионов N₂+ приведен ряд дополнительных полос, связанных с присутствием в исследуемом воздухе различных примесей, в частности углекислого газа. В первую очередь это относится к фиолетовой системе полос цианистого радикала CN и атомарным линиям углерода. Поэтому расчет системы радикальных полос CN, вносящей достаточно большой вклад в общую интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне спектра, проводился с использованием начальной концентрации атомов С, которая лучше всего моделирует экспериментальное поведение линий атомов углерода на длинах волн λ = 193 и 248 нм.
Рис. 3. Вклад различных молекулярных полос в излучение ударно-нагретого воздуха в ультрафиолетовой и видимой областях спектра при VSW = 10 км/с: 1 – NO; 2 – N₂(2+); 3 – N₂+(1–); 4 – CN.
Парциальный вклад основных молекулярных компонентов в спектрограмму мощности излучения ударно-нагретого воздуха в ультрафиолетовом и видимом спектральных диапазонах, рассчитанный при VSW = 10.0 км/с и p₀ = 0.25 Торр, показан на рис. 3. Видно, что наибольшую интенсивность излучения в этом спектральном диапазоне имеют молекулы NO (системы полос ε и δ), молекулы N₂ (вторая положительная система), молекулярные ионы N₂+ (первая отрицательная система) и радикалы CN (фиолетовая система). Система полос Шумана–Рунге, играющая основную роль в излучении чистого молекулярного кислорода в ультрафиолетовом диапазоне спектра, имеет низкую интенсивность.
Вклад радикала CN в спектр излучения ударно-нагретого воздуха существен только в области λ = 370–420 нм. Так как концентрация этого компонента газа в рассматриваемых условиях не превышает 10¹³ см⁻³ при общей концентрации 10¹⁷ см⁻³, его влияние на кинетику протекания физико-химических процессов невелико. Поэтому при обработке экспериментальных спектрограмм можно исключить из рассмотрения этот диапазон спектра. Похожие проблемы, связанные с появлением полос радикала CN на спектрограммах излучения воздуха, существуют и в других установках, в частности в электроразрядной ударной трубе EAST [32].
Рис. 4. Спектр излучения воздуха с высоким спектральным разрешением в диапазоне длин волн λ = 335–360 нм при VSW = 10.0 км/с: 1 – N₂(2+); 2 – N⁺₂ (1–); 3 – CN; 4 – эксперимент в DDST-M.
Спектрограмма мощности излучения, рассчитанная с высоким спектральным разрешением в узком диапазоне длин волн λ = 335–360 нм при VSW = 10.0 км/с и p₀ = 0.25 Торр, представлена на рис. 4. Видно, что поведение отдельных спектральных кривых достаточно точно воспроизводит экспериментально измеренные в ударной трубе DDST-M флуктуации интенсивности излучения.
Результаты расчета объемной мощности излучения Bλ в диапазоне длин волн λ = 700–1100 нм, который соответствует видимой и ближней инфракрасным областям спектра, приведены на рис. 5, где для сравнения показаны экспериментальные данные, измеренные в ударной трубе DDST-M [30]. Рассчитанная и измеренная спектрограммы получены при p₀ = 0.25 Торр и VSW = 10 км/с. Основной вклад в излучение в рассматриваемом диапазоне длин волн вносят атомные линии азота и кислорода в отличие от соответствующих спектрограмм для ультрафиолетового диапазона, показанных на рис. 2, где в основном регистрируется излучение молекулярных полос.
Рис. 5. Сравнение результатов расчета (1) мощности излучения ударно-нагретого воздуха в видимой и ближней инфракрасной областях спектра с экспериментальными данными (2) при VSW = 10 км/с.
Экспериментальная спектрограмма позволяет идентифицировать серию мультиплетов атома азота с максимумами интенсивности на длинах волн λ = 747, 822, 868, 939, 986, 10¹¹ и 1054 нм, а также серию мультиплетов атома кислорода с максимумами интенсивности при λ = 725, 777, 822, 845, 882 и 926 нм [24]. Анализ рис. 5 показывает, что расчетные данные хорошо воспроизводят поведение экспериментальной спектрограммы как по абсолютным значениям интенсивности излучения, так и по локализации максимумов интенсивности спектральных линий атомов азота и кислорода.
Рис. 6. Спектр излучения воздуха с высоким спектральным разрешением в диапазоне длин волн λ = 850–875 нм при VSW = 10,0 км/с: 1 – результаты расчета, 2 – экспериментальные данные.
На рис. 6 представлена часть спектрограммы, изображенной на рис. 5, которая соответствует мультиплету атома азота с максимумом интенсивности на длине волны λ = 868.3 нм. Более высокое разрешение показывает, что мультиплет, представленный на рис. 5 одним пиком, распадается на серию линий разной интенсивности. Мультиплет описывает переход с уровня 2s²2p²(³P)³P на уровень 2s²2p²(³P)3s и состоит из десяти линий в диапазоне длин волн от 856.8 до 871.9 нм. Наблюдается довольно хорошее согласие экспериментальных и расчетных данных.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная в настоящей работе вычислительная процедура SPECTRUM была использована для численного моделирования радиационных характеристик воздуха за сильной УВ. Исследована ультрафиолетовая и видимая области спектра (λ = 190–670 нм), в которых основной вклад в излучение дают молекулярные полосы, а также видимая и ближняя инфракрасная области спектра (λ = 600–1100 нм), где основной вклад в излучение дают атомарные линии азота и кислорода.
Результаты расчетов, проведенных при начальном давлении p₀ = 0.25 Торр и скорости ударной воны VSW = 10 км/с, сравниваются с недавними экспериментальными данными, полученными на ударной установке DDST-M Института механики МГУ. Показано, что расчетные данные хорошо воспроизводят поведение экспериментальных спектрограмм излучения как по абсолютным значениям интенсивности излучения, так и по локализации максимумов интенсивности спектральных полос молекул N₂, O₂ и NO, цианистого радикала CN, молекулярных ионов N₂+, а также спектральных линий атомов азота и кислорода.
Работа выполнена в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации “Экспериментальное и теоретическое исследование кинетических процессов в газах” (тема № АААА-А19-119012990112-4) при частичной финансовой поддержке Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 23-19-00096).
About the authors
N. G. Bykova
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Email: levashovvy@imec.msu.ru
Russian Federation, Moscow
A. L. Kusov
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Email: levashovvy@imec.msu.ru
Russian Federation, Moscow
P. V. Kozlov
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Email: levashovvy@imec.msu.ru
Russian Federation, Moscow
G. Ya. Gerasimov
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Email: levashovvy@imec.msu.ru
Russian Federation, Moscow
V. Yu. Levashov
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: vyl69@mail.ru
Russian Federation, Moscow
I. E. Zabelinsky
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Email: levashovvy@imec.msu.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Uyanna O., Najafi H. // Acta Astronaut. 2020. V. 176. P. 341.
- Zhao Y., Huang H. // Ibid. 2020. V. 169. P. 84.
- Surzhikov S.T. // Rus. J. Phys. Chem. B 2010. V. 4. P. 613.
- Reyner P. // Prog. Aerospace Sci. 2016. V. 85. P. 1.
- Gu S., Olivier H. // Prog. Aerospace Sci. 2020. V. 113. No. 100607.
- Zabelinskii I.E., Kozlov P.V., Akimov Yu.V., Bykoba N.G., Gerasimov G.Ya., Tunik Yu.V., Levashov V.Yu. // Rus. J. Phys. Chem. B 2021. V. 15. P. 963.
- Gerasimov G.Ya., Kozlov P.V., Zabelinsky I.E., Bykova N.G., Levashov V.Yu. // Rus. J. Phys. Chem. B 2022. V. 16. P. 642.
- Whiting E., Park C., Liu Y., Arnold J., Paterson J. // NASA Ref. Publ. 1996. № 1389.
- Johnston C.O., Hollis B.R., Sutton K. // J. Spacecraft Rockets. 2008. V. 45. № 5. P. 865.
- Kumar N., Bansal A. // Acta Astronaut. 2023. V. 205. P. 172.
- Johnston C.O., Hollis B.R., Sutton K. // J. Spacecr. Rockets. 2008. V. 45. P. 879.
- Lemal A., Jacobs C.M., Perrin M.-Y. et al. // J. Thermophys. Heat Transf. 2016. V. 30. P. 197.
- Karpuzcu I.T., Jouffray M.P., Levin D.A. // J. Thermophys. Heat Transf. 2022. V. 36. P. 982.
- Du Y.W., Sun S.R., Tan M.J et al. // Acta Astronaut. 2022. V. 193. P. 521.
- Dikalyuk A.S., Surzhikov S.T., Kozlov P.V., Shatalov O.P., Romanenko Y.V. AIAA Paper. 2013. № 2013–2505.
- Umanskii S.Y., Adamson S.O., Vetchinkin A.S., Deminskii M.A., Olkhov O.A., Chaikina Y.A., Shushin A.I., Golubkov M.G. // Rus. J. Phys. Chem. B 2023. V. 7. P. 346.
- Zhu T., Li Z., Levin D.A. // J. Thermophys. Heat Transfer. 2014. V. 28. P. 623.
- Gimelshein S.F., Wysong I.J., Fangman A.J. et al. // Ibid. 2022. V. 36. P. 870.
- Kozlov P.V., Kusov A.L., Bykova N.G., Zabelinskii I.E., Levashov V.Yu., Gerasimov G.Ya. // Rus. J. Phys. Chem. 2023. V. 17. P. 456.
- Bykova N.G., Kuznetsova L.A. // Opt. Spectrosc. 2008. V. 105. P. 668.
- Wayne R.P. Principles and Applications of Photochemistry. Oxford University Press, Oxford, 1088.
- Nordebo S. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 2021. V. 270. № 107715.
- Surzhikov S.T. AIAA Paper. 2002. № 2002–2898.
- NIST Atomic Spectra Database, Ver. 5.10. Gaithersburg: NIST, 2021.
- https://doi.org/10.18434/T4W30F
- Arnold J.O., Whiting E.E., Lyle G.C. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 1969. V. 9. P. 775.
- Kuznetsova L.A., Kuzmenko N.E., Kuzyakov Yu.Ya., Plastinin Yu.A. Probabilities of optical transitions of diatomic molecules. Nauka, Moscow, 1980.
- Kuznetsova L.A., Surzhikov S.T. // Math. Model. 1998. V. 36. № 5. P. 15.
- Glushko V.P. (Ed.). Thermodynamic Properties of Individual Substances, V. II. Nauka, Moscow, 1979.
- Kozlov P.V., Zabelinsky I.E., Bykova N.G., Gerasimov G.Ya., Levashov V.Yu. // Fluid Dynamics. 2022. V. 57. P. 780.
- Kozlov P.V., Zabelinsky I.E., Bykova N.G., Gerasimov G.Ya., Levashov V.Yu. // Fluid Dynamics. 2022. V. 58. P. 573.
- Surzhikov S.T. // Phys.-Chem. Kinet. Gaz. Dynam. 2022. V. 23. № 4. P. 1.
- Johnston C.O. AIAA Paper. 2008. № 2008–1245.
Supplementary files