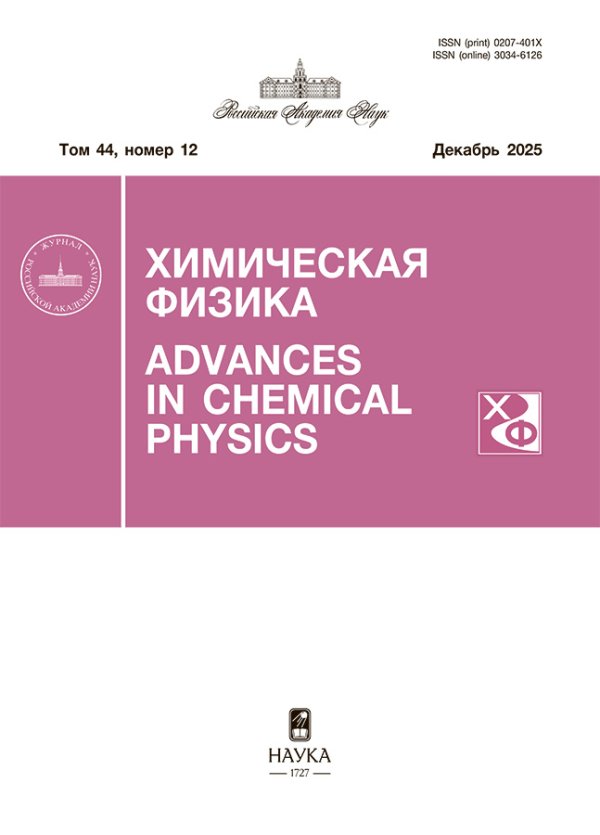Влияние индуцированного гипохлоритом окисления на структуру фибриногена, самосборку фибрина и фибринолиз
- Авторы: Юрина Л.В.1, Васильева А.Д.1, Евтушенко Е.Г.2, Гаврилина Е.С.1, Обыденный С.И.3,4, Чабин И.А.3,5, Индейкина М.И.1, Кононихин А.С.6,7, Николаев Е.Н.6,7, Розенфельд М.А.1
-
Учреждения:
- Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- “Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева” Минздрава России
- Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской академии наук
- Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
- Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
- “Сколковский институт науки и технологий”
- Выпуск: Том 43, № 4 (2024)
- Страницы: 81-87
- Раздел: Химическая физика биологических процессов
- URL: https://journal-vniispk.ru/0207-401X/article/view/266399
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24040109
- EDN: https://elibrary.ru/VEBMSO
- ID: 266399
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена изучению структурно-функциональных повреждений фибриногена, обработанного гипохлоритом HOCl в диапазоне его концентраций (10–100 мкМ). Методом тандемной масс-спектрометрии обнаружено 15 модифицированных аминокислотных остатков, демонстрирующих дозозависимую чувствительность к воздействию окислителя. Методами турбидиметрии и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии показано, что окисление фибриногена под действием 25–100 мкМ HOCl приводит к образованию более плотного сгустка, отложенному началу полимеризации и уменьшению наклона полимеризационной кривой предположительно за счет конформационных изменений в молекуле белка. В то же время при низкой концентрации HOCl (10 мкМ) по меньшей мере шесть аминокислотных остатков уже значимо модифицированы (на 9–29%), но функционально такой окисленный белок не отличим от нативного. Предполагается, что обнаруженные аминокислотные остатки могут играть роль поглотителей активных форм кислорода, препятствующих нарушению функций фибриногена.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Фибриноген (ФГ), гликопротеин с молекулярной массой 340 кДа, играет ключевую роль в формировании фибриновой сети и агрегации тромбоцитов. Недавние данные указывают на то, что при некоторых патологических состояниях окислительный стресс способствует образованию сгустков с аномальной структурой. Окисление ФГ способствует образованию плотного тромбогенного сгустка, устойчивого к плазминовому гидролизу [1]. Эта модифицированная фибриновая сеть может в значительной степени способствовать развитию тромбов.
Хлорноватистая кислота (HOCl) является сильным окислителем, обладающим мощными антибактериальными свойствами, и продуцируется in vivo активированными лейкоцитами как часть системы иммунной защиты млекопитающих [2]. С другой стороны, HOCl задействована в процессах повреждения тканей, которые наблюдаются при широком спектре воспалительных заболеваний, включая атеросклероз, муковисцидоз, болезнь почек и нейродегенеративные заболевания. Обычно при окислении белковых молекул под действием HOCl наблюдаются модификации аминокислотных остатков (АКО) Met, Cys, боковых цепей ароматических АКО (преимущественно Trp) и хлорирование боковых цепей Tyr [3].
В ранее проведенных работах нами были выявлены участки окислительных модификаций молекулы фибриногена при индуцированном окислении. Был проанализирован вклад этих модификаций в нарушение структуры и функции исследуемого белка [4–6]. Полученные данные демонстрировали способность молекулы ФГ сохранять структурную целостность функционально важных АКО при окислении. Это позволило нам сделать вывод о том, что структура ФГ адаптирована к действию активных форм кислорода (АФК), и предположить, что некоторые АКО выполняют функцию внутримолекулярных перехватчиков АФК, не влияющих на биологическую функцию белка. Цель данной работы – выявление таких сайтов модификации с использованием низких концентраций окислителя. Также в рамках данной работы с помощью методов турбидиметрии и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (КЛСМ) были исследованы кинетика формирования и статичная структура фибринового сгустка, а также кинетика плазминового гидролиза гелей в норме и при окислении.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Материалы и методы
Объединенный пул образцов донорской плазмы крови был получен от ФГБУ “НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева” Минздрава России. Фибриноген был выделен из цитратной плазмы крови методом глицинового осаждения [7] и обработан (1 мг/мл) HOCl с разными концентрациями (0, 10, 25, 50 и 100 мкМ) в течение1 ч при температуре 37 °C. Реакцию останавливали путем добавления десятикратного избытка L-метионина [8–10].
Окислительные сайты выявляли с помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС/МС) на системе, состоящей из хроматографа Dionex Ultimate 3000 производства компании Thermo Fisher Scientific (USA), соединенного с масс-спектрометром TIMS TOF Pro компании Bruker Daltonics, (USA) [11]. При подготовке проб образцы обрабатывались дитиотреитолом для восстановления дисульфидных связей c последующим алкилированием йодацетамидом и гидролизом трипсином (Promega, USA). Все эксперименты повторялись трижды. Триптические пептиды были идентифицированы с помощью программного обеспечения PEAKS Studio (V. 8.5, Bioinformatics Solutions Inc., Waterloo, On, Canada). Процент окислительной модификации АКО рассчитывали как количество пептидов, содержащих данную окисленную аминокислоту, нормированное на сумму всех форм пептида (окисленных и неокисленных), содержащих этот аминокислотный остаток. Каждый из АКО, чей прирост процента окисления по сравнению с контролем составлял не менее 1%, считался модифицированным.
Скорость полимеризации фибрина и изменения мутности сгустка при гидролизе оценивали в течение 1 ч на спектрофотометрепри длине волны λ = 350 нм. Полимеризацию фибрина инициировали путем добавления к 200 мкл раствора ФГ (1 мг/мл) 50 мкл раствора тромбина (0.5 ед./мл) [12]. При измерении скорости гидролиза к смеси ФГ и тромбина добавляли 30 мкл плазминогена (0.1 мг/мл) и 2.5 мкл стрептокиназы (0.05 мг/мл) [13]. Все растворы были приготовлены в буфере, содержащем 44 мМ HEPES, 150 мM NaCl, 5 мM CaCl2, при pH 7.4.
Визуализацию статичной структуры фибринового сгустка, а также кинетики плазминового гидролиза гелей проводили методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопии с использованием флуоресцентной метки флуоресцеин изотиоционата (ФИТЦ). В первом типе экспериментов использовали ФГ с добавкой ФИТЦ–ФГ, во втором – немеченый ФГ и ФИТЦ–плазминоген. Получение конъюгатов белков с ФИТЦ проводили в 0.1 М бикарбонатном буфере (pH 9.0) в течение 2 ч при (+4 °C) и постоянном перемешивании. Реакцию останавливали получасовой инкубацией с 30 мМ гидроксиламин гидрохлорида (pH 8.5). Для очистки конъюгата от непрореагировавшей метки смесь центрифугировали в течение 1 мин при 16000 g на микроцентрифужных колонках с Sephadex G-25. Степень мечения и концентрацию белка контролировали спектрофотометрически.
Для изучения статичной структуры фибринового геля к смеси немеченого и ФИТЦ-меченого ФГ соотношении (9 : 1) добавляли тромбин (5 нM) и CaCl2 (5 мМ), общий объем образца доводили до 60 мкл буфером 20 мM HEPES с pH 7.4, содержащим 140 мM NaCl, и инкубировали в течение 1 ч при +37 °C во влажной камере. Для получения микрофотографий использовали микроскоп Zeiss Axio Observer Z1 с конфокальным модулем CSU-X1M 5000 производства компании Carl Zeiss, Jena (Germany) с масляным объективом 100×.
Для визуализации кинетики гидролиза фибринового геля и распределения плазмина в сгустке смешивали 3 мкM ФГ, 5 мM СаCl2, 5 нМ тромбина, 0.3 мкM ФИТЦ–плазминогена и стрептокиназу (соотношение стрептокиназы к плазминогену 1 : 50 в финальном разведении) [14]. Общий объем образца доводили до 60 мкл буфером 20 мM HEPES с pH 7.4, содержащим 140 мM NaCl. Съемку сгустка проводили с интервалом в 30 с (отсчет времени от добавления тромбина) с использованием того же микроскопа.
Результаты
Методом масс-спектрометрии были проанализированы образцы нативного ФГ и обработанного гипохлоритом в следующих концентрациях 10, 25, 50 и 100 мкМ НОCl. Дозозависимый прирост окисления продемонстрировали 15 детектированных АКО: AαMet91, AαMet207, AαMet240, AαMet476, AαMet517, AαMet584, BβMet190, BβMet305, BβMet361, BβMet367, BβMet426, γMet78, γMet94, γMet89, γMet264. Среди модификаций, обнаруженных в этих АКО, имеются случаи образования метионина сульфоксида и метионина сульфона вследствие присоединения одного (изменение монотопной массы составляет +15.99) или двух (+31.99) атомов кислорода к боковой цепи и отщепления метантиола от боковой цепи Met (–48.00), см. табл. 1. Модифицированные в результате индуцированного окисления АКО были обнаружены во всех трех полипептидных цепях и всех структурных областях молекулы ФГ (рис. 1), за исключением Е-области.
Таблица 1. Обнаруженные детектированные модификации аминокислотных остатков (АКО) молекулы фибриногена и соответствующие изменения моноизотопной массы при концентрации HOCl 10, 25, 50 и 100 мкМ
АКО | Прирост количества пептидов, содержащих модифицированный АКО, ٪ | Тип модификации | Изменение моноизотопной массы | |||
10 | 25 | 50 | 100 | |||
Aα-цепь | ||||||
Met91 | 2 | 5 | 8 | 39 | +O; –CH3SH | +15.99; –48.00 |
Met207 | 6 | 8 | 12 | 46 | +O; –CH3SH | +15.99; –48.00 |
Met240 | 5 | 6 | 10 | 38 | +O; –CH3SH | +15.99; –48.00 |
Met476 | 9 | 14 | 41 | 53 | +O | +15.99 |
Met517 | 16 | 22 | 41 | 48 | +O | +15.99 |
Met584 | 9,9 | 22 | 70 | 82 | +O | +15.99 |
Bβ-цепь | ||||||
Met190 | 1 | 3 | 12 | 28 | +O; –CH3SH | +15.99; –48.00 |
Met305 | 2 | 5 | 11 | 30 | +O; –CH3SH | +15.99; –48.00 |
Met361 | 0 | 2 | 4 | 9 | +O; +2O | +15.99; +31.99 |
Met367 | 17 | 15 | 39 | 70 | +O | +15.99 |
Met426 | 0 | 0 | 6 | 12 | +O | +15.99 |
γ-цепь | ||||||
Met78 | 0 | 0 | 3 | 19 | +O | +15.99 |
Met89 | 1 | 2 | 7 | 12 | +O | +15.99 |
Met94 | 29 | 43 | 63 | 71 | +O | +15.99 |
Met264 | 12 | 28 | 27 | 27 | +O | +15.99 |
Рис. 1. Схематическое изображение полипептидных цепей фибриногена с отмеченными сайтами модификаций.
Скорость полимеризации фибрина оценивали по изменению мутности при λ = 350 нм. (pис. 2а и табл. 2). При повышении концентрации окислителя HOCl наблюдаются отсроченное время начала полимеризации и уменьшение максимального наклона полимеризационной кривой, что свидетельствует о замедлении процесса гелеобразования. Также значительно снижается значение максимальной оптической плотности (на 9% при [HOCl] = 25 мкМ, на 46% при [HOCl] = 50 мкМ, и на 92% при [HOCl] = 100 мкМ), т.е. гель становится более прозрачным, что указывает на изменение его структуры.
Рис. 2. Репрезентативные кривые катализируемой тромбином полимеризации фибрина (а) и фибринолиза (б)при следующих значениях [HOCl] в мкМ: 1 – 0, 2 – 10, 3 – 25, 4 – 50, 5 – 100.
Таблица 2. Характеристики кривой полимеризации фибринa
Концентрация HOCl, мкМ | Максимальная оптическая плотность при λ = 350 нм | Время начала полимеризации, с | Максимальный наклон кривой (полимеризация), D350, 10–3 с–1 |
0 | 0.65 | 17 | 3.4 |
10 | 0.63 | 17 | 3.3 |
25 | 0.59 | 23 | 2.7 |
50 | 0.35 | 25 | 1.8 |
100 | 0.05 | 33 | 0.1 |
При измерении мутности при гидролизе сгустка (рис. 2б и табл. 3), начиная с концентрации 25 мкМ HOCl, в образцах наблюдается снижение максимальной оптической плотности, при концентрации окислителя 50 мкМ происходит значительный сдвиг максимума оптической плотности кривой во времени в сторону увеличения. При концентрации HOCl 25 мкМ скорость снижается в 1.2 раза по сравнению с контролем, а при [HOCl] = 100 мкМ – в 3.2 раза.
Таблица 3. Характеристики кривой гидролиза фибринового геля
Концентрация HOCl, мкМ | Максимальная оптическая плотность при λ = 350 нм | Время начала полимеризации, с | Максимальный наклон кривой (гидролиз), D350, 10–3 с–1 |
0 | 0.23 | 330 | 0.53 |
10 | 0.24 | 330 | 0.53 |
25 | 0.19 | 330 | 0.43 |
50 | 0.17 | 390 | 0.4 |
100 | 0.09 | 450 | 0.17 |
Полученные методом КЛСМ изображения фибринового геля из ФИТЦ-меченого фибриногена позволяют визуализировать изменения в статической структуре сгустка (рис. 3, левый столбец). Образцы гелей, полученных из нативного и обработанного 10 мкМ гипохлорита, не показали значительных различий в структуре. При [HOCl] = 25 и 50 мкМ отчетливо видно уплотнение геля и меньший размер гелевых пор по сравнению с нативным образцом. При повышении концентрации HOCl до 100 мкМ не удалось получить фибриновые гели с выраженной структурой.
Рис. 3. Изменение статичной структуры фибринового сгустка (левый столбец; при концентрации HOCl 0, 10, 25, 50 мкМ) и динамика распределения плазмин(оген)а при фибринолизе (столбцы 2–4).
Для исследования методом КЛСМ кинетики гидролиза фибринового геля и распределения в нем плазмина гель получали из немеченого ФГ. На первом этапе ФИТЦ-меченный плазмин(оген) связывается с волокнами фибрина, визуализируя структуру сети. С течением времени происходит гидролиз геля (рис. 3, столбцы 2–4). Нативный ФГ и обработанный 10 мкМ HOCl демонстрируют схожую динамику: визуализация фибриновой сети начинается уже с конца первой минуты, к 5-й минуте сеть визуализирована полностью, а к 10-й минуте наблюдается почти полный ее гидролиз. Для ФГ, обработанного 25 и 50 мкМ окислителя, процессы визуализации геля и его гидролиза в существенной мере замедлены.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При исследовании молекулы фибриногена методом ВЭЖХ–МС/МС дозозависимую чувствительность к воздействию окислителя продемонстрировали 15 АКО. Ранее сообщалось, что метионины AαMet476, BβMet367 и γMet78 наиболее склонны к воздействию HOCl [1]. Десять из детектированных АКО, модифицированных OCl–, наблюдали ранее при обработке гипохлоритом: AαMet91, AαMet207, AαMet476, AαMet517, BβMet367, BβMet426, γMet78, γMet94, γMet89, γMet264 [4].
Методом турбидиметрии было зафиксировано снижение значения максимальной оптической плотности сгустка и замедление процесса фибринолиза при концентрации окислителя 25–100 мкМ. Уменьшение мутности фибринового геля свидетельствует о повышении плотности сети за счет образования более тонких фибрилл. Известно, что фибриновые гели с приобретенной в результате окисления уплотненной структурой проявляют повышенную резистентность к плазминовому гидролизу [1]. Полученные данные были визуализированы и подтверждены методом КЛСМ. Все детектированные АКО, принадлежащие функционально значимым областям фибриногена [15–17], оставались незатронутыми окислением. На основе этого можно предположить, что изменения структуры фибринового сгустка, нарушения в процессе полимеризации и фибринолиза при окислении обусловлены конформационными перестройками в окисленном белке, а не являются следствием прямого повреждения функциональных участков молекулы.
Описанные выше функциональные нарушения не были обнаружены при обработке ФГ окислителем HOCl с концентрацией 10 мкМ. Однако при анализе ВЭЖХ–МС/МС были детектированы 13 окислительных модификаций, среди которых AαMet476, AαMet517, AαMet584, BβMet367, γMet94, γMet264 были уже значимо модифицированы (прирост на 9, 16, 10, 17, 29 и 12% по сравнению с контролем соответственно). Мы предполагаем, что этот набор АКО может выполнять роль перехватчика АФК, предотвращая нарушения функции молекулы ФГ в результате окисления.
В работе использовали оборудование ЦКП ИБХФ РАН.
Исследование было проведено при поддержке грантом Российского научного фонда № 21-74-00146.
Об авторах
Л. В. Юрина
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: lyu.yurina@gmail.com
Россия, Москва
А. Д. Васильева
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук
Email: lyu.yurina@gmail.com
Россия, Москва
Е. Г. Евтушенко
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: lyu.yurina@gmail.com
Химический факультет
Россия, МоскваЕ. С. Гаврилина
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук
Email: lyu.yurina@gmail.com
Россия, Москва
С. И. Обыденный
“Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева” Минздрава России; Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской академии наук
Email: lyu.yurina@gmail.com
Россия, Москва; Москва
И. А. Чабин
“Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева” Минздрава России; Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Email: lyu.yurina@gmail.com
Россия, Москва; Москва
М. И. Индейкина
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук
Email: lyu.yurina@gmail.com
Россия, Москва
А. С. Кононихин
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук; “Сколковский институт науки и технологий”
Email: lyu.yurina@gmail.com
Россия, Москва; Москва
Е. Н. Николаев
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук; “Сколковский институт науки и технологий”
Email: lyu.yurina@gmail.com
Россия, Москва; Москва
М. А. Розенфельд
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук
Email: lyu.yurina@gmail.com
Россия, Москва
Список литературы
- Weigandt K.M., White N., Chung D. et al. // Biophys. J. 2012. V. 103. № 11. P. 2399. https://doi.org/10.1016/j.bpj.2012.10.036
- Klebanoff S.J. // J. Leukocyte Biology. 2005. V. 77. № 5. P. 598. https://doi.org/10.1189/jlb.1204697
- Hawkins C.L., Pattison D.I., Davies M.J. // Amino Acids. 2003. V. 25. № 3–4. P. 259. https://doi.org/10.1007/s00726-003-0016-x
- Yurina L.V., Vasilyeva A.D., Bugrova A.E. et al. // Dokl Biochem Biophys. 2019. V. 484. № 1. P. 37. https://doi.org/10.1134/S1607672919010101
- Yurina L.V., Vasilyeva A.D., Indeykina M.I. et al. // Free Radical Research. 2019. V. 53. № 4. P. 430. https://doi.org/10.1080/10715762.2019.1600686
- Васильева А.Д., Юрина Л.В., Азарова Д.Ю. и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 2. C. 51. https://doi.org/10.31857/S0207401X220201455
- White N.J., Wang Y., Fu X. et al. // Free Radical Biol.Med. 2016. V. 96. P. 181. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2016.04.023
- Lau W.H., White N.J., Yeo T.W. et al. // Sci Rep. 2021. V. 11. № 1. P. 15691. https://doi.org/10.1038/s41598-021-94401-3
- Щеголихин А.Н., Васильева А.Д., Юрина Л.В. и др. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 2. С. 66. https://doi.org/10.31857/S0207401X21020151
- Вассерман Л.А., Юрина Л.В., Васильева А.Д. и др. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 11. С. 59. https://doi.org/10.31857/S0207401X21110108
- Васильев Е.С., Карпов Г.В., Шартава Д.К. и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 5. С. 10. https://doi.org/10.31857/S0207401X22050119
- Weisel J.W., Nagaswami C. // Biophys. J. 1992. V. 63. № 1. P. 111. https://doi.org/10.1016/S0006-3495(92)81594-1
- Kaufmanova J., Stikarova J., Hlavackova A. et al. // Antioxidants. 2021. V. 10. № 6. P. 923. https://doi.org/10.3390/antiox10060923
- Sakharov D.V., Nagelkerke J.F., Rijken D.C. // Biol. Chem. 1996. V. 271. № 4. P. 2133. https://doi.org/10.1074/jbc.271.4.2133
- Pechik I., Madrazo J., Mosesson M.W. et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2004. V. 101. № 9. P. 2718. https://doi.org/10.1073/pnas.0303440101
- Weisel J.W., Litvinov R.I. // Fibrous Proteins: Structures and Mechanisms. Cham: Springer Intern. Publ. 2017. V. 82. P. 405. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49674-0_13
- Medved L., Weisel J.W. // Thromb Haemost. 2022. V. 122. № 8. P. 1265. https://doi.org/10.1055/a-1719-5584
Дополнительные файлы