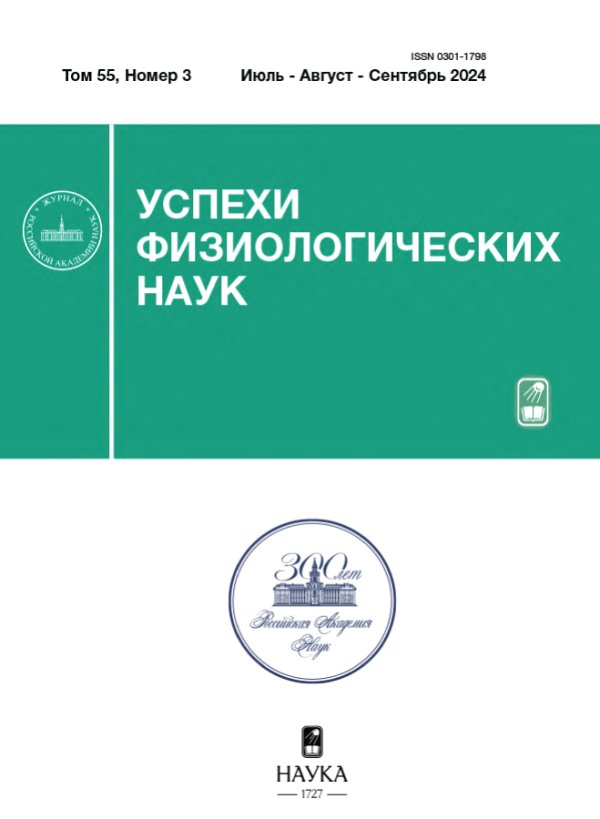Autophagy in the nervous system: general principles and specific functions
- Authors: Churilova A.V.1
-
Affiliations:
- Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 55, No 3 (2024)
- Pages: 75-93
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0301-1798/article/view/268477
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0301179824030056
- EDN: https://elibrary.ru/BBDSQB
- ID: 268477
Cite item
Full Text
Abstract
Autophagy is an intracellular mechanism for the isolation, transport and degradation of macromolecules and organelles. The physiological significance of autophagy lies, firstly, in maintaining the constancy of the intracellular environment through the timely disposal of proteins with a disrupted structure and damaged organelles. Secondly, due to the selective degradation of macromolecules, autophagy supplies the cell with monomers, which are then used by it to synthesize new compounds, which serves to ensure the rearrangement of cellular metabolism in the processes of cell differentiation, ontogenesis and adaptation to environmental challenges. Autophagy is an extremely important mechanism for maintaining normal functioning of postmitotic and differentiated cells, including neurons. Impaired neuronal autophagy leads to the formation of aggregated protein plaques, the accumulation of damaged cellular organelles, defects in the structure of processes and neuronal degeneration, which often accompanies to the progression of some forms of neurodegenerative diseases. In addition, the role of autophagy in synaptic plasticity and memory mechanisms has been established. Since autophagy has a significant impact on cellular metabolism, the study of the regulation and main pathways of this mechanism may be crucial in the elaboration of means and approaches to the treatment and prevention of many pathologies that progress with age. This review describes the basic concepts of the autophagy process, summarizes the key functions of autophagy in cells, and also presents current data on its role in ensuring the normal metabolism and implementation of specific functions of neurons.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Термин аутофагия – от греческих слов “ауто-” (само-) и “фагос” (поглощающий) – был известен уже в 19 веке и его широко использовали для описания эффекта постепенного истощения органов и тканей животных при длительном голодании. Первое упоминание аутофагии встречается в научных трудах французского ученого M. Anselmier, который, предположительно, и ввел понятие аутофагии как механизма, посредством которого органы и ткани используют само вещество ткани для продления жизни организма [78]. Однако более современное понимание аутофагии было предложено в середине XX в. бельгийским ученым Christian de Duve, который впервые выявил и описал лизосомы и вслед за этим двухмембранные структуры, содержащие клеточные органеллы на разных этапах деградации, которые он назвал аутофагосомами [35]. Понимание механизма аутофагии менялось и усложнялось со временем. Вначале предполагали, что аутофагия в большей степени представляет собой неселективный механизм грубой деградации белков и клеточных органелл. Однако позже, после того, как в 1992 г. группой под руководством Yoshinori Ohsumi были открыты основные гены atg (autophagy-related genes), участвующие в процессе аутофагии, в ходе последующих многочисленных исследований стало понятно, что механизм аутофагии многоступенчатый, сложный в регуляции и высоко избирательный [62, 70, 104, 107, 152]. За исследования в области аутофагии Christian de Duve была присуждена Нобелевская премия в 1974 г. и Yoshinori Ohsumi – в 2016 г. [53].
Согласно современным представлениям, аутофагия представляет собой внутриклеточный катаболический процесс, который способствует систематической деградации и непрерывной рециркуляции клеточных компонентов через лизосомно-зависимый путь [69, 84, 104]. Вопрос, для чего эта деградация нужна клетке и что она обеспечивает, является ключевым в понимании роли аутофагии. Целью деградации является не просто элиминация материала, но производство за счет избирательной деградации мономеров, которые далее используются клеткой для синтеза новых соединений, обеспечивающих жизнедеятельность клетки и ее обновление, а также перестройку ее метаболизма при изменяющихся условиях среды, в процессах метаморфоза и дифференциации. Аутофагия служит динамической системой рециркуляции клеточных элементов, выполняющей в целом гомеостатическую и адаптивную функции. Эти функции исключительно важны для дифференцированных и постмитотических клеток, в том числе нейронам. Нарушения в механизмах аутофагии в нейронах приводят к неправильному формированию дендритного дерева, аксонов, изменению строения и состава шипиков, а также накоплению токсичных белковых конгломератов и поврежденных митохондрий, и их тесно связывают с прогрессированием ряда нейродегенеративных заболеваний [19, 52, 74, 84, 98]. Кроме того, все большее количество работ свидетельствуют о важной роли аутофагии в обеспечении синаптической пластичности [18, 90, 138]. Механизм аутофагии задействован в реакциях нейронов мозга на большое число воздействий, в том числе гипоксию, ишемию и голодание, и потому является важным объектом для исследований [26, 66, 98]. Целью настоящего обзора является обобщение основных свойств и принципов аутофагии и представление современных данных об их реализации в нервной системе.
АУТОФАГИЯ В ДЕГРАДАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ КЛЕТКИ
Виды аутофагии
Клеточный гомеостаз зависит от равновесия между биосинтезом и катаболизмом макромолекул. В эукариотических клетках выделяют два основных процесса деградации белков: протеосомальная и лизосомальная [18, 30]. Протеосомальная система деградации в большей степени специфична для короткоживущих белков, в то время как многие мембранные белки, а также другие классы соединений и клеточные органеллы деградируют посредством лизосомальной системы [18]. Аутофагия является частью лизосомальной системы деградации и объединяет в себе функции изоляции и доставки внутриклеточного материала к лизосоме [102].
Функционально выделяют три основных типа аутофагии: шаперон-зависимая, микроаутофагия и макроаутофагия.
При шаперон-зависимой аутофагии таргетные белки доставляются к лизосоме белками-шаперонами (в частности Hsc70, Heat shock cognate 70), которые распознают на поверхности поврежденного белка специфическую последовательность KFERQ [11]. Данный мотив присутствует примерно у 30% всех белков клетки [39]. В нативном состоянии белка KFERQ-мотив может находиться внутри белковой глобулы. При диссоциации глобул или нарушении конформации белка, а также вследствие посттрансляционных модификаций белка данный мотив оказывается на поверхности и служит сигналом для распознавания шаперонами. Шапероны доставляют поврежденный белок к поверхности лизосомы, где специфические рецепторы-транспортеры (в частности LAMP2A, Lysosome-associated membrane protein type 2A), локализующиеся в мембране, переносят его внутрь органеллы [11, 33, 34].
При микроаутофагии происходит неспецифическое поглощение лизосомой небольших компонентов цитоплазмы за счет образования выпячиваний в самой мембране лизосомы.
При макроаутофагии происходит синтез отдельной двухмембранной структуры – фагосомы, внутрь которой изолируется поврежденный белок или целая клеточная органелла [128]. Аутофагосомы далее сливаются с лизосомами, образуя аутофаголизосому, внутри которой происходит деградация содержимого. Источником мембраны для аутофагосом служит прежде всего эндоплазматический ретикулум, а также комплекс Гольджи, митохондрии и плазматическая мембрана [125, 154, 157].
Регуляция и компоненты макроаутофагии
Процесс формирования аутофагосомы регулируется большим количеством белков и происходит под влиянием так называемых белков семейства Atg, которые впервые были описаны на дрожжах, но являются высоко консервативными у всех эукариот, включая млекопитающих [70, 107, 149, 155]. Белки этого семейства, образуя регуляторные и активационные комплексы, последовательно вовлекаются в формирование растущей аутофагосомы. Насчитывают шесть различных комплексов, формируемых при участии белков Atg, однако роль этих комплексов во многом не изучена [43, 103]. Инициация сборки аутофагосом начинается с дефосфорилирования киназы Ulk-1 (Unc-51-like autophagy activating kinase 1), в результате чего она активируется и формирует комплекс ULK-1 с белками Atg101, Atg13, FIP200 [43]. Комплекс ULK-1, в свою очередь, фосфорилирует белок Beclin1 [129]. Следующий комплекс, в который входят Beclin1, а также Atg14, VPS34/PI3KIII иVPS15/PIK3R4, является первичным звеном в начале сборки аутофагосомы [43, 65].
Фосфорилирование/дефосфорилирование Ulk-1 регулируется за счет комплекса mTORС1 (mammalian Target of rapamycin complex 1). mTORС1 фосфорилирует киназу Ulk-1, оказывая ингибиторное действие на нее и блокируя таким образом, начало сборки аутофагосом [65]. В свою очередь mTORС1, реагируя на уровень аминокислот в клетке [117], реципрокно регулирует уровень трансляции белков и уровень их деградации посредством аутофагии и потому является важнейшим регулятором метаболизма клеток в ответ на изменения окружающей среды [158]. Вместе с тем mTORС1 конвергирует на себе другие сигнальные пути в клетке, в том числе опосредованные нейротрофическими факторами [17, 158]. В частности, установлена возможность регуляции mTOR с помощью BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) [110, 115]. BDNF действует через семейство тирозин-киназных рецепторов TrkB (Tropomyosin-receptor-kinase B), которые активируют сигнальные пути, опосредованные MAPK, Akt/PI3K и PLC-g. В свою очередь, PI3K/Akt активирует mTOR и таким образом функционально связывает действие BDNF с аутфагией. Показано, что BDNF подавляет активность аутофагии за счет mTOR и генетическое ингибирование BDNF приводит к усилению аутофагии в мозге мышей [110].
Одним из важных и хорошо изученных белков семейства Atg является Atg8 или его гомолог у млекопитающих – LC3 (light chain protein). При формировании аутофагосомы к цитоплазматической форме белка LC3 (LC3-I) присоединяется молекула фосфотидилэтаноламина, в результате чего получается активная липидированная форма белка – LC3-II, которая может встраиваться в мембрану аутофагосомы. Большинство белков семейства Atg отсоединяются от сформированной аутофагосомы и возвращаются в цитоплазму. В отличие от них LC3-II остается связанным с мембраной аутофагосомы и потому является одним из наиболее часто используемых и известных маркеров макроаутофагии [101]. По паттерну окрашивания LC3 на гистологических препаратах можно судить о количестве аутофагосом, а по изменению соотношения LC3-I и LC3-II форм, выявляемых с помощью вестерн блоттинга, – об активности макроаутофагии. Известно, что LC3 является рецептором для распознавания и транслокации поврежденного белка внутрь аутофагосомы, а также он необходим для формирования и роста аутофагосомы [83]. В аутофагосому могут попадать как участки цитоплазмы с клеточными органеллами (неселективная аутофагия), так и клеточные органеллы, которые после повреждения приобретают специфический сигнал полиубиквитинирования на поверхности, который распознается белками-посредниками [32, 62]. Белки-посредники имеют два сайта связывания: один для сигнальной последовательности на поверхности поврежденного белка или органеллы, а другой – для рецептора на поверхности аутофагосомы (обычно это LC3-II) [62]. Таким образом они направляют поврежденную внутриклеточную структуру к аутофагосоме. Одним из наиболее хорошо изученных посредников является белок p62/SQSTM1 (sequestome 1), который имеет убиквитин-связывающий домен UBAN (ubiquitin binding in ABIN and NEMO) и LC3-связывающий домен LIR (LC3-interacting region). Белок p62 также часто используют для оценки процесса аутофагии.
В отличие от других механизмов внутриклеточной деградации, макроаутофагия представляет собой единственный известный внутриклеточный механизм, позволяющий приводить к деградации не только отдельные белки, но и крупные клеточные элементы. В частности, макроаутофагия была описана для белковых бляшек, митохондрий, пероксисом, эндоплазматического ретикулума, миелина [62].
Особенности аутофагии в нейронах
В покое, при отсутствии внешних воздействий, в клетках и тканях уровень активности аутофагии поддерживается на определенном постоянном базальном уровне и может значительно усиливаться при внешних воздействиях [100]. В нейронах в условиях покоя также постоянно образуются аутофагосомы, при этом они могут формироваться не только в соме нейрона, но и в дендритах и дистальных отделах аксона [21, 27, 81, 91–93, 147]. Биогенез и транспорт аутофагосом в дендритах и аксонах различается: в аксоне аутофагосомы формируются в пресинаптической области и далее ретроградно продвигаются к соме клетки, тогда как в дендритах аутофагосомы могут двигаться в обоих направлениях [81, 91, 92, 142, 147]. Эти различия подтверждаются наличием разной ориентации микротрубочек, располагающихся однополярно в аксонах и имеющих смешанную полярность в дендритах [68]. Считается, что ретроградный путь аксональной аутофагии обеспечивает прежде всего транспорт молекул из дистальных участков аксона в сому. В частности, недавно было показано, что путем аутофагии могут транспортироваться в сому активированные TrkB-рецепторы, и это во многом опосредует нейротрофическое действие BDNF [77]. Вместе с тем различия в биогенезе и направлениях движения аутофагосом между дендритами и аксонами могут свидетельствовать о некоторой специфике выполняемых этими отделами функций [93].
О ФУНКЦИЯХ АУТОФАГИИ
Гомеостатическая роль аутофагии, “контроль качества” и нейродегенеративные заболевания
Клеточный метаболизм состоит из постоянной рециркуляции и обновления клеточных элементов, что достигается за счет баланса между процессами синтеза новых элементов (анаболизма) и деградации ненужных или поврежденных элементов (катаболизма). Аутофагия является одной из основных деградационных систем клетки и во многом обеспечивает элиминацию поврежденных клеточных белков и органелл, что необходимо для поддержания нормального функционального состояния большинства постмитотических дифференцированных клеток, и выполняет гомеостатическую роль. Так, например, в большом количестве исследований показано, что блокирование или делеция ключевых генов аутофагии atg5 или atg7 в разных органах (печени, поджелудочной железе, почке, сердечной мышце, скелетной мускулатуре) приводит к схожим патологическим изменениям на молекулярном уровне, а именно к накоплению убиквитинированных р62-содержащих белковых образований и поврежденных органелл, прежде всего митохондрий и эндоцитоплазматического ретикулума [41, 54, 63, 73, 96, 106, 121]. На макроуровне наблюдается гипертрофия печени и сердца, с возрастом у животных развивается атрофия саркомеров и скелетной мускулатуры. При мозаичной делеции atg5 (делеция осуществляется только в некоторых популяциях клеток различных тканей) или с делецией atg7 в гепатоцитах увеличивается частота спонтанного образования опухоли в печени [60, 151]. В нервной системе при блокировании аутофагии наблюдаются схожие внутриклеточные нарушения. В частности, ингибирование генов atg5 или atg7 приводит к формированию белковых включений в пирамидных нейронах, клетках Пуркинье в коре мозжечка, в дофаминергических нейронах среднего мозга мышей [46, 52, 74], а блокирование atg7 во всем мозге приводит к накоплению альфа-синуклеина и LRRK2 в пресинаптической области [46]. У животных с дефектами аутофагии наблюдаются локомоторные неврологические нарушения [52, 74].
Нейроны являются высокодифференцированными клетками и остаются в постмитотическом состоянии на протяжении всей оставшейся жизни организма. Несмотря на то, что в головном мозге существуют зоны нейрогенеза, тем не менее, согласно текущим представлениям, полностью пул нейронов не обновляется в течение жизни организма. Большинство клеток организма, способных к делению, избавляются от накопленных токсинов во время клеточного деления. Поскольку нейроны лишены возможности избавиться от поврежденных клеточных элементов или токсинов путем деления, им необходимы дополнительные способы элиминации поврежденных белков и органелл [45, 144]. Кроме того, в силу особенностей строения, а именно наличия длинных отростков, нейронам необходимы дополнительные механизмы транспорта и циркуляции органелл внутри клетки [146]. Аутофагия во многом обеспечивает эти функции и потому считается исключительно важным механизмом для нормального функционирования нейронов. В моделях на животных показано, что нарушения аутофагии могут лежать в основе патогенеза многих форм нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз, Болезнь Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона, поскольку вызывают схожие патологические изменения [19, 21, 30, 45, 71, 81, 84, 98, 144]. Действительно, при болезни Альцгеймера у человека post mortem выявлено накопление аутофагических вакуолей в нейронах, что свидетельствует о важной роли аутофагии в патогенезе заболевания или о возможной ее компенсаторной роли при прогрессировании заболевания [21, 111].
Патогенез нейродегенеративных заболеваний часто связан с токсическим эффектом белковых включений и поврежденных митохондрий, которые накапливаются в клетке в большом количестве. Агрегированные белки обычно устойчивы к расщеплению, они не могут подвергаться деградации в протеосоме и часто блокируют ее функцию [16, 29]. Поэтому возможность реализации деградации с помощью альтернативной системы, аутофагии, рассматривается многими авторами в качестве перспективного подхода для элиминации белковых бляшек и поврежденных органелл при нейродегенеративных заболеваниях [22, 29, 38]. Имеется достаточно много работ, свидетельствующих о положительном эффекте применения активаторов аутофагии в замедлении прогрессирования неврологических симптомов и в уменьшении числа белковых включений в моделях нейродегенеративных заболеваний на животных [44]. В частности, рапамицин (ингибитор mTOR) снижал количество полиглютаминовых последовательностей и гибель клеток в модели болезни Хантингтона in vitro и in vivo [124]. В моделях с дефектом белка Parkin и трансгенной оверэкспрессией тау-протеина на мышах применение трегалозы, mTOR-независимого активатора аутофагии, усиливало аутофагию, уменьшало аккумулирование тау-протеина и снижало гибель дофаминергических нейронов [126]. Рапамицин и трегалоза также уменьшали количество белковых бляшек и патологий в моделях рассеянного склероза и болезни Альцгеймера на животных [25, 111, 113]. Важную роль в данном процессе отводят также аутофагии поврежденных митохондрий – митофагии [82, 108, 164]. Вместе с тем прогрессирование нейродегенерации может быть связано со снижением уровня антиоксидантов и увеличением окислительного повреждения белков, ДНК и липидов [49, 82, 164]. Положительный эффект активации аутофагии при нейродегенеративных заболеваниях связывают также с некоторой степенью антиоксидантного эффекта [49, 126]. Показана важная роль аутофагии в поддержании нормальной функции митохондрий за счет регуляции количества промежуточных метаболитов цикла трикарбоновых кислот [51]. При ингибировании аутофагии в митохондриях нарушалось соотношение пирувата и ацетил-КоА с цитратом в пользу накопления пирувата [51]. Аутофагия также имеет большое значение в поддержании функций синапса за счет деградации поврежденных белков синаптических везикул, таких как синаптофизин [58]. Таким образом, механизм аутофагии обеспечивает элиминацию поврежденных макромолекул и органелл, токсичных белковых конгломератов, которые могут образовываться в небольшом количестве в ходе нормальной жизнедеятельности клетки и количество которых в разы увеличивается при некоторых патологиях. Поэтому эту функцию аутофагии часто называют “контролем качества”.
Адаптивная метаболическая и энергетическая роль аутофагии
Метаболическая роль аутофагии заключается в производстве прежде всего аминокислот, которые далее используются клеткой в качестве строительного материала для синтеза новых белков, обеспечивающих адаптацию метаболизма к условиям недостатка питательных веществ [112]. Основные принципы подобной перестройки и роли в ней аутофагии были впервые описаны в исследованиях на дрожжах. Было показано, что аутофагия способствует спорообразованию (споры – более энергетически экономная форма существования) у дрожжей при недостатке питательных веществ [155]. При блокировании гена atg5 дрожжи не могли образовывать споры и, соответственно, были менее жизнеспособными в новых условиях отсутствия питательных веществ [155]. При этом синтез отдельных типов белков не останавливался во время голодания или даже увеличивался. В частности, в клетках дрожжей дикого типа в условиях голодания происходил синтез лизосомальных ферментов, белков дыхательной цепи митохондрий, антиоксидантов, а также белков, участвующих в биосинтезе [112, 150]. Вместе с тем в клетках дрожжей с дефектом по atg7 в условиях голодания общий пул аминокислот значительно снижался по сравнению с клетками дикого типа, а уровень некоторых отдельных аминокислот был ниже критических значений [112]. Дрожжи, нокаутные по ключевым генам аутофагии, были не способны поддерживать необходимый уровень аминокислот и, соответственно, синтезировать вышеперечисленные белки в условиях голодания [112, 150]. В результате такие клетки утрачивали респираторную функцию и производили повышенное количество активных форм кислорода, что в итоге уменьшало содержание митохондриальной ДНК [150]. Suzuki с соавт. полагают, что это является основной причиной гибели клеток дрожжей с дефицитом аутофагии в условиях голодания. В другом исследовании показано, что аминокислоты могут быть конвертированы в промежуточные продукты цикла трикарбоновых кислот и таким образом способствовать выработке АТФ в условиях голодания [51]. Хотя подобные исследования выполнены на дрожжах и раковых клетках, тем не менее очевидно, что основной принцип действия аутофагии может быть универсальным и для других эукариотических клеток. Показано, что активация аутофагии происходит во многих тканях и органах, в том числе сердце, поджелудочной железе, почках, скелетных мышцах и печени, в ответ на голодание [100]. При этом каждой ткани и типу клеток присущи свои специфические функции, выполняемые аутофагией. Например, в клетках печени путем аутофагии могут подвергаться расщеплению жировые капли, что также может служить источником энергии и обеспечивать адаптивную реакцию организма в ответ на голодание [143].
Вопрос о том, вызывает ли голодание индукцию аутофагии в нейронах, является спорным. В одной из ранних работ Mizushima с соавт. показано in vivo, что активации аутофагии в мозге в ответ на голодание не происходит [100]. Согласно данной интерпретации, отсутствие индукции аутофагии в мозге может отражать защитные механизмы организма, направленные на поддержание постоянства энергоснабжения мозга питательными веществами за счет перераспределения их поступления из периферических органов и тканей, а также за счет наличия глиальных клеток как основных буферных зон, поддерживающих метаболизм нейронов, что позволяет скомпенсировать резкие перепады питательных веществ, возникающие при кратковременных эпизодах голодания. Однако следует отметить, что в данной работе авторы описывали аутофагию в мозге, не выделяя в нем отдельные структуры. Другие исследователи получили аналогичный результат на культуре нейронов гиппокампа [93]. Параллельно с этим имеется достаточно много работ, выполненных in vitro и in vivo, свидетельствующих о том, что аутофагия активируется в нейронах и разных структурах мозга при голодании [12, 21, 66, 163]. Более того, Nikoletopoulou с соавт. показали, что активность аутофагии в некоторых структурах мозга увеличивается, а в других – снижается, при голодании [110]. Таким образом, некоторая специфичность аутофагии присуща не только разным тканям и разным по происхождению типам клеток, но и нейронам разных структур или разным типам нейронов. Например, в одной из работ была установлена специфическая роль аутофагии в регуляции уровня агути-пептида [66]. Агути-пептид – нейропептид, который выделяется специфическими агути-ассоциированными нейронами гипоталамуса и участвует в регуляции поведенческих реакций, связанных с поиском пищи, а также началом или прекращением принятия пищи [132]. Kaushik с соавт. показали, что активация аутофагии, вызванная голоданием, приводила к мобилизации липидов в агути-ассоциированных нейронах гипоталамуса и выработке эндогенных свободных жирных кислот, которые, в свою очередь, регулируют уровни агути-пептида. Вместе с тем ингибирование аутофагии приводило к нарушению регуляции уровня агути-пептида в ответ на голодание, а также к устойчивому повышению уровня проопиомеланокортина в гипоталамусе и продукта его расщепления – α-меланоцитстимулирующего гормона, что способствовало формированию худого фенотипа [66]. Таким образом, авторы продемонстрировали, что активация аутофагии в гипоталамусе в ответ на голодание имеет большое значение в регуляции пищевого поведения в целом и оказывает долгосрочное воздействие на энергетический гомеостаз [66].
Несмотря на универсальность деградационного механизма, аутофагия, как следует из многих работ, имеет набор специфических функций в каждой ткани организма, а также в разных структурах и типах клеток в пределах одного органа – головного мозга. Поэтому более целесообразным представляется рассматривать функции этого процесса применительно к отдельным структурам мозга. Это позволит лучше понять специфику нейронов разных структур мозга, а также во многом объяснить их уникальные функции. В наших исследованиях было также показано, что аутофагия по-разному регулируется в нейронах гиппокампа и неокортекса в ответ на действие гипобарической гипоксии, что может во многом обуславливать специфику пирамидных нейронов и объяснять разную устойчивость этих структур мозга к тяжелому гипоксическому воздействию [28]. Несмотря на другую природу воздействия, гипоксия так же, как и голодание, на клеточном уровне приводит к энергетическому дефициту.
Аутофагия и синаптическая и нейрональная пластичность
Аутофагия – во многом избирательный процесс деградации, и, как было указано выше, имеет тканеспецифичность. То, какие именно белки или соединения подвергаются деградации, и составляет определенную специфичность функций аутофагии в разных клетках организма. Нейроны – высокоспециализированные клетки, основная особенность которых заключается в проведении нервных импульсов, их обработке, запоминании и хранении полученной информации. Последнее возможно за счет нейрональной пластичности, которая является следствием первичных изменений в синапсе. Регуляция синаптической пластичности является краеугольным камнем в раскрытии механизмов обучения и памяти. Связь между протеолизом, вызванным нейрональной активностью, и синаптической пластичностью и памятью была впервые описана в работах в модели на Aplysia [55]. Позже была также установлена роль эндосомально-лизосомальной системы деградации в реализации синаптической пластичности [42, 57], и еще позднее – вклад аутофагии в этот процесс [127, 135]. Таким образом, согласно современной концепции, аутофагия является важным функциональным звеном в обеспечении синаптической пластичности [18, 90, 136, 138].
Синаптическая пластичность может регулироваться преимущественно двумя основными способами: на пресинаптической мембране – за счет изменения выброса нейромедиаторов, и на постсинаптической мембране – за счет изменения количества и типа рецепторов к нейромедиатору. В нейронах аутофагосомы обнаруживаются, помимо сомы, в аксоне и дендритах [91–93], что, очевидно свидетельствует о том, что механизм аутофагии может участвовать в регуляции синаптической передачи как на пресинаптической, так и постсинаптической терминалях [87, 90].
В пресинаптичекой области аутофагия влияет на выброс нейромедиатора, структуру пресинапса и его функцию [56]. Было показано, что дофаминергические нейроны со специфическим нокаутом по atg7 выделяли большее количество дофамина при электрической стимуляции. При ультраструктурном исследовании было обнаружено, что аксоны таких нейронов увеличены в размерах, а также были отмечены изменения в количестве синаптических везикул [56]. В другом исследовании было установлено, что синаптическая активность индуцирует аутофагию в пресинаптических компартментах и активирует ретроградное перемещение аутофагосом по аксону, что также подтверждает роль аутофагии в регуляции синаптической передачи [156]. Soukup с соавт. установили, что высокочастотная стимуляция нервно-мышечного синапса дрозофилы индуцирует формирование аутофагосом внутри пресинаптической терминали и что аутофагия является критическим механизмом в регуляции выброса нейромедиатора за счет регуляции синаптических везикул [145]. Регуляция синаптических везикул также зависит от экзо-эндоцитоза Atg9-содержащих везикул внутри пресинапса [162]. Более подробное исследование, представляющее гипотетическую модель, описывающую, каким образом аутофагия может оказывать влияние на выброс медиатора, представлена в работе Kuijpers с соавт. [79]. Авторы показали, что нокаут по atg5 у мышей приводит к накоплению эндоплазматического ретикулума в аксоне и пресинаптической области и это сопровождается усилением нейротрансмиссии. Вместе с тем усиление возбуждающего сигнала является следствием увеличения выброса кальция из депо эндоплазматического ретикулума. Поскольку высвобожденный кальций непосредственно отвечает за слияние синаптических везикул с пресинаптической мембраной, то увеличение выброса кальция приводит к усилению объема выброса нейромедиатора. Авторы, таким образом, продемонстрировали, что аутофагия, за счет регуляции количества эндоплазматического ретикулума, оказывает влияние на выброс кальция и, следовательно, на силу синаптической передачи [79].
В постсинаптической области аутофагия может регулировать уровень синаптической передачи за счет избирательной деградации мембранных рецепторов. В частности, такой эффект был описан для АМПА (α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовая кислота) и ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) рецепторов [127, 135]. Количество АМПА-рецепторов на постсинаптической мембране в большей степени определяет силу синаптической передачи: увеличение количества АМПА-рецепторов на постсинаптической мембране приводит к длительной потенциации, тогда как отщепление АМПА-рецепторов от мембраны приводит к длительной депрессии [57, 67, 140]. АМПА-рецепторы отщепляются от постсинаптической мембраны путем эндоцитоза и интернализируются в эндосомы, после чего они могут быть перенаправлены обратно к постсинаптической мембране либо транспортированы к лизосоме для последующей деградации [57, 67]. Это подтверждается рядом работ, в которых применение хлорохина, хлорида аммония и леупептина, которые считаются ингибиторами конечной лизосомальной фазы деградации, блокировало деградацию АМПА-рецепторов [42, 80]. Вместе с тем, Shehata с соавт. установили, что АМПА-рецепторы из эндосом доставляются в лизосомы посредством аутофагосом, а регуляция количества АМПА-рецепторов более сложная, чем предполагалось вначале [135]. Длительная низкочастотная стимуляция нейронов гиппокампа индуцировала аутофагию в дендритах постсинаптического нейрона [135]. Вместе с тем аутофагия опосредовала деградацию АМПА-рецепторов на постсинапсе и это обеспечивало эффект длительной депрессии [135]. Таким образом, в своем исследовании авторы Shehata с соавт. связали модулирующее действие аутофагии на количество АМПА-рецепторов на постсинаптической мембране, что в свою очередь определяет силу синаптического ответа [135]. Эти результаты были позднее подтверждены другой группой исследователей в моделях нокаутных животных по atg5 [64]. Схожий для АМПА-рецепторов эффект был также описан для ГАМК-рецепторов на нервно-мышечном препарате C. elegans: Rowland с соавт. показали, что при отсутствии ГАМК и ацетилхолина в синапсе на постсинаптической мембране происходит интернализация ГАМК-рецепторов в эндосомы и их трафик к аутофагосоме [127]. Кроме того, авторы сделали акцент на том, что аутофагия была избирательна в отношении ГАМК-рецепторов, но не ацетилхолиновых рецепторов.
Долговременные изменения синаптической пластичности лежат в основе нейрональной пластичности, которая зависит от структурных изменений синапсов, шипиков и дендритов. В ряде исследований, выполненных в разных моделях и структурах мозга, показано, что нарушения аутофагии приводят к постепенной дегенерации нервных волокон, проявляющейся изменением характера ветвления дендритов, формы аксонов, соотношения разных типов шипиков и размеров синапсов [46, 75, 110, 138, 147, 153, 159, 160]. Вместе с тем следует подчеркнуть, что важен определенный уровень активности аутофагии, поскольку как блокирование аутофагии, так и ее гиперактивация приводят к деструктивным процессам в нервных волокнах. В частности, ингибирование аутофагии (нокаутные исследования) приводит к уменьшению роста дендритов в длину и ветвления терминалей, а чрезмерная ее активация (оверэкспрессия генов аутофагии) – к резкому упрощению строения дендритного дерева в сенсорных нейронах in vivo [31]. Очевидно, механизм аутофагии необходим для обеспечения структурной реорганизации шипиков и отростков нейронов, что является физиологической основой нейрональной пластичности, лежащей в основе долговременной памяти. Действительно, показано, что содержание белков SHANK3, PSD-95 и PICK1, которые являются каркасными белками дендритных шипиков, существенно повышался в гиппокампе у нокаутных по atg5 мышей [110]. Кроме того, установлена важная взаимосвязь между нейротрофическим фактором BDNF, который, как известно, регулирует рост и формирование нервных волокон, и аутофагией. С одной стороны, было показано, что BDNF оказывает регулирующее влияние на активность аутофагии [110]. С другой стороны, аутофагия во многом опосредует нейротрофическое действие BDNF за счет транспорта активированных TrkB-рецепторов от дистальных концов аксона к соме нейрона [77]. BDNF оказывает нейротрофический эффект преимущественно за счет активации TrkB-рецепторов, что приводит к каскаду реакций, усиливающих экспрессию белков, участвующих в ремоделировании и росте отростков [115]. При этом активация TrkB-рецепторов приводит к продлению действия BDNF за счет активации экспрессии собственного гена bdnf, формируя обратную положительную связь [115]. Учитывая большую протяженность отростков нейронов, доставка активированных TrkB-рецепторов из дистальных отделов аксона к соме клетки считается важным механизмом для активации экспрессии BDNF-зависимых генов и реализации нейротрофического действия BDNF [166]. В связи с этим установленная Kononenko с соавт. роль аутофагии в транспорте TrkB-рецепторов имеет большое значение в опосредовании нейротрофического эффекта BDNF [77].
Роль аутофагии в синаптической пластичности во многом объясняет сущность и происхождение дегенеративных процессов, часто сопутствующих многим заболеваниям нервной системы, проявляющихся с возрастом. Патогенез многих нейродегенеративных заболеваний часто связывают с токсичным эффектом от накопления белковых конгломератов и поврежденных митохондрий в клетке. В связи с этим аутофагия рассматривается в качестве механизма элиминации поврежденных белков и с точки зрения функции “контроля качества”. Однако в одной из работ было показано, что даже если элиминировать белковые р62-содержащие бляшки (путем генетической абляции), то несмотря на то, что белковых включений становилось меньше, это не оказывало положительного эффекта на дегенеративные процессы в нейроне [76]. Таким образом, нарушения строения и роста нервных окончаний, а также сопутствующие неврологические симптомы, которые часто сопровождают нейродегенеративные заболевания, довольно сложно объяснить только токсическим эффектом от накопления поврежденных клеточных белков и органелл. Более вероятно, что наряду с этим, нарушается метаболизм белков, принимающих участие в обеспечении синаптической и нейрональной пластичности, что во многом может обуславливаться дефектами механизма аутофагии. В подтверждение этой точки зрения можно привести исследование, в котором авторы функционально связали нарушения процесса аутофагии в пресинапсе, опосредованные нарушением фосфорилирования белка эндофилина А, с развитием болезни Паркинсона [145]. Было показано, что фосфорилирование белка эндофилина А, который преимущественно известен своим участием в процессе эндоцитоза, индуцирует образование участков мембран, которые служат основой для присоединения факторов аутофагии, в том числе Atg3. Вместе с тем нарушение фосфорилирования эндофилина А ускоряет прогрессирование нейродегенерации. Поскольку эндофилин А имеет отношение к нескольким типам болезни Паркинсона, то, по мнению авторов, нарушения фосфорилирования эндофилина А и связанное с этим ингибирование аутофагии в пресинапсе могут быть одной из причин патогенеза болезни Паркинсона [145].
Участие аутофагии в обеспечении синаптической и нейрональной пластичности позволяет по-новому взглянуть на многие процессы, происходящие в нейроне, и вместе с тем открывает множество прикладных возможностей, в том числе в лечении и профилактике нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, поскольку изменения синаптической пластичности являются физиологической основой памяти, то возможно, что модуляторы аутофагии могут оказывать влияние на процессы обучения и память, что может иметь широкий спектр практического применения, в том числе при естественном старении, а также в ряде депрессивно-подобных состояний.
АУТОФАГИЯ И ПАМЯТЬ
Механизмы обучения и консолидации памяти неразрывно связаны со стойкими изменениями силы синаптической передачи и последующей структурной реорганизацией отростков и нервных окончаний, которая, прежде всего, подразумевает синтез новых белков, обеспечивающих эту реорганизацию [8, 10, 14, 97]. То, что процессы обучения, в том числе консолидация и реконсолидация, связаны с синтезом новых белков, давно установленный факт [8, 10, 14, 97]. Однако наряду с этим мало внимания уделялось другому механизму – механизму избирательной деградации белков, который, как показано в последние годы, играет не менее важную роль в данном процессе.
В ряде работ показано, что обучение животных в водном лабиринте Морриса и тесте обусловленной реакции страха приводит к усилению аутофагии (увеличению количества аутофагосом и активности аутофагии, усилению экспрессии генов atg и белковых продуктов) [50, 59, 114]. Все это свидетельствует о том, что активация аутофагии, наряду с механизмами синтеза белка, является необходимым процессом для консолидации памяти. В частности, в работе Hylin с соавт. было показано, что внутригиппокампальное введение ингибиторов аутофагии 3-метиладенина или спаутина-1 не оказывало влияния на обучение животных в тесте водного лабиринта Морриса, однако ухудшало долговременную память в этом тесте (через 24 ч) [59]. При этом следует отметить, что 3-метиладенин и спаутин-1 действуют более избирательно в отношении блокирования аутофагии, чем субстанции, действующие на mTOR. 3-метиладенин ингибирует активность PI3K-3, а спаутин-1 блокирует пептидазную активность USP10 (Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 10) и USP13 (Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 13), что приводит к убиквитинированию и деградации комплекса Beclin-1/PI3K-3 (см п. “виды аутофагии”) [88]. Комплекс Beclin-1/PI3K-3 находится под регуляцией mTOR и инициирует начало сборки аутофагосом. Таким образом, 3-метиладенин и спаутин-1 действуют “даунстрим” (downstream) от mTOR и более избирательно ингибируют именно сборку аутофагосом, не влияя при этом на регуляцию синтеза белка, как происходит в случае действия рапамицина на mTOR. Вместе с тем, внутригиппокампальное введение пептида ТАТ-Beclin-1, индуктора аутофагии, улучшало долговременную память в этом исследовании [59]. Авторы сделали вывод, что аутофагия не влияла на обучение (кратковременную память), но была необходима для формирования долговременной памяти [59]. В другом исследовании Glatingy с соавт. на мышах также было показано, что генетическое или фармакологическое ингибирование (спаутин-1, хлорохин) аутофагии ухудшало показатели молодых животных (3 месяца) в тестах распознавания нового объекта и обусловленной реакции страха (вызванной электростимуляцией) [50]. Применение инъекций пептида ТАТ-Beclin-1, напротив, улучшало показатели животных в этих тестах [50]. Вместе с тем ТАТ-Beclin-1 также усиливал аутофагию и улучшал показатели памяти в данных тестах у пожилых мышей (16 месяцев), у которых наблюдалось ухудшение памяти по сравнению с молодыми животными. Положительный эффект пептида ТАТ-Beclin-1, а также агониста аутофагии спермидина, на память животных показан в модели умеренного когнитивного расстройства на мышах [36]. В целом исследования свидетельствует о вовлечении аутофагии в механизмы долговременной памяти, а также о том, что усиление аутофагии в гиппокампе имеет положительный эффект в восстановлении памяти как при естественном старении, так и в моделях когнитивных расстройств [36, 50, 59, 94, 114].
В то же время есть данные о том, что активация аутофагии может опосредовать процесс стирания устойчивых воспоминаний в процессе реконсолидации памяти. Интересное исследование Shehata и соавт. показало, что индукция аутофагии усиливает дестабилизацию памяти и этот эффект опосредуется, во многом, деградацией АМПА-рецепторов на постсинаптической мембране [135, 137]. Эндоцитоз АМПА-рецепторов коррелирует с угасанием длительной потенциации и естественным активным забыванием устойчивых воспоминаний [40, 99]. Shehata с соавт. установили, что аутофагия способствует деградации АМПА-рецепторов на постсинаптической мембране, опосредуя, таким образом, механизмы длительной депрессии [135]. Далее, при реконсолидации в модели обусловленной реакции страха авторы показали, что индукция аутофагии в миндалевидном теле или в гиппокампе мышей усиливала дестабилизацию обусловленной памяти [137]. Практически возможность дестабилизировать устойчивые воспоминания имеет большое значение в лечении тревожных расстройств, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) [118]. При реактивации (т.е. напоминании) ранее сформированных негативных воспоминаний их можно перевести в лабильное состояние, или дестабилизировать, после чего происходит либо перезаписывание и усиление этого же воспоминания, либо его замещение другим новым воспоминанием, или, иначе – реконсолидация. Процесс замещения старого воспоминания новым по сути является переобучением и связан с забыванием (угасанием) старого воспоминания и новым обучением, в процессе которого формируется новое воспоминание [120]. Процесс реконсолидации, так же как и консолидации, связан с синтезом белка de novo. Однако воспоминания, формируемые под влиянием высокого эмоционального фона, устойчивы к реконсолидации и их достаточно сложно дестабилизировать, что является существенной сложностью при лечении ПТСР [118]. В связи с этим для нарушения процесса реконсолидации памяти во многих исследованиях при моделировании ПТСР использовали рапамицин – ингибитор mTOR [15, 20, 47, 61, 85, 116, 148]. Однако в данных статьях авторы преимущественно делали акцент на том, что mTOR является “апстрим”-регулятором (upstream regulator) трансляции белка и при его блокировании нарушается синтез белков de novo, что в конечном счете и влияет на долговременную память. Но, как известно, mTOR является регулятором не только синтеза белка, но также и аутофагии, оказывая разнонаправленный эффект на эти два процесса [158]. Таким образом, эффект рапамицина в перечисленных исследованиях мог быть обусловлен также и возможным влиянием на механизм аутофагии. В этом плане Shehata с соавт. впервые применили новый интересный подход, позволяющий с помощью активации аутофагии вызвать дестабилизацию устойчивых к реконсолидации воспоминаний, что в целом может облегчить забывание или перезапись приобретенного устойчивого воспоминания в другом формате и делает механизм аутофагии потенциально возможной мишенью для клинических разработок в моделях лечения ПТСР [137].
АУТОФАГИЯ И ГИПОКСИЯ: АДАПТИВНАЯ ИЛИ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ
Говоря об аутофагии в нервной системе, помимо ее значимости в нейродегенеративных заболеваниях и процессах обучения и памяти, нельзя не затронуть направление исследований, связанных с ее вовлечением в патологический каскад реакций при ишемическом воздействии. Большое число работ установило роль аутофагии в гибели нейронов, индуцированной ишемией [9, 48, 72, 119, 123, 141]. При острой гипоксии может происходить гиперактивация аутофагии, которая ведет к чрезмерной вакуализации и неспецифической деградации клеточных элементов, вплоть до целой клетки [95]. Аутофагию рассматривают как один из типов клеточной гибели (каспаз-независимый), который, наряду с апоптозом и некрозом, индуцируется при ишемических воздействиях [86, 95, 122]. Между этими типами клеточной гибели существует тесная взаимосвязь [23, 95, 109]. Действительно, ингибирование аутофагии фармакологическим или генетическим путем приводило к снижению клеточной гибели в модели ишемии [48, 72, 119, 141]. При этом ингибитор аутофагии 3-метиладенин, применяемый в разные сроки после реперфузии (сразу в начале реперфузии, через 3 ч. и через 6 ч. после начала реперфузии) имел разную эффективность с точки зрения уменьшения очага поражения, что говорит о терапевтическом окне возможностей применения ингибиторов аутофагии в модели неонатальной ишемии [119]. Максимальная эффективность препарата достигалась при его введении через 3 ч. после начала реперфузии, когда наблюдалось уменьшение очага ишемического поражения на 46% [119]. С другой стороны, в аналогичной модели неонатальной ишемии другими авторами было показано, что рапамицин, активатор аутофагии, снижал некротическую гибель клеток и уменьшал повреждение головного мозга [24]. Авторы рассматривают усиление аутофагии рапамицином как потенциальный защитный механизм на ранней стадии повреждения головного мозга [24]. Кроме того, было показано, что оверэкспрессия транскрипционного фактора EB (transcription factor EB), который отвечает за регуляцию большого числа генов, вовлекаемых в процесс аутофагии и лизосомальной деградации, приводила к усилению активности аутофагии на поздних сроках после ишемического воздействия и уменьшению повреждения, вызванного ишемией, т.е. имела положительный эффект в нейропротекции при ишемии головного мозга [89]. Протективная роль аутофагии во время реперфузии может быть связана с элиминацией поврежденных митохондрий и ингибированием запуска цитохром С-индуцируемого апоптоза [165]. Каким образом регулируется аутофагия и в какой момент ее проадаптивная роль превращается в программу клеточной гибели для нейрона при ишемии, остается не до конца понятным. Возможно, что многое зависит от временного периода, в который реализуется эффект ингибирования, или активации аутофагии, поскольку ишемическое воздействие с последующей реперфузией имеет разные этапы развития патологии. Не исключено, что на начальных этапах ишемии аутофагия может стимулировать адаптивные функции клеток к условиям депривации кислорода и питательных веществ, тогда как при реперфузии оксидативный стресс и сильная воспалительная реакция запускают механизмы клеточной гибели в нейроне, опосредованные, в том числе, аутофагией. Помимо процесса аутофагии в самом нейроне, аутофагия в других клетках может также оказывать влияние на исход ишемического воздействия. Известно, что воспалительный процесс, наряду с клеточной гибелью, является одним из ведущих факторов в патологических последствиях ишемии мозга [133]. Вместе с тем аутофагия играет важную роль в воспалительных и иммунных реакциях [37] и может ограничивать воспалительную реакцию в модели ишемического инсульта за счет элиминации воспалительных вакуолей [105]. Кроме того, показано, что аутофагия поддерживает функциональную целостность гематоэнцефалического барьера в условиях гипоксии за счет регуляции белка клаудин-5 в эндотелиальных клетках [161]. Несмотря на то, что аутофагия может опосредовать гибель нейронов при ишемии, в исследованиях нет единого мнения о ее исключительно негативной роли при этом воздействии, и многие авторы упоминают об аутофагии как о “double-edged sword” (обоюдоострый меч) или “two sides of the same coin” (две стороны одной медали) [13, 26, 86, 122].
Одновременно с этим несомненной остается адаптивная функция аутофагии, направленная на поддержание внутриклеточного гомеостаза и обеспечение синаптической пластичности в нервной системе. В этом плане более интересным представляется исследование умеренных гипоксических воздействий на возможность мягкого модулирования клеточного метаболизма, в том числе за счет изменения активности аутофагии. Показано, что активация аутофагии во многом опосредует нейропротективное действие ишемического прекондиционирования в модели перманентной фокальной ишемии [139]. Известно, что умеренные гипоксические воздействия, используемые в качестве прекондиционирования, существенно повышают устойчивость как организма, так и ткани или клетки к действию последующего повреждающего стимула [3, 4, 5]. Эффект гипоксического кондиционирования связан с активацией эндогенных и неспецифических реакций организма и клеток к действию острого подпорогового стимула. Показано, что умеренные гипоксические воздействия повышают когнитивные способности, обладают анксиолитическим эффектом, повышают устойчивость нейронов к действию повреждающих стимулов [1, 2, 130]. На молекулярном уровне эффекты гипоксического прекондиционирования связаны с изменениями регуляции гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы, повышением экспрессии нейротрофических и антиапоптотических факторов, антиоксидантов, снижением уровня свободных радикалов [6, 7, 130, 131, 134]. Вместе с тем аутофагия – механизм, обеспечивающий внутриклеточный гомеостаз, транспорт, синаптическую пластичность и имеющий достаточно широкий спектр функций во внутриклеточных процессах – может опосредовать адаптивные реакции нейронов при умеренных гипоксических воздействиях и служить связующим процессом во множественных положительных эффектах гипоксического кондиционирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данном обзоре механизм аутофагии представлен с точки зрения гомеостатической и адаптивной функции. Аутофагия за счет деградации клеточных элементов (белков, липидов, углеводов, клеточных органелл) поставляет клетке строительные элементы в виде мономеров, необходимые для синтеза новых клеточных компонентов. Все это служит поддержанию клеточного метаболизма, что является гомеостатической функцией, а также необходимо для реорганизации клеточных функций при изменении окружающей среды, различного рода воздействиях и других процессах, таких как дифференциация, что обеспечивает адаптивную реакцию клетки и организма.
Несмотря на то, что аутофагия является универсальным системным механизмом, тем не менее в каждой ткани и типе клеток, помимо общих, достигаются определенные специфичные функции. Для нервной системы, как было описано в данном обзоре, – это прежде всего обеспечение синаптической и нейрональной пластичности. Участие аутофагии в механизмах синаптической пластичности открывает новые горизонты в исследованиях процессов памяти, а также перспективные подходы в возможностях модулирования памяти при различных патологических состояниях или естественном старении.
Аутофагия – сложно организованный механизм, в который вовлекается большое количество белков. Поэтому нарушения этого механизма в клетке имеют плейотропное действие и проявляются во множественных нарушениях клеточного метаболизма, которые могут быть как общими для большинства постмитотических клеток, так и специфичными для отдельных типов клеток. Так, например, при нейродегенеративных заболеваниях часто наблюдается накопление токсичных белковых конгломератов, поврежденных митохондрий и других клеточных органелл, а также нарушения структуры отростков, шипиков и синапсов нейронов, что, очевидно, свидетельствует о нарушениях синаптической пластичности и приводит к неврологическим дефицитам. Модуляторы аутофагии рассматриваются в качестве перспективной стратегии в коррекции патологических изменений и уже показали эффективность при некоторых формах дегенеративных заболеваний в моделях на животных. Одной из основных проблем является поиск более специфичных модуляторов аутофагии (ввиду многокомпонентности этого процесса), а также разработка универсальных маркеров активности аутофагии, которые позволили бы использовать их для оценки уровня аутофагии у человека при различных заболеваниях, поскольку модели на животных лишь отчасти могут воспроизвести нейродегенеративные патологии у человека. Вместе с тем, помимо фармакологических препаратов, существуют немедикаментозные методики, такие как умеренное гипоксическое воздействие, которые могут быть не менее эффективными в профилактике и лечении.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работа выполнена при поддержке Госпрограммы ГП-47 “Научно-технологическое развитие Российской Федерации” (2019–2030), тема 0134-2019-0002.
________________
Сокращения: ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство; АМПА – α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовая кислота; ГАМК - гамма-аминомасляная кислота.
About the authors
A. V. Churilova
Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: churilovaav@infran.ru
Russian Federation, 199034, St. Petersburg
References
- Баранова К.А., Зенько М.Ю. Анксиолитический эффект дистантного ишемического пре- и посткондиционирования в модели посттравматического стрессового расстройства //Ж. выс. нерв. деят. 2018. Т. 68. № 5. С. 663–672.
- Ватаева Л.А., Тюлькова Е.И., Самойлов М.О. Влияние предварительного воздействия умеренной гипоксии на нарушения выработки и воспроизведения условной реакции пассивного избегания, вызываемые тяжелой гипобарической гипоксией у крыс // Ж. высш. нерв.деят. 2004. Т. 54. № 6. С. 795–801.
- Зенько М.Ю., Рыбникова Е.А. Перекрестная адаптация: от Ф.З. Меерсона до наших дней. Часть 1. Адаптация, перекрестная адаптация и перекрестная сенсибилизация // Ж. успехи физиол. наук. 2019. Т. 50. № 4. С. 3–13. doi: 10.1134/S0301179819040088
- Зенько М.Ю., Рыбникова Е.А. Гипоксическая адаптация и тренировка: исторические, биомедицинские и спортивные аспекты // Авиакосмич. и экологич. медицина. 2021. Т. 55. № 1. С. 20–26. doi: 10.21687/0233-528X-2021-55-1-20-26.
- Меерсон Ф.З. Адаптационная медицина: механизмы и защитные эффекты адаптации. М.: Hypoxia Medical LTD, 1993. 331 с.
- Самойлов М.О., Рыбникова Е.А., Чурилова А.В. Сигнальные молекулярные и гормональные механизмы формирования протективных эффектов гипоксического прекондиционирования // Пат. физиол. и эксп. терапия. 2012. № 3. С. 3–10.
- Чурилова А.В., Глущенко Т.С., Самойлов М.О. Изменение экспрессии антиапоптотического белка Bcl-2 в неокортексе и гиппокампе у крыс под влиянием различных режимов гипобарической гипоксии // Морфология. 2014. Т. 146. № 5. С. 7–13.
- Abel T., Klann E. Molecular and cellular cognition: neurobiology of learning and memory special issue 2013 // Neurobiol. Learn. Mem. 2013. V. 105. P. 1–2. doi: 10.1016/j.nlm.2013.08.005
- Adhami F., Liao G., Morozov Y.M. et al. Cerebral ischemia-hypoxia induces intravascular coagulation and autophagy // Am. J. Pathol. 2006. V. 169. № 2. P. 566–583. doi: 10.2353/ajpath.2006.051066
- Alberini C.M., Kandel E.R. The regulation of transcription in memory consolidation // Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 2015. V. 7. a021741.doi: 10.1101/cshperspect.a021741
- Alfaro I.E., Albornoz A., Molina A. et al. Chaperone mediated autophagy in the crosstalk of neurodegenerative diseases and metabolic disorders // Front. Endocrinol. 2018. V. 9. P. 778. doi: 10.3389/fendo.2018.00778
- Alirezaei M., Kemball C.C., Flynn C.T. et al. Short-term fasting induces profoundneuronal autophagy // Autophagy. 2010. V. 6. P. 702–710. doi: 10.4161/auto.6.6.12376
- Baehrecke E.H. Autophagy: dual roles in life and death? // Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2005. V. 6. P. 505–510.
- Bailey C.H., Kandel E.R., Harris K.M. Structural Components of Synaptic Plasticity and Memory Consolidation // Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 2015. V. 7. 7:a021758. doi: 10.1101/cshperspect.a021758
- Bekinschtein P., Katche C., Slipczuk L.N. et al. mTOR signaling in the hippocampus is necessary for memory formation // Neurobiol. Learn Mem. 2007. V. 87. P. 303–307.
- Bence N.F., Sampat R.M., Kopito R.R. Impairment of the ubiquitin-proteasome system by protein aggregation // Science. 2001. V. 292. P. 1552–1555. doi: 10.1126/science.292.5521.1552
- Bhaskar P.T., Hay N. The two TORCs and Akt // Dev. Cell. 2007. V. 12. № 4. P. 487–502. doi: 10.1016/j.devcel.2007.03.020
- Bingol B., Sheng M. Deconstruction for reconstruction: the role of proteolysis in neural plasticity and disease // Neuron. 2011. V. 69. № 1. P. 22–32. doi: 10.1016/j.neuron.2010.11.006
- Bjørkøy G., Lamark T., Brech A. et al. p62/SQSTM1 forms protein aggregates degraded by autophagy and has a protective effect on huntingtin-induced cell death // J. Cell Biol. 2005. V. 171. P. 603–614. doi: 10.1083/jcb.200507002
- Blundell J., Kouser M., Powell C.M. System icinhibition of mammalian target of rapamycin inhibits fear memory reconsolidation // Neurobiol. Learn Mem. 2008. V. 90. P. 28–35. doi: 10.1016/j.nlm.2007.12.004
- Boland B., Kumar A., Lee S. et al. Autophagy induction and autophagosome clearance in neurons: relationship to autophagic pathology in Alzheimer’s disease // J Neurosci. 2008. V. 28. № 27. P. 6926–6937. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0800-08.2008
- Boland B., Yu W.H., Corti O. et al. Promoting the clearance of neurotoxic proteins in neurodegenerative disorders of ageing // Nat. Rev. Drug Discov. 2018. V. 17. № 9. P. 660–688. doi: 10.1038/nrd.2018.109
- Boya P., Gonzalez-Polo R.A., Casares N. et al. Inhibition of macroautophagy triggers apoptosis // Mol. Cell. Biol. 2005. V. 25. № 3. P. 1025–1040. doi: 10.1128/MCB.25.3.1025-1040.2005
- Carloni S., Buonocore G., Balduini W. Protective role of autophagy in neonatal hypoxia-ischemia induced brain injury // Neurobiol. Dis. 2008. V. 32. № 3. P. 329–339. doi: 10.1016/j.nbd.2008.07.022
- Castillo K., Nassif M., Valenzuela V. et al. Trehalose delays the progression of amyotrophic lateral sclerosis by enhancing autophagy in motoneurons // Autophagy. 2013. V. 9. P. 1308–1320. doi: 10.4161/auto.25188
- Chen W., Sun Y., Liu K., Sun X. Autophagy: a double-edged sword for neuronal survival after cerebral ischemia // Neural Regen. Res. 2014.V. 9. № 12. P. 1210–1216. doi: 10.4103/1673-5374.135329
- Cheng X.T., Zhou B., Lin M.Y., Cai Q, Sheng Z.H. Axonal autophagosomes recruit dynein for retrograde transport through fusion with late endosomes // J. Cell Biol. 2015. V. 209. № 3. P. 377–386. doi: 10.1083/jcb.201412046
- Churilova A., Zachepilo T., Baranova K., Rybnikova E. Differences in the autophagy response to hypoxia in the hippocampus and neocortex of rats // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 23. № 14. 8002. doi: 10.3390/ijms23148002
- Ciechanover A., Kwon Y.T. Degradation of misfolded proteins in neurodegenerative diseases: therapeutic targets and strategies // Exp. Mol. Med. 2015. V. 47. № 3. e147. doi: 10.1038/emm.2014.117
- Ciechanover A. Intracellular protein degradation: From a vague idea thru the lysosome and the ubiquitin-proteasome system and onto human diseases and drug targeting // Best Pract. Res. Clin. Haematol. 2017. V. 30. № 4. P. 341–355. doi: 10.1016/j.beha.2017.09.001
- Clark S.G., Graybeal L.L., Id S.B. et al. Basal autophagy is required for promoting dendritic terminal branching in Drosophila sensory neurons // PLoS One. 2018. V. 13. № 11. e0206743. doi: 10.1371/journal.pone.0206743
- Conway O., Akpinar H.A., Rogov V.V., Kirkin V. Selective autophagy receptors in neuronal health and disease // J. Mol. Biol. 2020. V. 432. № 8. P. 2483–2509. doi: 10.1016/j.jmb.2019.10.013
- Cuervo A.M., Dice J.F. A receptor for the selective uptake and degradation of proteins by lysosomes // Science. 1996. V. 273. P. 501–503. doi: 10.1126/science.273.5274.501
- Cuervo A.M., Wong E. Chaperone-mediated autophagy: roles in disease and aging // Cell Res. 2014. V. 24. № 1. P. 92–104. doi: 10.1038/cr.2013.153
- De Duve C., Wattiaux R. Functions of lysosomes // Annu. Rev. Physiol. 1966. V. 28. P. 435–492. doi: 10.1146/annurev.ph.28.030166.002251
- De Risi M., Torromino G., Tufano M. et al. Mechanisms by which autophagy regulates memory capacity in ageing // Aging Cell. 2020. V. 19. № 9. e13189. doi: 10.1111/acel.13189
- Deretic V., Saitoh T., Akira S. Autophagy in infection, inflammation and immunity // Nat. Rev. Immunol. 2013. V. 13. № 10. P. 722–737. doi: 10.1038/nri3532
- Djajadikerta A., Keshri S., Pavel M. et al. Autophagy induction as a therapeutic strategy for neurodegenerative diseases // J. Mol. Biol. 2020. V. 432.№8. P. 2799–2821. doi: 10.1016/j.jmb.2019.12.035
- Dice J.F. Peptide sequences that target cytosolic proteins for lysosomal proteolysis // Trends Biochem. Sci. 1990. V. 15. № 8. P. 305–309. doi: 10.1016/0968-0004(90)90019-8
- Dong Z., Han H., Li H. et al. Long-term potentiation decay and memory loss are mediated by AMPAR endocytosis // J. Clin. Invest. 2015. V. 125. P. 234–247. doi: 10.1172/JCI77888
- Ebato C., Uchida T., Arakawa M. et al. Autophagy is important in islet homeostasis and compensatory increase of beta cell mass in response to high-fat diet // Cell Metab. 2008. V. 8. P. 325–332. doi: 10.1016/j.cmet.2008.08.009
- Ehlers M.D. Reinsertion or degradation of AMPA receptors determined by activity-dependent endocytic sorting // Neuron. 2000. V. 28. P. 511–525 doi: 10.1016/s0896-6273(00)00129-x
- Feng Y., He D., Yao Z., Klionsky D.J. The machinery of macroautophagy // Cell Res. 2014. V. 24. № 1. P. 24–41 doi: 10.1038/cr.2013.168
- Fleming A., Noda T., Yoshimori T., Rubinsztein D.C. Chemical modulators of autophagy as biological probes and potential therapeutics // Nat. Chem. Biol. 2010. V. 7. P. 9–17. https://doi.org/10.1038/nchembio.500
- Fleming A., Bourdenx M., Fujimaki M. et al. The different autophagy degradation pathways and neurodegeneration // Neuron. 2022. V. 110. № 6. P. 935–966. doi: 10.1016/j.neuron.2022.01.017
- Friedman L.G., Lachenmayer M.L., Wang J. et al. Disrupted autophagy leads to dopaminergic axon and dendrite degeneration and promotes presynaptic accumulation of α-synuclein and LRRK2 in the brain // J. Neurosci. 2012. V. 32. № 22. P. 7585–7593. doi: 10.1523/JNEUROSCI.5809-11.2012
- Gafford G.M., Parsons R.G., Helmstetter F.J. Consolidation and reconsolidation of contextual fearmemory requires mammalian target of rapamycin-dependenttranslation in the dorsal hippocampus // Neuroscience. 2011. V. 182. P. 98–104. doi: 10.1016/j.neuroscience.2011.03.023
- Ginet V., Spiehlmann A., Rummel C. et al. Involvement of autophagy in hypoxic-excitotoxic neuronal death // Autophagy. 2014. V. 10. P. 846–860.
- Giordano S., Darley-Usmar V., Zhang J. Autophagy as an essential cellular antioxidant pathway in neurodegenerative disease // Redox Biol. 2013. V. 2. P. 82–90. doi: 10.1016/j.redox.2013.12.013
- Glatigny M., Moriceau S., Rivagorda M. et al. Autophagy is required for memory formation and reverses age-related memory decline // Curr Biol. 2019. V. 29. № 3. P. 435–448. doi: 10.1016/j.cub.2018.12.021
- Guo J.Y., Chen H.Y., Mathew R. et al. Activated Ras requires autophagy to maintain oxidative metabolism and tumorigenesis // Genes Dev. 2011. V. 25. P. 460–470. doi: 10.1101/gad.2016311
- Hara T., Nakamura K., Matsui M. et al. Suppression of basal autophagy in neural cells causes neurodegenerative disease in mice // Nature. 2006. V. 441. P. 885–889. doi: 10.1038/nature04724
- Harnett M.M., Pineda M.A., Latré de Laté P. et al. From Christian de Duve to Yoshinori Ohsumi: More to autophagy than just dining at home // Biomed. J. 2017. V. 40. P. 9–22. doi: 10.1016/j.bj.2016.12.004
- Hartleben B., Gödel M., Meyer-Schwesinger C. et al. Autophagy influences glomerular disease susceptibility and maintains podocyte homeostasis in aging mice // J. Clin. Invest. 2010. V. 120. P. 1084–1096. doi: 10.1172/JCI39492
- Hegde A.N., Inokuchi K., Pei W. et al. Ubiquitin C-terminal hydrolase is an immediate-early gene essential for long-term facilitation in Aplysia // Cell. 1997. V. 89. P. 115–126. doi: 10.1016/s0092-8674(00)80188-9
- Hernandez D., Torres C.A., Setlik W. et al. Regulation of presynaptic neurotransmission by macroautophagy // Neuron. 2012. V. 74. P. 277–284. doi: 10.1016/j.neuron.2012.02.020
- Hirling H. Endosomal trafficking of AMPA-type glutamatereceptors // Neuroscience. 2009. V. 158. P. 36–44. doi: 10.1016/j.neuroscience.2008.02.057
- Hoffmann S., Orlando M., Andrzejak E. et al. Light-Activated ROS production induces synaptic autophagy // J. Neurosci. 2019. V. 39. P. 2163–2183. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1317-18.2019
- Hylin M., Zhao J., Tangavelou K.T. et al. A role for autophagy in long-term spatial memory formation in male rodents // J. Neurosci Res. 2018. V. 96. № 3. P. 416–426. doi: 10.1002/jnr.24121
- Inami Y., Waguri S., Sakamoto A. et al. Persistent activation of Nrf2 through p62 in hepatocellular carcinoma cells // J. Cell Biol. 2011. V. 193. P. 275–284. doi: 10.1083/jcb.201102031
- Jobim P.F., Pedroso T.R., Christoff R.R. et al. Inhibition of mTOR by rapamycin in the amygdala or hippocampus impairs formation and reconsolidation of inhibitory avoidance memory // Neurobiol. Learn Mem. 2011. V. 97. P. 105–112. doi: 10.1016/j.nlm.2011.10.002
- Johansen T., Lamark T. Selective autophagy mediated by autophagic adapter proteins // Autophagy. 2011. V. 7. № 3. P. 279–296. doi: 10.4161/auto.7.3.14487
- Jung H.S., Chung K.W., Won Kim J.et al. Loss of autophagy diminishes pancreatic beta cell mass and function with resultant hyperglycemia // Cell Metab. 2008. V. 8. P. 318–324. doi: 10.1016/j.cmet.2008.08.013
- Kallergi E., Daskalaki A.D., Kolaxi A. et al. Dendritic autophagy degrades postsynaptic proteins and is required for long-term synaptic depression in mice // Nat. Commun. 2022. V. 13. № 1. P. 680. doi: 10.1038/s41467-022-28301-z.
- Kamada Y., Funakoshi T., Shintani T. et al. Tor-mediated induction of autophagy via an Apg1 proteinkinase complex // J. Cell Biol. 2000. V. 150. № 6. P. 1507–1513. doi: 10.1083/jcb.150.6.1507
- Kaushik S., Rodriguez-Navarro J.A., Arias E. et al. Autophagy in hypothalamic AgRP neurons regulates food intake and energy balance // Cell Metab. 2011. V. 14. P. 173–183. doi: 10.1016/j.cmet.2011.06.008
- Kessels H.W., Malinow R. Synaptic AMPA receptor plasticity and behavior // Neuron. 2009. V. 642. P. 340–350. doi: 10.1016/j.neuron.2009.01.015
- Kleele T., Marinkovic P., Williams P.R. et al. Anassay to image neuronal microtubule dynamics in mice // Nat. Commun. 2014. V. 5. № 4827. doi: 10.1038/ncomms5827
- Klionsky D.J., Emr S.D. Autophagy as a regulated pathway of cellular degradation // Science. 2000. V. 290. № 5497. P. 1717–1721. doi: 10.1126/science.290.5497.1717
- Klionsky D.J., Cregg J.M., Dunn Jr W.A. et al. A unified nomenclature for yeast autophagy-related genes // Dev. Cell. 2003. V. 5. № 4. P. 539–545. doi: 10.1016/s1534-5807(03)00296-x
- Klionsky D.J., Petroni G., Amaravadi R.K. et al. Autophagy in major human diseases // EMBO J. 2021. V. 40. № 19. e108863. doi: 10.15252/embj.2021108863
- Koike M., Shibata M., Tadakoshi M. et al. Inhibition of autophagy prevents hippocampal pyramidal neuron death after hypoxic/ischemic injury // Am. J. Pathol. 2008. V. 172. № 2. P. 454–469. doi: 10.2353/ajpath.2008.070876
- Komatsu M., Waguri S., Ueno T. et al. Impairment of starvation-induced and constitutive autophagy in Atg7-deficient mice // J. Cell Biol. 2005. V. 169. № 3. P. 425–434. doi: 10.1083/jcb.200412022
- Komatsu M., Waguri S., Chiba T. et al. Loss of autophagy in the central nervous system causes neurodegeneration in mice // Nature. 2006. V. 441. P. 880–884. doi: 10.1038/nature04723
- Komatsu M., Wang Q.J., Holstein G.R. et al. Essential role for autophagy protein Atg7 in the maintenance of axonal homeostasis and the prevention of axonal degeneration // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2007. V. 104. P. 14489–14494. doi: 10.1073/pnas.0701311104
- Komatsu M., Waguri S., Koike M. et al. Homeostatic levels of p62 control cytoplasmic inclusion body formation in autophagy-deficient mice // Cell. 2007. V. 131. P. 1149–1163. doi: 10.1016/j.cell.2007.10.035
- Kononenko N.L., Classen G.A., Kuijpers M. et al. Retrograde transport of TrkB-containing autophagosomes via the adaptor AP-2 mediates neuronal complexity and prevents neurodegeneration // Nat Commun. 2017. V. 8. 14819. doi: 10.1038/ncomms14819
- Ktistakis N.T. In praise of M. Anselmier who first used the term “autophagie” in 1859 // Autophagy. 2017. V. 13. P. 2015–2017. doi: 10.1080/15548627.2017.1367473
- Kuijpers M., Kochlamazashvili G., Stumpf A. et al. Neuronal autophagy regulates presynaptic neurotransmission by controlling the axonal endoplasmic reticulum // Neuron. 2021. V. 109. P. 299–313. doi: 10.1016/j.neuron.2020.10.005
- Lee S.H., Simonetta A., Sheng M. Subunit rules governing the sorting of internalized AMPA receptors in hippocampal neurons // Neuron. 2004. V. 43. P. 221–236. doi: 10.1016/j.neuron.2004.06.015
- Lee S., Sato Y., Nixon R.A. Lysosomal proteolysis inhibition selectively disrupts axonal transport of degradative organelles and causes an Alzheimer’s-like axonal dystrophy // J. Neurosci. 2011. V. 31. P. 7817–7830. doi: 10.1523/JNEUROSCI.6412-10.2011
- Lee J., Giordano S., Zhang J. Autophagy, mitochondria and oxidative stress: cross-talk and redox signalling // Biochem. J. 2012. V. 441. P. 523–540. doi: 10.1042/BJ20111451
- Lee Y.K., Lee J.A. Role of the mammalian ATG8/LC3 family in autophagy: differential and compensatory roles in the spatiotemporal regulation of autophagy // BMB Rep. 2016. V. 49. № 8. P. 424–430. doi: 10.5483/BMBRep.2016.49.8.081
- Levine B., Kroemer G. Biological functions of autophagy genes: adisease perspective // Cell. 2019. V. 176. № 1–2. P. 11–42. doi: 10.1016/j.cell.2018.09.048
- Li Y., Meloni E.G., Carlezon W.A. et al. Learning and reconsolidation implicate different synaptic mechanisms // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2013. V. 110. P. 4798–4803. doi: 10.1073/pnas.1217878110
- Li H., Wu J., Shen H. et al. Autophagy in hemorrhagic stroke: mechanisms and clinical implications // Prog. Neurobiol. 2018. V. 16. P. 79–97. doi: 10.1016/j.pneurobio.2017.04.002
- Lieberman O.J., Sulzer D. The synaptic autophagy cycle // J. Mol. Biol. 2020.V. 432. №8. P. 2589–2604. doi: 10.1016/j.jmb.2019.12.028
- Liu J., Xia H., Kim M. et al. Beclin1 controls the levels of p53 by regulating the deubiquitination activity of USP10 and USP13 // Cell. 2011. V. 147. P. 223–234. doi: 10.1016/j.cell.2011.08.037
- Liu Y., Xue X., Zhang H. et al. Neuronal-targeted TFEB rescues dysfunction of the autophagy-lysosomal pathway and alleviates ischemic injury in permanent cerebral ischemia // Autophagy. 2019. V. 15. № 3. P. 493–509. doi: 10.1080/15548627.2018.1531196
- Luningschror P., Sendtner M. Autophagy in the presynaptic compartment // Curr. Opin. Neurobiol. 2018. V. 51. P. 80–85. doi: 10.1016/j.conb.2018.02.023
- Maday S., Wallace K.E., Holzbaur E.L. Autophagosomes initiate distally and mature during transport toward the cell soma in primary neurons // J. Cell Biol. 2012. V. 196. № 4. P. 407–417. doi: 10.1083/jcb.201106120
- Maday S., Holzbaur E.L. Autophagosome biogenesis in primaryneurons follows an ordered and spatially regulated pathway // Dev. Cell. 2014. V. 30. P. 71–85. doi: 10.1016/j.devcel.2014.06.001
- Maday S., Holzbaur E.L. Compartment-specific regulation ofautophagy in primary neurons // J. Neurosci. 2016. V. 36. P. 5933–5945. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4401-15.2016
- Maglione M., Kochlamazashvili G., Eisenberg T. et al. Spermidine protects from age-related synaptic alterations at hippocampal mossy fiber-CA3 synapses // Sci. Rep. 2019. V. 9. № 1. 19616. doi: 10.1038/s41598-019-56133-3
- Mariño G., Niso-Santano M., Baehrecke E.H., Kroemer G. Self-consumption: the interplay of autophagy and apoptosis // Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2014. V. 15. P. 81–94. doi: 10.1038/nrm3735
- Masiero E., Agatea L., Mammucari C. et al. Autophagy is required to maintain muscle mass // Cell Metab. 2009. V. 10. P. 507–515. doi: 10.1016/j.cmet.2009.10.008
- Mayford M., Siegelbaum S.A., Kandel E.R. Synapses and memory storage // Cold Spring Harb Perspect. Biol. 2012. V. 4. № 6. a005751. doi: 10.1101/cshperspect.a005751
- Menzies F.M., Fleming A., Caricasole A. et al. Autophagy and neurodegeneration: pathogenic mechanisms and therapeutic opportunities // Neuron. 2017. V. 93. P. 1015–1034. doi: 10.1016/j.neuron.2017.01.022
- Migues P.V., Liu L., Archbold G.E. et al. Blocking synaptic removal of GluA2-containing AMPA receptors prevents the natural forgetting of long-term memories // J. Neurosci. 2016. V. 36. P. 3481–3494. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3333-15.2016
- Mizushima N., Yamamoto A., Matsui M., Yoshimori T., Ohsumi Y. In vivo analysis of autophagy in response to nutrient starvation using transgenic mice expressing a fluorescent autophagosome marker // Mol. Biol. Cell. 2004. V. 15. № 3. P. 1101–1111. doi: 10.1091/mbc.e03-09-0704
- Mizushima N., Yoshimori T., Levine B. Methods in mammalian autophagy research // Cell. 2010. V. 140. P. 313–326. doi: 10.1016/j.cell.2010.01.028
- Mizushima N., Komatsu M. Autophagy: renovation of cells and tissues // Cell. 2011. V. 147. P. 728–741. doi: 10.1016/j.cell.2011.10.026
- Mizushima N., Yoshimori T., Ohsumi Y. The role of Atg proteins in autophagosome formation // Annu. Rev. Cell Dev. Biol. 2011. V. 27. P. 107–132. doi: 10.1146/annurev-cellbio-092910-154005
- Mizushima N. A brief history of autophagy from cell biology to physiology and disease // Nat. Cell Biol. 2018. V. 20. № 5. P. 521–527. doi: 10.1038/s41556-018-0092-5
- Mo Y., Sun Y.Y., Liu K.Y. Autophagy and inflammation in ischemic stroke // Neural Regen. Res. 2020. V. 15. № 8. P. 1388–1396. doi: 10.4103/1673-5374.274331
- Nakai A., Yamaguchi O., Takeda T. et al. The role of autophagy in cardiomyocytes in the basal state and in response to hemodynamic stress // Nat. Med. 2007. V. 13. P. 619–624. doi: 10.1038/nm1574
- Nakatogawa H., Suzuki K., Kamada Y., Ohsumi Y. Dynamics and diversity in autophagy mechanisms: lessons from yeast // Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2009. V. 10. № 7. P. 458–467. doi: 10.1038/nrm2708
- Nguyen T.N., Padman B.S., Lazarou M. Deciphering the molecular signals of PINK1/Parkin mitophagy // Trends Cell Biol. 2016. V. 26. P. 733–744. doi: 10.1016/j.tcb.2016.05.008
- Nikoletopoulou V., Markaki M., Palikaras K., Tavernarakis N. Crosstalk between apoptosis, necrosis and autophagy // Biochim. Biophys. Acta. 2013. V. 1833. P. 3448–3459. doi: 10.1016/j.bbamcr.2013.06.001
- Nikoletopoulou V., Sidiropoulou K., Kallergi E., Dalezios Y., Tavernarakis N. Modulation of autophagy by BDNF underlies synaptic plasticity // Cell Metab. 2017. V. 26. P. 230–242. doi: 10.1016/j.cmet.2017.06.005
- Nixon R.A., Yang D.S., Lee J.H. Neurodegenerative lysosomal disorders: a continuum from development to late age // Autophagy. 2008. V. 4. № 5. P. 590–599. doi: 10.4161/auto.6259
- Onodera J., Ohsumi Y. Autophagy is required for maintenance of amino acid levels and protein synthesis under nitrogen starvation // J. Biol. Chem. 2005. V. 280. № 36. P. 31582–31586. doi: 10.1074/jbc.M506736200
- Ozcelik S., Fraser G., Castets P. et al. Rapamycin attenuates the progression of tau pathology in P301S tau transgenic mice // PLoS One. 2013. V. 8. № 5. e62459. doi: 10.1371/journal.pone.0062459
- Pandey K., Yu X., Steinmetz A., Alberini C. Autophagy coupled to translation is required for long-term memory // Autophagy. 2020. V. 17. № 7. P. 1614–1635. doi: 10.1080/15548627.2020.1775393
- Park H., Poo M.M. Neurotrophin regulation of neural circuit development and function // Nat. Rev. Neurosci. 2013. V. 14. № 1. P. 7–23. doi: 10.1038/nrn3379
- Parsons R.G., Gafford G.M., Helmstetter F.J. Translational control via the mammalian target of rapamycin pathway is critical for the formation and stability of long-term fear memory in amygdala neurons // J. Neurosci. 2006. V. 26. № 50. P. 12977–12983. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4209-06.2006
- Pattingre S., Espert L., Biard-Piechaczyk M., Codogno P. Regulation of macroautophagy by mTOR and Beclin 1 complexes // Biochimie. 2008. V. 90. № 2. P. 313–323. doi: 10.1016/j.biochi.2007.08.014
- Pitman R.K. Will reconsolidation blockade offer a novel treatment for posttraumatic stress disorder? // Front. Behav. Neurosci. 2011. V. 5. № 11. doi: 10.3389/fnbeh.2011.00011
- Puyal J., Vaslin A., Mottier V., Clarke P.G. Postischemic treatment of neonatal cerebral ischemia should target autophagy // Ann. Neurol. 2009. V. 66. № 3. P. 378–389. doi: 10.1002/ana.21714
- Quirk G.J., Mueller D. Neural mechanisms of extinction learning and retrieval // Neuropsychopharmacology. 2008. V. 33. № 1. P. 56–72. doi: 10.1038/sj.npp.1301555
- Raben N., Hill V., Shea L. et al. Suppression of autophagy in skeletal muscle uncovers the accumulation of ubiquitinated proteins and their potential role in muscle damage in Pompe disease // Hum. Mol. Genet. 2008. V. 17. № 24. P. 3897–3908. doi: 10.1093/hmg/ddn292
- Rami A., Kögel D. Apoptosis meets autophagy-like cell death in the ischemic penumbra: Two sides of the same coin? // Autophagy. 2008. V. 4. № 4. P. 422–426. doi: 10.4161/auto.5778
- Rami A., Langhagen A., Steiger S. Focal cerebral ischemia induces upregulation of Beclin 1 and autophagy-like cell death // Neurobiol. 2008. V. 29. P. 132–141. doi: 10.1016/j.nbd.2007.08.005
- Ravikumar B., Vacher C., Berger Z. et al. Inhibition of mTOR induces autophagy and reduces toxicity of polyglutamine expansions in fly and mouse models of Huntington disease // Nat. Genet. 2004. V. 36. № 6. P. 585–595. doi: 10.1038/ng1362
- Ravikumar B., Moreau K., Jahreiss L., Puri C., Rubinsztein D.C. Plasma membrane contributes to the formation of pre-autophagosomal structures // Nat. Cell Biol. 2010. V. 12. № 8. P. 747–757. doi: 10.1038/ncb2078
- Rodríguez-Navarro J.A., Rodríguez L., Casarejos M.J. et al. Trehalose ameliorates dopaminergic and tau pathology in parkin deleted/tau overexpressing mice through autophagy activation // Neurobiol. Dis. 2010. V. 39. № 3. P. 423–438. doi: 10.1016/j.nbd.2010.05.014
- Rowland A.M., Richmond J.E., Olsen J.G., Hall D.H., Bamber B.A. Presynaptic terminals independently regulate synaptic clustering and autophagy of GABAA receptors in Caenorhabditis elegans // J. Neurosci. 2006. V. 26. P. 1711–1720.doi: 10.1523/JNEUROSCI.2279-05.2006
- Rubinsztein D.C., Shpilka T., Elazar Z. Mechanisms of autophagosome biogenesis // Curr. Biol. 2012. V. 22. № 1. P. 29–34. doi: 10.1016/j.cub.2011.11.034
- Russell R.C., Tian Y., Yuan H. et al. ULK1 induces autophagy by phosphorylating Beclin-1 and activating VPS34 lipid kinase // Nat. Cell Biol. 2013. V. 15. № 7. P. 741–750. doi: 10.1038/ncb2757
- Rybnikova E., Samoilov M..Current insights into the molecular mechanisms of hypoxic pre- and postconditioning using hypobaric hypoxia // Front. Neurosci. 2015. V. 9. № 388. doi: 10.3389/fnins.2015.00388
- Rybnikova E., Nalivaeva N. Glucocorticoid-dependent mechanisms of brain tolerance to hypoxia // Int. J. Mol. Sci. 2021. V. 22. № 15. P. 7982. doi: 10.3390/ijms22157982
- Sainsbury A., Zhang L. Role of the arcuate nucleus of the hypothalamus in regulation of body weight during energy deficit // Mol. Cell Endocrinol. 2010. V. 316. № 2. P. 109–119. doi: 10.1016/j.mce.2009.09.025
- Sakai S., Shichita T. Inflammation and neural repair after ischemic brain injury // Neurochem. Int. 2019. V. 130. № 104316. doi: 10.1016/j.neuint.2018.10.013
- Samoilov M., Churilova A., Gluschenko T., Rybnikova E. Neocortical pCREB and BDNF expression under different modes of hypobaric hypoxia: role in brain hypoxic tolerance in rats // Acta Histochem. 2014. V. 116. № 5. P. 949–957. doi: 10.1016/j.acthis.2014.03.009
- Shehata M., Matsumura H., Okubo-Suzuki R., Ohkawa N., Inokuchi K. Neuronal stimulation induces autophagy in hippocampal neurons that is involved in AMPA receptor degradation after chemical long-term depression // J. Neurosci. 2012. V. 32. № 30. P. 10413–10422. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4533-11.2012
- Shehata M., Inokuchi K. Does autophagy work in synaptic plasticity and memory? // Rev. Neurosci. 2014. V. 25. № 4. P. 543–557. doi: 10.1515/revneuro-2014-0002
- Shehata M., Abdou K., Choko K. et al. Autophagy enhances memory erasure through synaptic destabilization // J. Neurosci. 2018. V. 38. P. 3809–3822. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3505-17.2018
- Shen W., Ganetzky B. Autophagy promotes synapse development in Drosophila // J. Cell Biol. 2009. V. 187. № 1. P. 71–79. doi: 10.1083/jcb.200907109
- Sheng R., Zhang L.S., Han R. et al. Autophagy activation is associated with neuroprotection in a rat model of focal cerebral ischemic preconditioning // Autophagy. 2010. V. 6. № 4. P. 482–494. doi: 10.4161/auto.6.4.11737
- Shepherd J.D., Huganir R.L. The cell biology of synaptic plasticity: AMPA receptor trafficking // Annu. Rev. Cell. Dev. Biol. 2007. V. 23. P. 613–643. doi: 10.1146/annurev.cellbio.23.090506.123516
- Shi R., Weng J., Zhao L. et al. Excessive autophagy contributes to neuron death in cerebral ischemia // CNS Neurosci. Ther. 2012. V. 18. № 3. P. 250–260. doi: 10.1111/j.1755-5949.2012.00295.x
- Sidibe D.K., Vogel M.C., Maday S. Organization of the autophagy pathway in neurons // Curr. Opin. Neurobiol. 2022. V. 75. № 102554. doi: 10.1016/j.conb.2022.102554
- Singh R. Autophagy and regulation of lipid metabolism // Results Probl, Cell Differ. 2010. V. 52. P. 35–46 doi: 10.1007/978-3-642-14426-4_4.
- Son J.H., Shim J.H., Kim K.H., Ha J.Y., Han J.Y. Neuronal autophagy and neurodegenerative diseases // Exp. Mol. Med. 2012. V. 44. № 2. P. 89–98. doi: 10.3858/emm.2012.44.2.031
- Soukup S-F., Kuenen S., Vanhauwaert R. et al. A LRRK2-dependent endophilinA phosphoswitch is critical for macroautophagy at presynaptic terminals // Neuron. 2016. V. 92. P. 829–844. doi: 10.1016/j.neuron.2016.09.037
- Spruston N. Pyramidal neurons: dendritic structure and synaptic integration // Nat. Rev. Neurosci. 2008. V. 9. P. 206–221. https://doi.org/10.1038/nrn2286
- Stavoe A.K., Hill S.E., Hall D.H., Colon-Ramos D.A. KIF1A/UNC-104 transports ATG-9 to regulate neurodevelopment and autophagy at synapses // Dev. Cell. 2016. V. 38. P. 171–185. doi: 10.1016/j.devcel.2016.06.012
- Stoica L., Zhu P.J., Huang W. et al. Selective pharmacogenetic inhibition of mammalian target of Rapamycin complex I (mTORC1) blocks long-term synaptic plasticity and memory storage // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2011. V. 108. № 9. P. 3791–3796. doi: 10.1073/pnas.1014715108
- Suzuki K., Ohsumi Y. Molecular machinery of autophagosome formation in yeast, Saccharomyces cerevisiae // FEBS Lett. 2007. V. 581. № 11. P. 2156–2161. doi: 10.1016/j.febslet.2007.01.096
- Suzuki S.W., Onodera J., Ohsumi Y. Starvation induced cell death in autophagy-defective yeast mutants is caused by mitochondria dysfunction // PLoS One. 2011. V. 6. № 2. e17412. doi: 10.1371/journal.pone.0017412
- Takamura A., Komatsu M., Hara T. et al. Autophagy-deficient mice develop multiple liver tumors // Genes Dev. 2011. V. 25. № 8. P. 795–800. doi: 10.1101/gad.2016211
- Takeshige K., Baba M., Tsuboi S., Noda T., Ohsumi Y. Autophagy in yeast demonstrated with proteinase-deficient mutants and conditions for its induction // J. Cell Biol. 1992. V. 119. № 2. P. 301–311. doi: 10.1083/jcb.119.2.301
- Tang G., Gudsnuk K., Kuo S.H. et al. Loss of mTOR-dependent macroautophagy causes autistic-like synaptic pruning deficits // Neuron. 2014. V. 83. № 5. P 1131–1143. doi: 10.1016/j.neuron.2014.07.040.
- Tooze S.A., Yoshimori T. The origin of the autophagosomal membrane // Nat. Cell Biol. 2010. V. 12. № 9. P. 831–835. doi: 10.1038/ncb0910-831
- Tsukada M., Ohsumi Y. Isolation and characterization of autophagy-defective mutants of Saccharomyces cerevisiae // FEBS Lett. 1993. V. 333. № 1–2. P. 169–174. doi: 10.1016/0014-5793(93)80398-e
- Wang T., Martin S., Papadopulos A. et al. Control of autophagosome axonal retrograde flux by presynaptic activity unveiled using botulinum neurotoxin type A // J. Neurosci. 2015. V. 35. № 15. P. 6179–6194. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3757-14.2015
- Wei Y., Liu M., Li X., Liu J., Li H. Origin of the autophagosome membrane in mammals // Biomed. Res. Int. 2018. V. 2018. № 1012789. doi: 10.1155/2018/1012789
- Wullschleger S., Loewith R., Hall M.N. TOR signaling in growth and metabolism // Cell. 2006. V. 124. № 3. P. 471–484. doi: 10.1016/j.cell.2006.01.016
- Yan J., Porch M.W., Court-Vazquez B., Bennett M.V.L., Zukin R.S. Activation of autophagy rescues synaptic and cognitive deficits in fragile X mice // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2018. V. 115. № 41. P. E9707–E9716. doi: 10.1073/pnas.1808247115
- Yang Y., Coleman M., Zhang L., Zheng X., Yue Z. Autophagy in axonal and dendritic degeneration // Trends Neurosci. 2013. V. 36. № 7. P. 418–428. doi: 10.1016/j.tins.2013.04.001
- Yang Z., Lin P., Chen B. et al. Autophagy alleviates hypoxia-induced blood-brain barrier injury via regulation of CLDN5 (claudin 5) // Autophagy. 2021. V. 17. № 10. P. 3048–3067. doi: 10.1080/15548627.2020.1851897
- Yang S., Park D., Manning L. et al. Presynaptic autophagy is coupled to the synaptic vesicle cycle via ATG-9 // Neuron. 2022. V. 110. № 5. P. 824–840.e10. doi: 10.1016/j.neuron.2021.12.031
- Young J.E., Martinez R.A., La Spada A.R. Nutrient deprivation induces neuronal autophagy and implicates reduced insulin signaling in neuroprotective autophagy activation // J. Biol. Chem. 2009. V. 284. № 4. P. 2363–2373. doi: 10.1074/jbc.M806088200
- Zhang J. Autophagy and mitophagy in cellular damage control // Redox Biol. 2013. V. 1. № 1. P. 19–23. doi: 10.1016/j.redox.2012.11.008
- Zhang X., Yan H., Yuan Y. et al. Cerebral ischemia-reperfusion-induced autophagy protects against neuronal injury by mitochondrial clearance // Autophagy. 2013. V. 9. № 9. P. 1321–1333. doi: 10.4161/auto.25132
- Zweifel L.S., Kuruvilla R., Ginty D.D. Functions and mechanisms of retrograde neurotrophin signalling // Nat. Rev. Neurosci. 2005. V. 6. № 8. P. 615–625. doi: 10.1038/nrn1727
Supplementary files