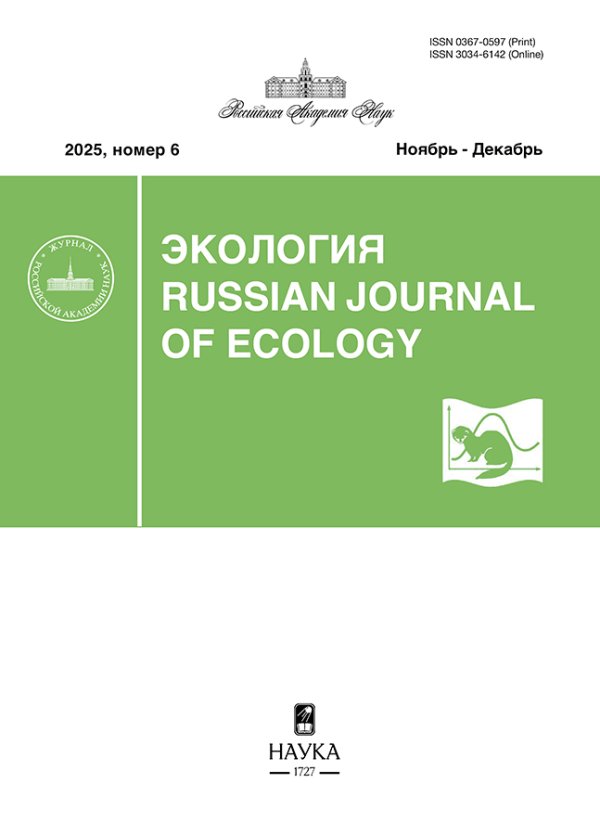Изменчивость размеров черепа обыкновенной лисицы вдоль Уральского меридиана: правило Бергмана или правило оптимума?
- Авторы: Корытин Н.С.1, Госьков А.М.1
-
Учреждения:
- Институт экологии растений и животных УрО РАН
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 56-64
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-0597/article/view/259436
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367059724010069
- EDN: https://elibrary.ru/XBPLPA
- ID: 259436
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Проанализированы изменения размеров черепа обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L.) вдоль восточного макросклона Уральского хребта от лесотундры до степи. Размеры изменялись от минимальных на севере до максимальных в предлесостепных сосново-березовых лесах. Далее к югу размеры черепа снова уменьшались. Аналогично изменялась средняя плотность населения лисицы. На основании этих данных сделан вывод о том, что размеры изменяются в соответствии с правилом оптимума, а не с правилом Бергмана. Вероятно, микроэволюционные адаптации к условиям обитания происходят под воздействием общих факторов, оказывающих влияние как на размеры тела, так и на плотность населения вида.
Полный текст
Обыкновенная лисица – вид, занимающий огромный, вероятно, один из самых больших среди млекопитающих ареал и демонстрирующий значительную географическую изменчивость. На всем ареале выделяют до 45 подвидов [1]. По разным сводкам на территории бывшего СССР известны 14–17 подвидов, объединяемых в 3 группы: vulpes, karagan, caucasica [2–4], а на территории России – 12 подвидов [5]. Подвиды группы vulpes населяют лесную зону, karagan – лесостепи, степи и пустыни, caucasica – горы.
В. Г. Гептнер с соавт. [2] и А. А. Аристов, Г. Ф. Барышников [4] при описании подвидов лисицы указывают, что наиболее крупные звери населяют лесную зону как в пределах европейской части России, так и в Сибири: v. v. vulpes, v. v. tobolica, v. v. jakutensis, v. v. beringiana, v. v. daurica. Также к крупным относят спорные подвиды, которые выделяют не все систематики: v. v. kamtschadensis, v. v. shantaricus, v. v. dolichocrania, v. v. schrencki. Авторы, выделяющие v. v. diluta, лесостепную лисицу [2, 3, 6–8], указывают на такие же крупные размеры этой формы. Более мелкие размеры свойственны степным лисицам v. v. stepensis, v. v. karagan, еще более мелкие лисицы обитают южнее – в полупустынях и пустынях Средней Азии (v. v. flavescens). В целом можно полагать, что изменение размеров лисицы по изложенному выше описанию соответствует правилу Бергмана. На севере и северо-востоке ареала обитают наиболее крупные звери, далее на юг размеры уменьшаются.
На карте изолиний общей длины черепа лисицы, опубликованной П. В. Терентьевым [9], размеры лисиц изменяются несколько по-иному и, по заключению автора, в большей мере соответствуют правилу оптимума. В западной части ареала, в пределах бывшего СССР, длина черепа возрастает от южной части пустынь Туранской низменности на северо-запад, приблизительно до южнотаежных лесов Русской равнины. Далее к северу и западу размер черепа несколько уменьшается. В восточной части ареала картина менее однозначная: от минимума на Среднесибирском плоскогорье размеры лисиц увеличиваются на юго-восток и северо-восток, в свою очередь основные изолинии идут в северо-восточном направлении приблизительно до бассейна Колымы.
По материалам В. Г. Юдина [10] на Дальнем Востоке наиболее крупная форма (dolichocrania, [6]) обитает в Приморье, Нижнем и Среднем Приамурье (в лесной зоне). Далее к северу размеры лисиц уменьшаются. На Чукотском полуострове, в бассейне р. Анадырь и, вероятно, в бассейне р. Индигирки обитает относительно мелкая лисица (кондилобазальная длина черепа самцов 141.9 мм, самок – 135.3 мм) [10], т. е. на северо-востоке ареала в Евразии обитает не крупная форма, как этого следовало ожидать в соответствии с правилом Бергмана, а относительно мелкая лисица. Информация о размерах лисиц из других частей ареала, где лисица обитает в лесотундре либо тундре, отсутствует.
Анализ географической изменчивости размеров животных показывает, что размеры тела большинства видов как среди пойкилотермных, так и среди гомойотермных изменяются, следуя правилу Бергмана. М. В. Мина и Г. А. Клевезаль [11] на большом числе примеров детально обсудили влияние различных факторов на рост животных, объясняющих природу географической изменчивости, которая может проявляться в соответствии с правилом Бергмана. В частности, эти авторы описали результаты опытов Барнетта с соавт., показывающие, «что выращиваемые на холоде мыши при отборе на высокие темпы размножения (именно такой отбор идет в природе) через 10–12 поколений достигали бóльших размеров, чем особи из нормальных условий, и эти свои особенности роста сохраняли при любом температурном режиме выращивания» (цит. по: [11], стр. 152).
Ревизия правила Бергмана на большом числе видов показывает, что, например, 72.34% птиц следуют правилу Бергмана, а 27.66% не следуют [12]. Эти же авторы выявили, что среди проанализированных 149 видов млекопитающих данному правилу следуют только 65.1%, в том числе лисица. При более детальном рассмотрении изменчивости размеров у представителей отряда Carnivora (46 видов) оказалось, что только у 50% видов (включая лисицу) размеры изменяются в соответствии с правилом Бергмана [13].
Увеличение или уменьшение массы тела млекопитающих некоторые авторы [14] связывают с продуктивностью кормовых объектов, изменение размеров хищников – с массой основных видов жертв, в частности волка [15] и лисицы [16]. Лисица была также крупнее в регионах, где более развито сельское хозяйство [17].
Ревизия правила Бергмана за более чем полуторавековой период с момента его опубликования проводилась неоднократно, есть как сторонники, так и противники этого постулата. Выполненные в последние десятилетия работы на большом числе видов птиц и млекопитающих [12, 13] свидетельствуют о том, что половина или более видов следуют правилу Бергмана, в том числе и интересующий нас вид – обыкновенная лисица.
На Урале и прилегающих территориях лисица обитает от северной до южной оконечности Уральских гор, включая южную тундру, лесотундру, тайгу, лесостепь и степь. По Уралу проводят условную границу между v. v. vulpes и v. v. tobolica, однако информация о размерах собственно уральских лисиц отсутствует.
В целом по известным на настоящий момент сведениям о размерах лисиц в пределах ареала на территории бывшего СССР нельзя однозначно утверждать, по какому из географических правил изменяются размеры – Бергмана или оптимума ареала (abundant centre hypothesis). В связи с этим представляется актуальным изучить изменение размеров лисицы на достаточно протяженном по меридиану участке ареала – от лесотундры до степи. Такой подход к анализу позволит нивелировать в какой-то мере возможное влияние на размеры широты и высоты местности.
Цель настоящей работы – восполнить пробел в недостающей информации о размерах уральских лисиц и попытаться выявить возможную закономерность изменения их размеров вдоль Уральского меридиана.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для анализа послужили черепа из коллекций музея ИЭРиЖ УрО РАН и Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН, собранные (в том числе авторами) за периоды 1955–1990 гг. и 2012–2019 гг. у охотников в течение промыслового сезона, который продолжается с ноября до начала марта. Всего было использовано 1473 черепа лисиц, добытых преимущественно в Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях (табл. 1), т. е. с восточного макросклона Уральских гор и прилегающей территории.
Таблица 1. Структура и объем выборки
Регион | Самцы | Самки | Общий итог | ||
0+ | 1++ | 0+ | 1++ | ||
Свердловская обл. | 426 | 184 | 259 | 159 | 1028 |
Челябинская обл. | 36 | 20 | 29 | 15 | 100 |
Казахстан | 6 | 2 | 9 | 17 | |
Курганская обл. | 50 | 15 | 37 | 25 | 127 |
ЯНАО | 11 | 5 | 11 | 3 | 30 |
Башкирия | 3 | 5 | 1 | 9 | |
Тюменская обл. | 23 | 13 | 27 | 8 | 71 |
Оренбургская обл. | 14 | 18 | 34 | 18 | 84 |
ХМАО | 2 | 4 | 1 | 7 | |
Общий итог | 571 | 266 | 407 | 229 | 1473 |
В анализ включены черепа, для которых были известны пол, сезон и место добычи. По возможности определяли приблизительные координаты места добычи. В случаях, когда был известен только район добычи, животному присваивали координаты, близкие к центральным для административного района. Исследуемая территория имеет протяженность с юга на север 51.4–68.4° с. ш. и с запада на восток 56–73.6° в. д. В меридиональном направлении крайние точки отстоят друг от друга на расстояние около 2000 км.
Возраст лисиц определяли, используя несколько методов. На первом этапе измеряли ширину канала и диаметр верхнего клыка, рассчитывали относительную ширину канала клыка к диаметру самого клыка [18]. При относительной ширине канала более 45% животных считали молодыми [19], остальных относили к взрослым, возраст которых определяли путем подсчета числа годовых слоев в цементе клыка по стандартной методике [20, 21]. При отсутствии клыков изучали шов между основной клиновидной костью и передней клиновидной костью (sutura presphenoid-basis phenoidalis). Этот шов открыт и хорошо различим у сеголеток, а на второй год жизни закрывается полностью и становится неразличимым на черепе [22–24]. Анализировали изменения размеров признаков в 4 группах: молодых самцов и самок; взрослых самцов и самок.
Измеряли следующие признаки черепа (по [7]), снятые с помощью штангенциркуля ШЦ-II-250-0.05 с точностью до 0.05 мм (рис. 1): кондилобазальную длину черепа (КБЗ), длину лицевого отдела, длину мозгового отдела, скуловую ширину, межглазничную ширину, заглазничную ширину, мастоидную ширину, высоту черепа в области барабанных камер, диаметр клыка. Предположили, что изменение длины черепа отражает изменение длины тела.
Рис. 1. Схема измерения признаков черепа: 1 – кондилобазальная длина, 2 – длина лицевого отдела, 3 – длина мозгового отдела, 4 – скуловая ширина, 5 – межглазничная ширина, 6 – заглазничная ширина, 7 – мастоидная ширина, 8 – высота черепа в области слуховых капсул.
Изменения признаков рассматривали как в широтном диапазоне, так и в группах, соответствующих тем или иным природным зонам согласно картам ботанико-географического районирования [25–28]. Как видно из табл. 1, имеющийся в нашем распоряжении материал распределен крайне неравномерно по административным образованиям, соответственно и по природным зонам и подзонам. Малый объем материала получен из лесотундры и северной тайги, в связи с чем они были объединены в одну группу. С другой стороны, достаточный объем материала из южной тайги и лесостепи позволил выделить в отдельную группу подзону предлесостепи (или подзону осиново-березовых или сосново-березовых подтаежных лесов) [25, 26], расположенную в юго-восточной части Свердловской области и отличающуюся высокой мозаичностью местообитаний, значительной антропогенной трансформацией и низким уровнем среднегодовых осадков.
При сравнении плотности населения лисицы в разных природных зонах использовали средний выход шкурок с 10 000 га. Ранее нами было показано [29], что этот показатель лучше описывает динамику численности лисицы, чем показатель численности, полученный с помощью зимнего маршрутного учета. Использовали сведения за 10-летний период – с 1961-го по 1970-й годы, когда промысел лисицы был хорошо развит. Подсчитывали среднее число заготовленных шкурок в административных районах Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской (в состав которой на тот период входили Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) областей. Административные районы относили к той или иной природной зоне (подзоне), если более 50% площади района располагалось в пределах зоны.
При статистической обработке материала использовали дисперсионный и регрессионный анализы. Обработку проводили в программе Statistica 8.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты измерения основного признака, характеризующего размер черепа, – кондилобазальной длины – приведены в табл. 2 и 3. Этот признак используется для анализа большинством авторов, изучающих географическую изменчивость лисицы, и в связи с этим он позволяет сравнивать изменения размеров в ареале вида.
Таблица 2. Изменения кондилобазальной длины черепа молодых (0+) лисиц по природным зонам
Растительная зона (подзона) | Самцы | Самки | ||
n | M±SE | n | M±SE | |
Лесотундра+северная тайга | 10 | 144.22±1.25 | 10 | 136.43±1.42 |
Южная тайга | 30 | 146.41±0.92 | 32 | 139.34±0.87 |
Предлесостепь | 351 | 148.08±0.26 | 201 | 141.18±0.33 |
Лесостепь | 125 | 145.79±0.46 | 93 | 139.64±0.54 |
Степь | 27 | 143.17±0.87 | 50 | 138.55±0.58 |
Таблица 3. Изменения кондилобазальной длины черепа взрослых (1++) лисиц по природным зонам
Растительная зона (подзона) | Самцы | Самки | ||
n | M±SE | n | M±SE | |
Лесотундра+северная тайга | 9 | 148.79±0.97 | 3 | 137.58±1.86 |
Южная тайга | 34 | 147.86±0.84 | 23 | 140.91±1.01 |
Предлесостепь | 137 | 149.21±0.38 | 124 | 142.16±0.35 |
Лесостепь | 52 | 147.86±0.74 | 47 | 140.70±0.46 |
Степь | 19 | 145.56±1.11 | 21 | 139.66±1.06 |
В трех из четырех групп (повторностей) мы видим закономерно изменяющийся результат в пяти категориях растительных зон – постепенное нарастание величины КБЗ от лесотундры и северной тайги до предлесостепи и плавное снижение в южном направлении. И только величина черепа взрослых самцов из лесотундры и северной тайги несколько нарушает полученный результат – она оказалась больше при сопоставлении с другими группами. В целом изменения КБЗ черепа в зависимости от принадлежности к природной зоне оказались высокозначимыми (F(4, 1378) = 17.83; p = 0.000). Корреляция между средними значениями и стандартными отклонениями отсутствует, дисперсии однородны. Практически сходный результат получен при несколько ином сравнении – изменении КБЗ в зависимости от широты местности (рис. 2, 3). Наибольшие средние размеры характерны для широты от 56.7° до 57.5°. Именно в этом диапазоне широты расположен участок предлесостепи. К северу и югу от него средние размеры уменьшаются.
Рис. 2. Изменение кондилобазальной длины черепа молодых самцов (1) и самок (2) в градиенте широты: линия – аппроксимация среднего по методу взвешенных наименьших квадратов; точки – единичные наблюдения; точки и вертикальные линии – среднее ± SE. Самцы F(63;407) = 1.89; p = 0.0001; самки F(48;293) = 1.57; p = 0.0119.
Рис. 3. Изменение кондилобазальной длины черепа взрослых самцов (1) и самок (2) в градиенте широты: линия – аппроксимация среднего по методу взвешенных наименьших квадратов, точки – единичные наблюдения; точки и вертикальные линии – среднее ± SE. Самцы F(51;170) = 1.8; p = 0.0027; самки F(44;158) = 1.95; p = 0.0015.
Аналогично кондилобазальной длине изменяются во всех 4 группах длина лицевого отдела, длина мозгового отдела, скуловая ширина, межглазничная ширина, мастоидная ширина, высота черепа в области слуховых камер (Приложение 1, доступно в электронной версии).
Между широтой местности и растительными зонами (подзонами) существует тесная отрицательная связь (r = –0.81, p = 0.000), что вполне ожидаемо. Тем не менее мы не ограничились приведением только одного параметра. В градиенте широты обнаружено плавное увеличение размеров черепа лисицы с севера на юг до подзоны предлесостепи и затем плавное их снижение до зоны степи. Оценка средней величины КБЗ в пределах одной растительной зоны дает возможность с помощью определенно объективного параметра сравнивать полученные значения с другими регионами.
При анализе рис. 3 обращает на себя внимание сужение расстояния между кривыми (величиной КБЗ у взрослых самцов и самок) от высоких широт к низким. Этот факт указывает на однозначное снижение степени полового диморфизма от северных широт к более южным. Отметим также, что на рис. 2, отражающем изменение КБЗ молодых самцов и самок, кривые идут параллельно, т. е. у молодых зверей из разных частей ареала половой диморфизм остается одним и тем же.
Для того чтобы понять, к какой относительной размерной категории (крупные, средние, мелкие) принадлежат полученные нами величины КБЗ из разных природных зон, мы собрали литературные сведения о размерах лисиц [2, 6, 10, 30–44]. Всего получилось 45 средних значений КБЗ для самцов и 41 – для самок. Точки охватывают почти всю Европу и часть ареала в Азии, расположенную в пределах бывшего СССР. Весь диапазон значений разделили на три равные части: в категорию крупных попали значения КБЗ самцов, равные 148.6 мм и более; в категорию средних – от 148.5 до 144.6 мм; в категорию мелких – 144.5 мм и менее. Аналогичное деление для самок выглядит следующим образом: крупные – более 142.1 мм; средние – от 142.0 до 138.0 мм; мелкие – менее 137.9 мм. Самцы и самки уральских взрослых лисиц из степи и лесостепи попали в категорию средних по размеру, также к средним следует относить лисиц из южной тайги. Крупные лисицы населяют предлесостепь.
Относительно противоречивая ситуация получилась для взрослых лисиц из северных регионов, лесотундры и северной тайги: самки попали в категорию мелких, самцы – в категорию крупных. Молодые звери из этих подзон оказались самыми мелкими. Следует отметить малый объем выборок из северных регионов, соответственно и оценки средних недостаточно надежны. Тем не менее мы полагаем, что фактов, свидетельствующих о малом размере лисиц из этих регионов, больше, чем противоположных. По нашим данным, молодые самцы и самки, а также взрослые самки оказались мельче зверей из южной тайги и тем более мельче зверей из предлесостепи.
Таким образом, наибольшие размеры лисиц свойственны срединной части ареала, к северу и югу размеры уменьшаются. Полученные результаты совпадают с данными В. Г. Юдина [10] о мелких размерах лисиц, обитающих на Чукотке, а также с частью данных на карте, опубликованной П. В. Терентьевым [9]. На карте видно некоторое снижение размеров к северу от средней полосы европейской части России.
Изменение размеров черепа лисицы происходит в соответствии с правилом оптимума. Явно отсутствует соответствие правилу Бергмана – в более холодном климате размеры уменьшаются.
Параллельно с изменением размеров черепа сравнили среднюю плотность населения лисицы в разных природных зонах. Оказалось, что кривая изменений плотности ведет себя идентично с кривой изменений размеров черепа (рис. 4). Минимальная плотность населения характерна для северных регионов, затем она постепенно повышается до предлесостепи, а далее к югу, в лесостепи и степи выход шкурок с 10 000 га снижается (р = 0.000). Разница в плотности между лесотундрой, северной тайгой и предлесостепью достигает 2–7 порядков, между последней и южной тайгой разница почти двукратная. Далее к югу плотность снижается не столь существенно – в 1.5–2.3 раза.
Рис. 4. Изменение средней плотности населения лисицы, выраженной в среднем выходе шкурок с 10000 га местообитаний, в разных природных зонах и подзонах. Среднее ± SE. F(5; 91)=5.67; p=0.00013.
Итак, в предлесостепи мы наблюдаем не только максимальные размеры лисиц, но и самую высокую плотность вида, т. е. правило оптимума подтверждает не один параметр (размеры), а два – размеры и плотность населения.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Относительно высокая плотность населения лисиц – есть следствие повышенной выживаемости и (или) плодовитости, что вкупе с размерами тела говорит о том, что условия предлесостепи наиболее благоприятны для этого вида. Условия обитания как в лесотундре и северной тайге, так и в степи менее благоприятны, что выражается не только в более низкой плотности населения, но также и в размерах животных. Вполне вероятно, что в пессимальных условиях лисица испытывает не только прямое влияние температуры, но также и более мощное воздействие других факторов. К таковым можно отнести малый объем экологической ниши, который явно меньше как на севере ареала, так и в степной зоне.
Одновременное уменьшение средней плотности населения и размеров черепа свидетельствует о том, что как на севере, в подзонах лесотундры и северной тайги, так и на юге, в степи, лисица испытывает воздействие комплекса неблагоприятных факторов, влияющих не только на размеры животных, но и на плодовитость и выживаемость.
Наши результаты имеют большое сходство с данными, полученными при изучении размеров и массы тела европейского барсука [45]. Длина и масса тела барсука из популяции, обитающей западнее 40˚ в. д., изменяются в соответствии с правилом оптимума, а не с правилом Бергмана. Наиболее крупные барсуки обитают в центральной части ареала этой популяции, севернее и южнее размеры уменьшаются.
Полагаем, что на севере и юге ареала лисицы доминирующими факторами, определяющими некоторое уменьшение размеров, могут быть факторы различной природы: где-то определяющим может быть фактор или, скорее всего, факторы абиотические, где-то факторы биотической природы. Вероятно, те преимущества, которые дает правило Бергмана (физический смысл которого определяется правилом Рубнера) более крупным особям благодаря снижению теплопотерь в северных широтах, нивелируются каким-то более мощным фактором, приводящим не к увеличению, а к уменьшению размеров тела. Уровень теплопотерь в большей мере определяется теплозащитными свойствами волосяного покрова, густота и высота которого в зимний период существенно выше у северных форм многих широко распространенных видов [46]. В целом, скорее всего, в центре ареала лисицы факторы воздействия складываются таким образом, что баланс между потребляемой и расходуемой энергией оказывается более выгодным, чем на севере и юге.
Обнаруженный нами факт изменения размеров черепа (тела) лисицы в соответствии с правилом оптимума, а не правилом Бергмана, позволяет предположить, что микроэволюционная дифференциация популяций лисицы в ареале идет под влиянием иных факторов, отличных от тех, которые определяют изменение отношения площади поверхности к объему тела. Поэтому необходим детальный анализ размеров тела лисицы как одного из важнейших видовых признаков в пределах всего ареала, изучения зависимостей изменения размеров от потенциальных факторов воздействия.
Работа выполнена в рамках бюджетной тематики (государственное задание № 122021000084-4). Авторы декларируют отсутствие конфликта интересов. Работа выполнена на музейном материале, без постановки экспериментов на живых зверях. Тушки лисиц были собраны у охотников, имевших специальные разрешения на их добычу.
Об авторах
Н. С. Корытин
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: nsk@ipae.uran.ru
Россия, 620144, Екатеринбург
А. М. Госьков
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Email: nikkor@olympus.ru
Россия, 620144, Екатеринбург
Список литературы
- Wilson D.E., Reeder D.M. Mammal species of the world / Ed. Wilson D.E., Reeder D.M. Baltimor, Maryland: JHU Press, 2005. 2000 p.
- Гептнер В.Г., Наумов Н.П., Юргенсон П.Б. и др. Млекопитающие Советского Cоюза. Т. 2. Морские коровы и хищные. М.: Высшая школа, 1967. 1004 с.
- Барышников Г.Ф., Гаррут В.Е., Громов И.М. и др. Каталог млекопитающих СССР (плиоцен–современность) Л.: Наука, 1981. 456 с.
- Аристов А.А., Барышников Г.Ф. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Хищные и ластоногие. СПб., 2001. 560 с.
- Абрамов А.В., Хляп Л.А. Oтряд Carnivora // Млекопитающие России: систематико-географический справочник: Сборник трудов Зоологического музея МГУ. Т. 52. / Под ред. Павлинова И.Я., Лисовского А.А. М.: Тов-во научн. изд. КМК, 2012. С. 313–382.
- Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии. Хищные млекопитающие. М.; Л.: Государственное изд-во, 1931. 776 с.
- Новиков Г.А. Хищные млекопитающие фауны СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 294 с.
- Павлинов И.Я., Россолимо О. Л. Систематика млекопитающих СССР: дополнения. (Исследования по фауне). М.: Изд-во МГУ, 1998. С. 190.
- Терентьев П.В. Методические соображения по изучению внутривидовой географической изменчивости // Внутривидовая изменчивость наземных позвоночных животных и микроэволюция / Труды Всесоюзного совещания. Под ред. Шварца С.С. Свердловск, 1966. С. 3–20.
- Юдин В.Г. Лисица Дальнего Востока СССР. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1986. 284 с.
- Мина М.В., Клевезаль Г.А. Рост животных. Анализ на уровне организма. М.: Наука, 1976. 291 с.
- Meiri S., Dayan T. On the validity of Bergmann’s rule // Journal of Biogeography. 2003. V. 30. P. 331–351.
- Meiri S., Dayan T., Simberloff D. Carnivores, biases and Bergmann’s rule // Biol. J. Linn. Soc. 2004. V. 81. P. 579–588.
- McNab B.K. Geographic and temporal correlations of mammalian size reconsidered: a resource rule // Oecologia. 2010. V. 164. P. 13–23. doi: 10.1007/s00442–010–1621–5
- Geist V. Bergmann’s rule is invalid. // Canad. Journal of Zoology. 1987. V. 65. P. 1035–1038.
- Kolb H. H. Variation in the size of foxes in Scotland // Biol. J. Linn. Soc. 1978. V. 10. P. 291–304.
- Yom-Tov Y., Yom-Tov Sh., Barreiro J. et al. Body size of the red fox Vulpes vulpes in Spain: the effect of agriculture. // Biol. J. Linn. Soc. 2007. V. 90. P. 729–734.
- Смирнов В.С. Определение возраста и возрастная структура популяции песца на Ямале // Тр. Салехардского стационара УФАН СССР. Тюмень, 1959. Вып. 1. С. 220–238.
- Корытин Н.С., Ендукин А.Ю. Сравнение двух методов определения возраста у красной лисицы // Информационные материалы ИЭРиЖ. Свердловск, 1982. С. 17.
- Клевезаль Г.А., Клейненберг С.Е. Определение возраста млекопитающих по слоистым структурам зубов и кости. М.: Наука, 1967. 144 с.
- Клевезаль Г.А. Принципы и методы определения возраста млекопитающих. М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2007. 283 с.
- Churcher C.S. Cranial variation in the North American Red Fox // J. Mammal. 1960. V. 41. № 3. P. 349–360.
- Johnston D.H., Beauregard M. Rabies epidemiology in Ontario // Bull. Wildl. Dis. Assoc. 1969. V. 5. № 3. P. 357–370.
- Harris S. Age determination in the Red fox (Vulpes vulpes) – an evaluation of technique efficiency as applied to a sample of suburban foxes // J. Zool. London. 1978. V. 184. P. 91–117.
- Колесников Б. П. Лесорастительные условия и типы лесов Свердловской области: практическое руководство. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1973. 176 с.
- Капустин В.Г., Корнев И. Н. Свердловская область. Природа, население, хозяйство, экология. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. 300 с.
- Юрковская Т.К. Карта растительности // Национальный атлас почв Российской Федерации / Под ред. чл.- корр. РАН Шоба С. А. М.: Астрель, 2011. С. 46–47.
- Куликов П.В., Золотарева Н.В., Подгаевская Е.Н. Эндемичные растения Урала во флоре Свердловской области / Под ред. Мухина В.А. Екатеринбург: Гощицкий, 2013. 612 с.
- Корытин Н.С. Достоверность оценок численности крупных млекопитающих, получаемых разными способами // Динамика популяций охотничьих животных Северной Европы: Мат-лы III Междунар. симп. / Науч. ред. Данилов П.И. и др. Петрозаводск: Ин-т биологии КарНЦ РАН, 2003. С. 117–118.
- Гидаятов Ю.Х., Насибов С.Б., Алиев Р.А. Краниометрические особенности лисиц в различных природных областях Азербайджана // Тезисы докл. IV съезда Всесоюзного териологического общ-ва. М., 1986. С. 120–121.
- Данилов П.И., Русаков О.С., Туманов И.Л. Хищные звери Северо-Запада СССР. Л.: Наука, 1979. 161 с.
- Лебедева Н.И. Морфологические особенности обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L., 1758) нижнего Приднепровья // Вісник Запорізького державного університету. 2000. № 2. С. 210–214.
- Полещук Е.М., Сидоров Г. Н. Морфофизиологическая и краниологическая характеристика лисицы и корсака Западной Сибири. СПб.: ЛиСС, 2004. 100 с.
- Сидорович А.А., Орлов И. А. Влияние кормовых условий на рост и развитие молодых особей лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes L.) в центральной Беларуси // Вестник фонда фундаментальных исследований. 2012. Т. 62. № 4. С. 60–70.
- Слудский А.А. Варшавский С.Н., Исмагилов М.И. и др. Млекопитающие Казахстана. В 4-х т. Хищные (собачьи, медвежьи, енотовые), ластоногие (настоящие тюлени). Алма-Ата: Наука КазССР, 1981. 244 с.
- Чернявский Ф.Б. Млекопитающие Крайнего Северо-Востока Сибири. М.: Наука, 1984. 388 с.
- Шевченко Л. С. Краниометрические показатели обыкновенной лисицы европейской части СССР // Вестник зоологии. 1987. № 3. С. 63–71.
- Кораблев Н.П., Кораблев М.П., Кораблев А.П. и др. Факторы полиморфизма краниометрических признаков лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes, Carnivora, Canidae) в центре европейской части России // Зоол. журн. 2018. Т. 97. Вып. 9. С. 1175–1188. doi: 10.1134/S0044513418090064
- Amaike Y., Oishi T., Uraguchi K. et al. Geographical variation in skull morphology in the Hokkaido population of the Red Fox, Vulpes vulpes // Mammal Study. 2015. V. 40. № 4. Р. 245–256. doi: 10.3106/041.040.0405
- Ansorge H. Intrapopular skull variability in the red fox, Vulpes vulpes (Mammalia: Carnivora: Canidae) // Zool. Abhandlungen. 1994. V. 48. № 6. P. 103–123.
- Fairley J.S., Bruton T. Some observations on a collection of fox skulls from North-East Ireland // Irish Nat. J. 1984. V. 21. № 8. P. 349–351.
- Hartová-Nentvichová M., Anděra M., Hart V. Cranial ontogenetic variability, sex ratio and age structure of the Red fox // Cent. Eur. J. Biol. 2010. V. 5. № 6. P. 894–907.
- Hell P., Paule L., Shevchenko L.S. et al. Craniometrical investigation of the Red fox (Vulpes vulpes) from the Slovak Carpathians and adjacent lowlands // Folia Zool. 1989. V. 38. № 2. P. 139–155.
- Huson L.W., Page R.J.C. A comparison of fox skulls from Wales and South-East England // J. Zool. London. 1979. V. 187. № 4. P. 465–470.
- Virgo´s E., Kowalczyk R., Trua A. et al. Body size clines in the European badger and the abundant centre hypothesis // Journal of Biogeography. 2011. V. 38. P. 1546–1556.
- Scholander P.F. Evolution of climatic adaptation in homeotherms // Evolution. 1955. V. 9. P. 15–26. https://doi.org/10.1111/j.1558–5646.1955. tb01510.x
Дополнительные файлы