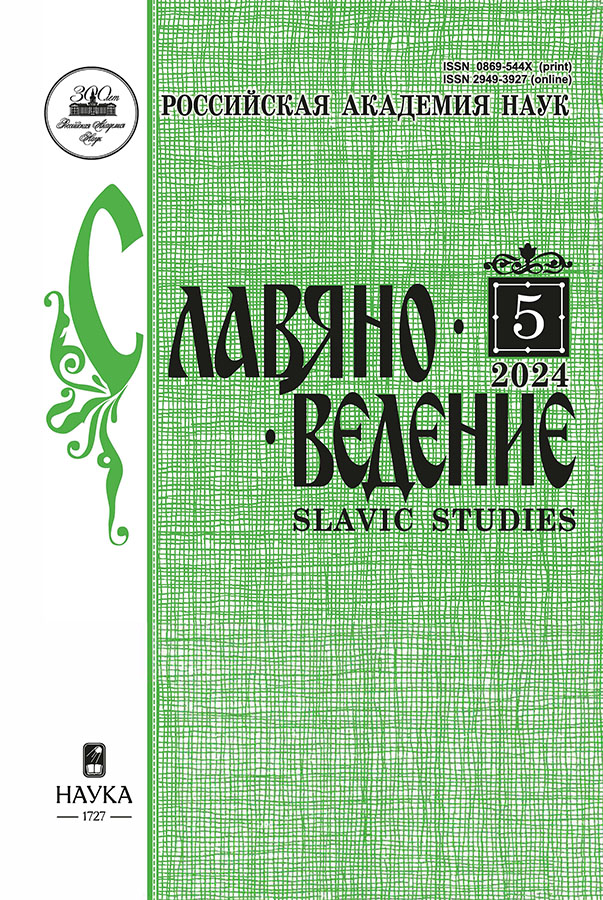Proto-Slavic *rъtъ: Reconstruction of the Semantics and Etymology
- 作者: Saenko M.N.1
-
隶属关系:
- Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
- 期: 编号 5 (2024)
- 页面: 92-110
- 栏目: To the Jubilee of Zhanna Zhanovna Varbot
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/266918
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24050087
- EDN: https://elibrary.ru/YSTHQH
- ID: 266918
全文:
详细
A number of conflicting hypotheses about the semantics and etymology of the Proto-Slavic word *rъtъ have been put forward. This article provides a detailed analysis of these hypotheses. The available material from Slavic written monuments and dialects suggests that the earliest meaning of *rъtъ was likely ‘animal snout’. Among the etymological hypotheses, the following deserve the most attention: a) *rъtъ derives from Proto-Indo-European *rutós, a participle of the verb *ruH- ( > Proto-Slavic *ryti); b) *rъtъ is a proper Proto-Slavic derivative of *ryti ‘to dig’, modelled after the pattern *plyti ‘to float’ : *plъtъ ‘raft’; c) *rъtъ is related to the verb *rypati. According to the arguments presented in the article, the second of these hypotheses appears to be the most probable.
全文:
Постановка задачи
В литературе можно найти следующие реконструкции семантики и этимологического значения праславянского *rъtъ1:
– ‘орудие, которым роют или рвут’ [Преображенский 2, 217];
– ‘выступ’ (‘projection’) [Lane 1933, 64];
– ‘лыжа’ [Sławski 2011, 501];
– ‘острый конец, острие; мыс; клюв; возвышение местности’ (‘szpic, ostrze; cypel, przylądek; dziób; wzniesienie terenu’) [Sławski 2011, 502];
– ‘выступающая часть предмета’ [Куркина 2021, 606];
– ‘выступ, острое возвышение’ > ‘клюв, губа, рот’ / ‘возвышенная часть местности (мыс, вершина горы)’ (‘Hervorragendes, spitz Emporstehendes’ > > ‘Schnabel, Lippe, Mund’ / ‘emporstehender Teil im Gelände (Landzuge, Bergspitze)’) [Schuster-Šewc 3, 208];
– ‘рот (первоначально, очевидно, ‘рот’ у животных)’ (‘рот (первісно, очевидно, ‘рот’ у тварин)’) [Німчук 1992, 310];
– ‘то, что возвышено, возвышенное место’ (‘kar je dvignjeno, dvignjeno mesto’) [Snoj 2016, 655];
– ‘то, что возвышено’ > ‘вершина, верхушка, нос (корабля)’ > ‘клюв’ > ‘рот, губа’ (‘co je zvednuto, vyvýšeno’ > ‘vrchol, špička, příď’ > ‘zobák’ > ‘ústa, ret’) [Rejzek 2001, 538];
– ‘нечто, выдвинутое вперед или вверх; острый кончик, верхушка чего-нибудь’ (‘coś wysuniętego ku przodowi lub ku górze, ostre zakończenie, ostry szpic, czubek czegoś’) [Boryś 2005, 352], (‘нешта высунатае наперад ці ўверх; вострае заканчэнне, вяршыня чаго-нібудзь’) [ЭСБМ. Т. 11, 191–192];
– ‘острие, клюв’ (‘ostrze, dziób’) [Waniakowa 2008, 126];
– ‘рот; клюв’ (‘рот; дзьоб’) [ЕСУМ. Т. 5, 127];
– ‘выпуклость, острие’ (‘izbočina, oštrica’) [ERHJ 2, 308].
Далее попробуем определить, какие из этих гипотез находят наибольшую поддержку в материале.
Материал
2.1. Старославянский и церковнославянский
2.1.1. В «узком» каноне старославянских памятников присутствует лишь одна форма, которую часть исследователей идентифицирует как непосредственный континуант *rъtъ. Речь идет о реть из Супрасльской рукописи (400, 16) в гомилии Иоанна Златоуста на Мф 12:14.
Весь контекст звучит так: твоÿ ѫ҅жа сѫтъ грýховь҆нии съѫ҅ꙁи· твоѧ пленицꙙ сѫтъ ꙁависти· и҅ корабь҅чиѧ бѣси· весла ль҅сти· реть҅· лицемѣрь҆ство· прѣклады зависть҅ливии· ѡ̑ корабь҅ ть҅мами зъла пль҅нъ. Греческий оригинал выглядит следующим образом: σὰ σχοινίσματά εἰσι αἱ τῶν ἁμαρτημάτων σειραί, σοὶ ἐπιβάται εἰσὶν οἱ φθονεροί, ναῦται οἱ δαίμονες, κῶπαι οἱ δόλοι, αὐχὴν ἡ ὑπόκρισις, παρασγαρῖται οἱ φθονεροί. Ὢ πλοῖον μυρίων κακῶν! [Codex Suprasliensis].
По мнению ряда исследователей, перевод αὐχὴν ἡ ὑπόκρισις как реть лицемѣрьство ошибочен, поскольку переводчик не понял, что αὐχήν в данном контексте обозначает рукоятку кормила (см. набор значений греческого слова в [Liddel, Scott 1996, 285]) и вставил в текст свою версию.
Ф. Миклошич посчитал, что реть в данном случае стоит вместо рътъ, включил данный контекст в соответствующую словарную статью под значение ‘prora’ (‘нос корабля’) и глоссировал греческим αὐχήν и ‘sedes prorae edita’ из латинского перевода этого места Иоанна Златоуста [Miklosich 1977, 809]. Судя по логике этого решения, переводчик опирался на то, что первое значение αὐχήν – ‘шея’, и подумал, что речь идет о носе корабля. Для перевода он выбрал слово рътъ, которое в некоторых более поздних памятниках действительно обозначает нос судна. Переписчик Супрасльской рукописи якобы неверно понял текст и исправил *весла льсти· рътъ· лицемѣрьство «весла – хитрости, нос корабля – лицемерие» на весла льсти· реть· лицемѣрьство «весла – хитрости, распря, лицемерие».
Такая версия была принята в словаре Садник и Айцетмюллера, где на основе приведенного выше контекста дается вокабула рьть (f.) ‘der erhöhte vordere bzw. rückwärtige Teil des Schiffes (αὐχήν)’ [Sadnik, Aitzetmüller 1955, 115]. Совершенно то же самое мы находим в современном «Древнеболгарском словаре» – рьть ‘издигната предна [задна] част на кораб [образно]’ [СР. Т. 2, 630]. Близкая, хотя не идентичная словарная статья обнаруживается в пражском «Словаре старославянского языка»: рътъ ‘нос (корабля)’ [SJS. D. 3, 655].
Иначе трактовал эту ситуацию А. Лескин. Он полагал, что слово реть изначально возникло в переводе потому, что переводчик спутал αὐχήν с αὔχη ‘хвастовство, гордыня’ [Leskien 1910, 12]. Отметим, что само это существительное в греческих текстах довольно редко, но переводчик мог знать глагол, от которого оно произведено – αὐχέω ‘хвастаюсь’. Если учесть, что чуть ранее он ошибочно перевел ἐπιβάται ‘пассажиры’ как пленицꙙ ‘цепи’, такая путаница вполне вероятна. Однако старославянское реть значило не ‘хвастовство, гордыня’, но ‘рвение, усердие; соревнование; распря’ [SJS. D.3, 632]2.
Р.М. Цейтлин также полагала, что реть из Супрасльской рукописи не следует отделять от других двух случаев, когда в старославянских памятниках встречается форма реть в значении ‘раздор, распря, спор; состязание, соревнование’ (Зографские листки, 2а, 22; Супр. 321, 1) [Цейтлин 1979; СтСл 1994, 580].
Наконец Т.А. Иванова указала на то, что это же место из гомилии Иоанна Златоуста в Успенском сборнике XII–XIII в. звучит как рать лицемѣрьство (л. 199в, 25) [УС 1971, 333] и предположила, что Успенский сборник лучше отражает протограф. Слово рать, по мнению исследовательницы, обозначало румпель кормила, шире вообще ‘шест, рукоятка’, и сравнивать его следует с русскими историческими и диалектными обозначениями древка или рукоятки – ратовище, ратище, ратаище, ратовье [Иванова 1992, 76–77]. Слабым местом этой версии является то, что, кажется, ни в одном славянском языке не встречается бессуфиксальных обозначений рукоятки, соответствующих рать из Успенского сборника (см. [Фасмер 3, 448; ЕСУМ. Т. 5, 30–31]).
Хотя гипотеза Ивановой небезукоризненна, необходимо признать, что форма рать из Успенского сборника существенно ослабляет позиции версии Миклошича, которая предлагает видеть в протографе рътъ. Если принять эту версию, нужно постулировать два независимых исправления, выполненных переписчиками: рътъ на реть в Супрасльской рукописи и рътъ на рать в Успенском сборнике.
Таким образом, наличие в старославянском рътъ ‘нос корабля’ весьма сомнительно. Однако слово рътъ как соматизм в старославянском было.
Об этом свидетельствует словосочетание ротъ гръбавъ3 ‘загнутый клюв’, использованное при описании хищных птиц в Шестодневе Иоанна Экзарха (186b; ГИМ, Син. 213, сербский список, 1263 г.) в соответствии с греческим χεῖλος ἀγκύλον в оригинале [Aitzetmüller 5, 131]. То же самое – ротъ горⸯбавъ мы находим и в восточнославянском списке этого памятника [Баранкова, Мильков 2001, 533], в то время как в болгарском списке ГИМ Син 35 это место подверглось порче – и рѡ́дь гръбавь (л. 129б).
2.1.2. В одном из восточнославянских списков «Хроники Георгия Амартола» XVI в. греческое ἀκρόπολις скалькировано как рътъ града: πλησίον οὔσης τῆς ἀκροπόλεως – сущи искрь на ртѣ града [Miklosich 1977, 808; Срезневский 3, 207].
В некоем сербском сборнике XVI века Ф. Миклошич встретил также значение ‘rostrum’, то есть ‘клюв’ [Miklosich 1977, 808]. В двух южнославянских рукописях (болгарский Номоканон XIII в., Пентатевх, сербская редакция, XVI в.) Миклошич также отметил значение ‘os’ (‘рот’) [Ibid., 808–809], однако без более подробных сведений эту информацию проверить затруднительно. Впрочем, как минимум в значении ‘рот свиньи’ это подтверждается следующим контекстом: акы златъ оусѣрѧзь свинии въ ртѣ (Слово св. Козмы Пресвитера на еретики, л. 509а; рукопись 1494 г., русский список) [Попруженко 1936, 25].
В некоторых сербско-церковнославянских списках Пролога рътъ употреблено в значении ‘нос корабля’ [Miklosich 1977, 809; Срезневский 3, 207], однако без более подробной информации сложно верифицировать эти сведения.
В «Беседах на книгу Бытия» Иоанна Златоуста (XV в., ГИМ Син. 36–37) при цитировании Быт 14:23 в качестве соответствия греч. ἕως σφαιρωτῆρος ὑποδήματος фигурирует до единого ръта сапожнаго4, на основе чего И.И. Срезневский приписал слову рътъ значение ‘ремень (?)’ [Срезневский 3, 207], однако на основании только греческого соответствия нельзя быть уверенным, что переводчик в данном случае вкладывал в рътъ именно такое значение, а не понял контекст по-своему, например, как ‘голенище сапога’.
2.2. Болгарский и македонский
Литературное болгарское рът значит ‘продолговатый холм’ (‘продълговат хълм; рид, бърдо, рътлина’) [РБЕ]. Однако в юго-западных диалектах представлен и соматизм – рот ‘морда свиньи’ [БЕР. Т. 6, 329].
Македонское литературное 'рт означает ‘мыс’ (Тесен, истурен дел од копно што се дига во висина и се пружа во море и сл.) [ОДРМЈ], в говорах мы находим также рот ‘мыс’ (Пештани) [Stieber 1958, 285], рот ‘лицо’ (Корчанско, Костурско, Кичевско) [Дрвошанов 2005, 22; Шклифов 1977, 304].
2.3. Сербохорватский и словенский
Хорватский RHiSJ определяет слова rȃt и ȓt как ‘острие, кончик; мыс’ [RHiSJ. Knj.13, 397–398; Knj.14, 203–204]. Те же или близкие значения находим в говорах: р̏т / р̑т ‘продолговатый холм’ [Стијовић 2014, 594]; р̍т ‘продолговатый холм с крутыми склонами’ [Богдановић 2008, 477]; р́т ‘холм, невысокий склон’ [Златковић 2017, 880]; р̏т (gen.sg. р̑та) ‘мыс, холм’ [Томић 1989, 131]; р́т (в составе топонимов также ра́т) ‘мыс’ [Динић 2008, 721, 723]; ȓt (gen.sg. ȓta) ‘острие иглы’ [Kalsbeek 1998, 541]; rt ‘верхушка кучи зерна’ [Gusić 2004, 403].
Близкий набор значений находим в материалах ОЛА: ‘верх’ – r̥t / vr̥t5 (пункт 22, Жминь, Хорватия), rɔ̀ːt (44, Врбань, Хорватия), r̥̀ːt (68, Паковраче, Сербия), ‘лезвие, клинок (ножа)’ – r̥̀t (33, Бринье, Хорватия), ‘мыс’ – ràːt (43, Трогир, Хорватия), rḁ̀ːt (56, Ластово, Хорватия, 65, Цавтат, Хорватия) [ОЛА ФГ. Вып. 4б, 132].
Наконец в окрестностях Лики засвидетельствован дериват ȑtve ‘лыжи’ [RHiSJ. Knj. 14, 206].
Словарем современного словенского языка слово ȓt (gen.sg. ŕta) глоссируется как ‘мыс’, устар. ‘острие (копья)’ [SSKJ]. По мнению М. Сноя, значение ‘мыс’ скалькировано из сербохорватского [Snoj 2016, 655].
Словенско-немецкий словарь М. Плетершника конца XIX в. дает несколько более широкий набор значений: ‘острие (ножа, меча); вершина (скалы, горы); мыс; нос или корма корабля (в словаре Мегизера)’ [Pleteršnik 2, 441].
В костельском говоре ˈr̥t зафиксировано в значении ‘холмик’ [Gregorič 2014, 389], однако это значение, по всей вероятности, возникло под хорватским влиянием.
В словенских говорах слово rte, или, чаще, в диминутивной форме rtiče известно в значении ‘сани’ – úːəʀte (SLA 020), əṙtíčǝ (016), ərtȋč (195), ərtíče (198), ərtȋče (206) [Jakop 2020, 111, 116–117].
2.4. Чешский и словацкий
В древнечешских текстах слово ret фиксируется начиная с XIV века в значении ‘губа’, причем известны формы и двойственного числа: Aj toť sem sě dotekl tiemto rtú tvú «Вот я коснулся этим губ твоих» (Proroci rožmberští, рубеж XIV и XV вв., Národní knihovna České republiky, рукопись XVII D 33; Ис. 6:7) [StčTB].
В современном литературном чешском ret используется в том же значении, хотя в диалектах в значении ‘губа’ в настоящее время преобладает слово pysk [ОЛА ЛС. Вып.9, карта 17].
В словацких памятниках засвидетельствовано слово ret ‘губа’ [HSSJ 5, 54], которое, судя по фонетике, является богемизмом. Словарь словацкого литературного языка дает ret ‘губа’ с пометкой «поэтическое» [SSJ 3, 731].
Собственно словацкий семантический дрейф отражает диалектное rata (f.sg.), raty (f.pl.) и reta ‘изогнутый конец полозьев саней’ [SSN 3, 541].
2.5. Лужицкие языки
Верхнелужицкое ert означает ‘рот’, в нижнелужицком слово не сохранилось [Schuster-Šewc 3, 208].
2.6. Полабский и кашубский
В польских говорах форма arty записана в значении ‘лыжи’ (при narty в литературном языке) [SGP 2, 168].
Полабское råt глоссируется как ‘рот, морда (животного, о человеке пейоративно), нос (пейоративно)’ [SEJDP. Z.4, 631].
Кашубское retk значит ‘мыс на озере’, локально и вторично также ‘перешеек между двумя озерами’, ‘песчаная отмель’, ‘провал в дне водоема’, retka ‘углубление, вымытое волнами’ [Stieber 1958, 284; SEK. T. 4, 179].
2.7. Восточнославянские языки
В древнерусском уже в довольно ранних рукописях рътъ имеет современное значение – ‘рот (человека и животного)’ [СДЯ. Т.10, 503–504]. В более поздних памятниках известен более широкий набор значений, включающий в себя ‘клюв’ (XV в.), ‘пасть крокодила’ (XVII в.), ‘мыс, коса’ (XVI в.) [СлРЯ XI–XVII. Т. 22, 220].
Во множественном числе слово рты значило ‘лыжи’ [СлРЯ XI–XVII. Т.22, 224].
Слово рот является основным обозначением рта во всех трех современных литературных восточнославянских языках, а также преобладает в диалектах этих языков. Это яркая инновация, почти полностью совпадающая с восточно-западнославянской границей [ОЛА ЛС. Вып. 9, карта 16].
Отдельный интерес представляет рус. диал. рты ‘губы’ (тульск.) [СРНГ. Т. 35, 204].
В белорусских говорах можно найти форму і́рты ‘лыжи’ [Касьпяровіч 2011, 146; Бялькевіч 1970, 215] с характерным для белорусского протетическим і- перед консонантным кластером. Сюда же примыкает рус. орлов. и́рты ‘лыжи’ [СРНГ. Т. 12, 210].
2.8. Румынский
Интересующее нас слово было заимствовано из какого-то славянского языка (вероятнее всего, болгарского) в румынский в виде rât ‘морда свиньи’.
Производные
3.1. *obrъtь
В Хиландарских листках (1bα 5) обнаруживается глагол обрътити сѧ (φιμόω) ‘замолчать’, в Супрасльской рукописи он же ошибочно переправлен – вместо обръти сꙙ мы находим обрати сꙙ (384, 3) [СтСл 1994, 398] в пассаже и҅ речеши о҄умль҅кни о҅брати сꙙ в соответствии с греческим καὶ ἐρεῖς, Σιώπα, πεφίμωσο [Codex Suprasliensis]. Косвенно это может указывать на то, что в языке писца Супрасльской рукописи слово рътъ и производные от него уже были утрачены.
Глагол обрътити сѧ, а также невозвратная форма обрътити ‘обвязать морду животного’, которая встречается в памятниках широкого канона6 [SJS 2, 490] сопоставляют с русским диалектным оброти́ть ‘надеть на лошадь узду, обротать’ и производят от *obrъtь ‘узда’, которое в свою очередь является дериватом от *rъtъ [ЭССЯ. Т. 29, 129, 131–132]. Континуанты *obrъtь сохранились преимущественно в восточнославянских языках, а отнесение к потомкам этого слова чешского oprať и старословацкого oprat ‘поводок’, а также польского диалектного obryć ‘узда, уздечка’, как справедливо отмечает Ж.Ж. Варбот, весьма сомнительно [ЭССЯ. Т. 29, 131–132]. Однако старославянский глагол обрътити сѧ, а также польское диалектное obretka ‘узда, уздечка’ [Там же, 130] свидетельствуют о том, что *obrъtь ‘узда’ является словом праславянской древности.
3.2. Артачиться
Русскому литературному языку известен глагол арта́читься ‘не повиноваться наезднику; упрямиться’, в говорах также рта́читься. А.Е. Аникин восстанавливает в данном случае следующую цепочку: (о)рта́чить(ся) < *ръта́чити ся < < *рътачь ‘непослушный конь’ < *рътати или *рътити, которое соотносится со схр. ȁrtati (se) ‘лягаться, бросаться’ [Аникин 1, 295].
3.3. *narъtъ
На праславянскую древность может претендовать производное *narъtъ, среди потомков которого слвн. nȃrt ‘подъем ноги’, схр. nàratak ‘часть обуви, покрывающая переднюю часть, верх ступни; вязаная часть обуви, надеваемая поверх чулка; вид носков’ [РСКНЈ. Књ. 14, 335], диал. nàradak ‘нижняя часть чулка, покрывающая стопу’ [Там же, 327], диал. nàratka ‘вид носков’ [Там же, 336], чеш. nárt ‘подъем ноги’, слвц. диал. nárt ‘подъем ноги; верхняя часть обуви; нижняя часть поля’ [SSN], в.-луж. narć ‘подъем ноги; верхняя часть обуви, голенище’, н.-луж. narś ‘верхняя часть обуви’ [Schuster-Šewc 13, 990], др.-пол. narty (pl.t.) ‘союзки (нашивки на носок и подъем сапога) или ремни, которыми привязывают обувь к ногам; долина, поросшая лесом’ [SStp. T. 5, 92], польск. narta ‘лыжа’, бел. нарты ‘нарты’, диал. на́рты ‘лыжи’ [СПЗБ 3, 176; Сцяшковіч 1972, 307], укр. нарти ‘нарты’, рус. нарты.
Развитие значения Х. Шустер-Шевц восстанавливал следующим образом: ‘Hervorstehendes, Erhebung, spitz’ > ‘Bergspitze; Oberfuß’ > ‘das auf dem Oberfuß befindliche Schuhleder, Verderschuh’ > ‘Schnürsohle, Sandalen’ > ‘Skier’ [Schuster-Šewc 13, 990]. Почти в том же виде это представлено в ЭССЯ: ‘острие, верх’ > ‘верх горы’ > ‘верх ноги’ > ‘зашнурованная нога, сандалия’ > ‘лыжи’ [ЭССЯ. Т. 23, 21–22].
Реконструкция семантики
Попробуем проанализировать распределение соматические значений континуантов *rъtъ в славянских языках.
Таблица 1. Соматические значения потомков *rъtъ
клюв | морда животного | лицо | губа | рот | |
ст.-сл. | + | + | |||
ц.-сл. | + | + | |||
болг. | + | ||||
мак. | + | ||||
др.-чеш. | + | ||||
чеш. | + | ||||
в.-луж. | + | ||||
полаб. | + | + | |||
др.-р. | + | + | |||
бел. | + | ||||
укр. | + | ||||
рус. | + | + |
Часть из этих значений узколокальна, потенциально на праславянскую древность могут претендовать только ‘морда животного’, ‘клюв’ и ‘рот’. Более широкую первоначальную распространенность значения ‘морда животного’ подтверждает наличие дериватов, в первую очередь *obrъtь.
Учитывая, что основным праславянским обозначением рта человека было слово *usta, вряд ли *rъtъ использовалось в этом значении как нейтральное обозначение, но вполне могло применяться пейоративно.
Таблица 2. Несоматические значения потомков *rъtъ
нос или корма корабля | сани | конец полозьев | лыжи | мыс | верх холма, холм | |
ц.-сл. | + | |||||
болг. | + | |||||
мак. | + | |||||
схр. | + | + | ||||
слвн. | + | + | + | + | ||
слвц. | + | |||||
пол. | + | |||||
каш. | + | |||||
др.-р. | + | |||||
бел. | + | |||||
рус. | + |
Значение ‘холм’, вероятно, является, вторичным, поскольку в болгарском и сербском континуанты *rъtъ обозначают холм, как правило, продолговатый, что заставляет видеть здесь перенос ‘мыс’ > ‘холм’. По всей вероятности, эта инновация ограничена Южной Славией и нехарактерна для западно- и восточнославянских языков. Параллелью для такого дрейфа является непосредственно русское слово мыс, которое в говорах принимает также значения ‘возвышенность с очень крутыми склонами’, ‘горный отрог, пологий и невысокий’, ‘небольшая горка’, ‘вершина горы’, ‘возвышенное место, не покрытое лесом’ [СРНГ. Т. 19, 60]7. Единственным указанием на потенциально более широкое распространение значения ‘холм’ является топонимия: чешское Rtyně, словинское Rtʉ̀ɵ̯ [Lorentz 2, 1517] / немецкое Rotten8 в Померании, русское Свинорт [Куркина 2021, 606]. В Польше имеется деревня Retki (Ловичский повят, Лодзинское воеводство) и Retkinia (в настоящее время часть Лодзи) [Stieber 1958, 285]. Однако неясно, насколько здесь следует доверять свидетельствам топонимии: деревня Роттен (Ретово) расположена на берегу озера Гардно, нет уверенности, что название связано именно с холмом, а не с мысом. Для чешского Rtyně (три населенных пункта в северной Чехии) и польских Retki, Retkinia связь с холмом также неочевидна. В случае Свинорт первичной может быть форма Свинорд, возможно, скандинавского происхождения [Васильев 2012, 30].
Значение ‘мыс’ распространено несколько шире, но и оно представлено всего в двух ареалах: словенско-сербохорватском и кашубском. В этом случае можно предположить перенос с одного из представленных выше соматических значений. Аналогичные семантические дрейфы можно найти в нескольких случаях: англ. headland ‘мыс’, ит. capo ‘голова’ > ‘мыс’, тур. burun ‘нос, клюв’ > ‘мыс’9.
Словенское ‘сани’, вероятно, является результатом расширения значения ‘изогнутый конец полозьев саней’, зафиксированного в словацком, ср. близкие примеры в русских говорах: терск. полозья́ ‘санки с высокими ручками для катания с горы’ [СРНГ. Т. 29, 104], смол. полозки́ ‘легкие санки’ [Там же, 105]. Здесь можно постулировать перенос с соматического значения, например, ‘морда’ > ‘передний (изогнутый) конец полозьев саней’, ср. параллельный пример русского диалектного голова ‘передняя часть саней, передок’, ‘передняя изогнутая часть полоза саней’ [Там же. Т. 6, 300]10.
Значение ‘нос или корма корабля’ также крайне ограничено ареально и, видимо, возникло в результате переноса соматизма, что является распространенным сценарием, ср. рус. нос (у человека и у корабля), пол. dziób ‘клюв’ > ‘нос корабля’, слвц. čelo ‘лоб’ > ‘нос корабля’, лат. rōstrum ‘клюв, морда, рыло’ > > ‘нос корабля’, тур. burun ‘нос’ > ‘нос корабля’, тур. kıç ‘задница’ > ‘корма’11.
Сложнее ситуация с «лыжными» значениями. Нам кажется, что в данном случае правильнее всего будет отталкиваться от *narъtъ, которое, похоже, первоначально обозначало подъем ноги и/или часть обуви или одежды, покрывающую подъем ноги, что хорошо сохраняется в большинстве славянских языков. Если предположить, что слово *rъtъ могло обозначать носок обуви с семантическим дрейфом из исходного значения ‘морда животного’12, то *narъtъ вполне логично объясняется как часть обуви над носком. На основании этого значения вполне мог состояться метонимический перенос на ремни, которыми привязывались к обуви лыжи, или крепления для этих ремней. Затем в рамках этой гипотезы в польском и восточнославянских языках произошел перенос на сами лыжи, в результате чего континуанты *narъtъ вступили в конкурентные отношения с потомками слова *lyža. В русском языке нарты не выдержали конкуренцию, и значение этого слова специализировалось: оно начало обозначать особые сани для езды на собаках или оленях. В польском произошла обратная ситуация: именно слово narty стало основным обозначением лыж, в то время как слово łyżwy сменило значение на ‘коньки’.
Этой схеме, казалось бы, противоречит то, что и непосредственно континуанты *rъtъ могут обозначать лыжи в том же ареале: польский и восточнославянские языки. Однако, как кажется, такие формы представлены скорее маргинально по сравнению с широко распространенными нарты/narty. Для возникновения у потомков *rъtъ значения ‘лыжа’ можно предложить следующий сценарий: иногда значение деривата переносится на производящее слово в дополнение к его исконному значению или же вместо него. В качестве примера можно привести рус. диал. перст / перс ‘наперсток’ [СРНГ. Т. 26, 290] или русское разговорное уши ‘наушники’.
Таким образом, древнейшим значением *rъtъ, вероятно, было ‘морда животного’, а производные *obrъtь и *rъtati (sę) указывают на то, что не в последнюю очередь *rъtъ применялось к морде лошади.
Попробуем представить все вышеописанные гипотезы в виде схемы:
Этимология
5.1. Обзор имеющихся версий
А. Матценауэр считал, что рътъ восходит к праформе *artŭ, и далее связывал с древнеперсидским arta-, которому чешский ученый приписывал значение ‘высокий’ [Matzenauer 1890, 199–200]. Такая реконструкция, конечно, противоречит современным представлениям об исторической фонетике.
А. Брюкнер пытался связать с польским rota ‘присяга на суде’ [Brückner 1985, 463–464], что тоже невозможно с фонетической точки зрения.
Й. Миккола выводил *rъtъ из *rŭpt-, сопоставляя со схр. rȕpa, слвн. rúpa ‘яма, провал’, чеш. rýpat ‘рыть’ и лат. rumpō ‘рву’ [Mikkola 3, 25].
В. Махек предложил сопоставление славянского слова с немецким Rüssel ‘рыло (свиньи)’ [Machek 1968, 513], это, однако противоречит тому, что немецкое слово выводят из корня *wrōt-a- ‘рыть’ [Kluge 1989, 610].
Согласно старой и широко принятой версии, *rъtъ следует сравнивать с глаголом *ryti ‘рыть’ [Miklosich 1886, 285] и *rъwati ‘рвать’ с этимологическим значением ‘орудие, которым роют или рвут’ [Преображенский 2, 217]. Однако можно возразить, что *ryti восходит к корню с ларингалом – *ruH-, таким образом, при деривации от этого корня ожидалась бы форма **rytъ, а не *rъtъ [ERHJ 2, 308].
Я. Эндзелином было осторожно предложено сопоставление с лтш. rutulis ‘круглый чурбак’ [Mühlenbachs 3, 565]. Однако латышское слово родственно лит. rutulỹs ‘шар, ядро’, которое, в свою очередь, сложно отделять от ritulỹs ‘сверток, клубок, шар’, производного от глагола rìsti ‘вращать’. В. Смочинский предложил видеть здесь нулевую ступень *r̥t- > *rut- [Smoczyński 2007, 517], однако *r̥ в балтийских языках давал все же *ir / *ur. Возможно, логичнее считать это случаем межслоговой ассимиляции гласных ritulỹs > rutulỹs, тем более что такие примеры в балтийских языках есть: прабалт. *duu̯ai̯ > лтш. *duwi > >divi ‘два’; прабалт. *žuu̯is > лтш. *zuwis > zivs ‘рыба’; прабалт. *suu̯- > лтш. sivēns ‘поросенок’; прабалт. *u̯ekeras > лит. vãkaras ‘вечер’, лтш. vakars ‘id’; прабалт. *u̯eserā > лит. vãsara ‘лето’, лтш. vasara ‘id’; лит. mẽdšarkė и с ассимиляцией mẽdšerkė ‘сорокопут’. Таким образом, если rutulỹs действительно связано с ritulỹs, оно вряд ли может быть родственно праславянскому *rъtъ.
Дж. Лейн предложил деривацию от индоевропейского глагольного корня *er- (в современной реконструкции корня *h₃er- ‘двигаться’) [Lane 1933, 64]. Эта версия была поддержана М. Сноем, который восстанавливает этимологическое значение ‘то, что поднято, возвышенное место’ [Snoj 2016, 655]. К недостаткам этой версии можно отнести то, что данный корень не сохранился в праславянском (а *rъtъ, по всей видимости, следует признать собственно славянским дериватом), его значение не очень хорошо соответствует восстанавливаемой для *rъtъ исходной семантике, а также то, что формант -ъtъ крайне редок в праславянском; кажется, единственным надежным примером является *osъtъ ‘осот’13.
5.2. *rъtъ как «рыло»
Кажется, самыми привлекательными с точки зрения семантики являются версии, связывающие *rъtъ с *ryti ‘рыть’ и *rypati, поскольку есть славянские обозначения морд животных, которые восходят именно к этим глаголам: *ryti > > рус. ры́ло ‘морда животного, чаще всего свиньи’, укр. ри́ло ‘id’, бел. ры́ла ‘id’, болг. ри́ло, ри́лка ‘id’, мак. рило, рилка ‘id’, схр. rȉlo ‘id’, слвн. rȋlec ‘id’; пол. ryj ‘рыло’; пол. диал. ryl ‘морда свиньи’ [MSGP 2010, 246]; чеш. rýpat ‘рыть’ > rypák ‘рыло’; рус. диал. ры́пало ‘лицо, морда’ [СРНГ. Т. 35, 313]. Аналогичные сдвиги можно наблюдать в случае исп. hocicar ‘рыть’ > hocico ‘рыло’, а также, как уже упоминалось выше, нем. Rüssel ‘рыло (свиньи)’.
5.3. *rъtъ как производное от *ryti
Конечно, серьезным аргументом против деривации от *ryti служит краткость гласного в корне слова *rъtъ. Действительно, производные на -t- от корней, когда-то заканчивавшихся на ларингал, долготу обычно сохраняют: *byti > > *bytъ [ЭССЯ. Т. 3, 155–156], *myti > *mytъ [Там же. Т. 21, 83–84]14.
Еще А. Вайан пытался снять это возражение, указывая на санскритское причастие rutáḥ от глагола rávate (перфект – ruruvé) ‘он ломается’, а также латинское причастие dīrutus от глагола dīruō, dīruī ‘разрушать’ [Vaillant 4, 681].
Однако санскритскую краткость иногда считают вторичной [LIV 2001, 510], а П. Схрейвер предпочитает видеть в латыни два корня: *HruH- в rūta (et) caesa ‘вырытое и срубленное (минеральные и лесные богатства)’ и *Hru- непосредственно в глаголе ruō, ruī, rutum ‘рушиться, обрушиваться, валиться’ [Schrijver 1991, 24, 234, 236]. Идея разделения двух ruō со взаимовлиянием в вокализме их дериватов поддержана в [de Vaan 2008, 530–531]. Подробный обзор мнений на этот счет см. в [Seldeslachts 2001, 126–133].
Если согласиться с идеей разделения праиндоевропейских корней *HruH- и *Hru-, то праславянское *rъtъ фонетически может восходить только ко второму из них, однако этот корень в праславянском не сохранился, следовательно слово *rъtъ должно быть достаточно древним реликтом. Впрочем, это не означает, что от идеи о родстве *rъtъ и *HruH- > *ryti следует автоматически отказаться.
Разница в вокализме между *ryti и *rъtъ в некоторой степени напоминает ситуацию с другим глаголом – праслав. *plyti и его производных: *plъtъ ‘плот’, *plъtь ‘плоть’ и *plъty ‘плавник’ наряду с *pľuťa ‘легкие’ и *pluta ‘поплавок’ [Саенко 2022b]. Для того, чтобы объяснить эту разницу, а также схожие колебания в других индоевропейских языках, исследователям приходится прибегать к серьезным ухищрениям, ср., например, [Fecht 2007].
Можно предположить, что по модели *plyti: *plъtъ в праславянском было построено и соотношение *ryti : *rъtъ.
Альтернативный сценарий – переразложение производного от *ryti глагола *rъwati как *rъ-wa-ti и использование для деривации получившейся новой формы корня *rъ-. Тем не менее, данное предположение противоречит тому факту, что другие производные с корнем *rъ-, по-видимому, неизвестны.
Наконец можно упомянуть о неясных случаях вторичного сокращения или удлинения гласного *u, в частности, *kъznь [ЭССЯ. Т. 13, 249] при *kyznь [Там же, 285], *lyžьka [Там же. Т. 17, 62–63] при *lъžьka [Там же, 7–8], *lъtъka при *lytъka [Саенко 2022a, 151], однако, в отличие от достоверно праславянского *rъtъ, эти случаи распространены лишь локально и могут быть вторичными новообразованиями.
5.4. *rъtъ как производное от *rypati
Вышеупомянутая этимология Микколы незаслуженно обойдена вниманием в научной литературе, и, думается, ее следует обсудить особо.
Праславянский глагол *rypati восстанавливается на основе следующих форм: болг. ри́пам ‘прыгать, подпрыгивать’, схр. диал. rípati ‘id’ [Skok 3, 145–146], чеш. rýpat ‘ковырять, рыть; тыкать, толкать; задевать (словами)’ [SSJČ], слвц. rýpať ‘id’, в.-луж. rypać, н.-луж. rypaś ‘рыть (о свинье), ковырять’ [Schuster-Šewc 17, 1259], пол. разг. rypać ‘сильно бить, бросать; делать что-то с большим усилием; сказать открыто, напрямую; удивить чем-нибудь неприятным; совершать половой акт с женщиной’, rypać się ‘ошибаться; больно удариться; совершать половой акт’ [SJP], пол. диал. rypać ‘сбивать глину или штукатурку со стены’, rypnąć ‘упасть, опрокинуться’ [MSGP 2010, 246], рус. диал. ры́пать ‘вести себя нагло, заносчиво, куражиться; ломаться, проявлять несговорчивость’, ры́паться ‘ходить взад-вперед, открывая и закрывая при этом двери; слоняться без дела’, ры́пнуться ‘рвануться пойти куда-либо, сделать что-либо’ [СРНГ. Т. 35, 313–314], укр. ри́патися ‘часто отворять (дверь); часто ходить; шататься; пытаться предпринять что-нибудь; рыпаться’, бел. ры́пацца ‘рыпаться’. Несмотря на частичное сходство семантики с континуантами *ryti, кажется, что слово *rypati все же обозначало некоторое интенсивное действие.
Далее *rypati сравнивают с лит. raũpti ‘долбить’, rūpė́ti ‘заботиться’, лат. rumpō ‘рвать, ломать’, ruptus ‘разорванный, сломанный’, санскр. lumpáti ‘он разрушает’, rúpyati ‘он ломает’, др.-сканд. reyfa ‘рвать’, все из п.-и.-е. *reu̯p- ‘ломать, рвать’ [LIV 2010, 510–511]. Альтернативная гипотеза, согласно которой, *rypati образовано от *ry̋ti при помощи суффикса -p- [Фасмер 3, 530; Schrijver 1991, 236; БЕР. Т. 6, 263] менее вероятна, поскольку литовский циркумфлекс в raũpti говорит скорее против этого15. Еще менее состоятельны гипотезы об ономатопеическом происхождении *rypati [Schuster-Šewc 17, 1259; БЕР. Т. 6, 263].
Конечно, производной непосредственно от *rypati форма *rъtъ быть не могла, поскольку формант *-tъ обычно образовывал имена от глаголов с атематическим инфинитивом на *-ti, см. [SP. T. 2, 35–38]. Однако определенную параллель можно найти в случае *pěstъ – *pьxati, где *pьxati – вторичная форма, образованная от старого атематического глагола, ср. лит. pìsti ‘coire’. Еще одна потенциальная параллель – возможная деривация *sъtъ (а.п. b) ‘соты’ от *suti, *sypati ‘сыпать’ < п.-и.-е. *seu̯p- (ср. лит. sùpti ‘качать’)16 [ESJS. D. 15, 932].
Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о наличии корня *rъp- на ступени редукции в позднем праславянском. Известно несколько попыток такой реконструкции
Первая была сделана Ж.Ж. Варбот с опорой на болгарское диалектное (село Смолско) ръ́пам (нсв.) / ръ́пна (св.) [Варбот 2011, 342]. Однако этот глагол значит не просто ‘резать тупыми или выщербленными ножницами или серпом, резать плохо, неровно, с трудом из-за неумения или из-за плохих ножниц’, как его глоссирует Ж.Ж. Варбот, но, как эксплицитно указано в словаре говора села Смолско, на который опирается исследовательница, резать таким инструментом, который заедает и издает звук ‘хрп’ (‘1) режа с изхабени или ощърбени ножици, с подобен сърп, които издават звук ‘хрп’ и запъват. 2) не реже добре, а запъва и издава звук ‘хрп’ (за изхабени ножици или сърп). 3) стрижа неравно поради неумение или по вина на ножиците’ [Кънчев 1968, 140]. Если учесть также то, что в данном говоре звук х выпадал в положении перед гласным или сонорным согласным [Кънчев 1968, 16–17], звукоподражательное происхождение глагола ръ́пам / ръ́пна становится очевидным.
Не убеждает также реконструкция глагола *šarъpati ‘рвать, драть’17 с приставкой *ša- [Варбот 2011, 342; Куркина 2021, 476; Orel 2, 776]. Этот глагол засвидетельствован лишь в весьма ограниченном ареале: пол. szarpać, чеш. диал. šarpat, слвц. šarpať, а также укр. ша́рпати, бел. ша́рпаць, рус. диал. ша́рпать, причем в восточнославянских языках это может быть полонизмом. Куда более вероятно его звукосимволическое происхождение, ср. шаркать, шоркать, шорох и т.д. [ЕСУМ. Т. 6, 385–386]18.
Еще одна попытка реконструкции *rъp- принадлежит Л.В. Куркиной, которая опирается на слвн. repèč (= ripèč, rupèč) ʽо глазах взбешенного псаʼ, ст.-хорв. repečiti ʽгримасничать и сев.-чак. repečiti ʽнадуваться; хвастать; важничатьʼ [Куркина 2021, 214]. Однако разнообразие вокализма первого слога в словенском repèč / ripèč / rupèč, а также в однокоренных repečíca / ripečíca и repečína / ripečína / rupečína [Pleteršnik 2, 418] наводит на мысль, что первое -e- в repèč может и не быть континуантом праславянского *ъ, а объясняться как-либо иначе, межслоговой ассимиляцией гласных или диалектной редукцией. Форма repèč, судя по пометке «ogr.-C.», почерпнута Плетершником у Цафа и относится к какому-то прекмурскому говору. К сожалению, неясно, к какому именно, но редукция кратких i и u в предударном слоге некоторым прекмурским говорам известна, ср. se̥rȍu̯ta и držȉna в деревне Град (пункт SLA 398) [SLA. D. 1, karti 122, 100] при слвн. лит. sirọ̑ta ‘сирота’ и družína ‘семья’. Что касается хорватского repečiti, его сравнивают скорее со словенским repẹ́nčiti se ‘вести себя высокомерно; злиться’ [Bezlaj 3, 171–172].
Наконец третья гипотеза предлагает видеть *rъp- в украинском глаголе по́рпатися ‘рыться, копаться; ковыряться; возиться’ [ЭСБМ. Т. 11, 240]. Однако для этого нужно отказаться от куда более надежной этимологии, выводящей данное слово из праславянского *pъrpati [Варбот 2011, 404; Boryś 2007, 687–688].
Таким образом, непосредственно в виде *rъp- рассматриваемый корень в позднем праславянском, как кажется, не фигурировал.
5.5. Выводы об этимологии слова
Итак, наиболее заслуживающими внимания являются следующие гипотезы:
а) *rъtъ восходит к праиндоевропейскому *rutós, причастию от глагола *ruH- (> праслав. *ryti);
б) *rъtъ является собственно праславянским дериватом от *ryti ‘рыть’, построенным по образцу модели *plyti ‘плыть’ : plъtъ ‘плот’;
в) *rъtъ родственно глаголу *rypati.
К сожалению, опираясь исключительно на фонетику, сложно отдать предпочтение какой-либо из гипотез. Но на помощь нам приходит то соображение, что в качестве обозначения морды животного ожидалось бы скорее nomen instrumenti (‘то, чем роют’), чем nomen actionis (‘то, что вырыто’), так что из первой и второй гипотез предпочтение следует отдать второй.
Что касается родства с *rypati, то следует отметить, что обе приведенные выше параллели все же не являются полными: слово *sъtъ ‘соты’ не nomen instrumenti, а *pěstъ, хоть и является самым настоящим nomen instrumenti, но имеет корень на полной ступени вокализма, в отличие от нулевой в *rъtъ.
Таким образом, вероятнее всего, праславянское слово *rъtъ ‘морда животного’ является производным от *ryti ‘рыть’.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Богдановић Н. Земљописна и њој сродна лексика југоисточне Србије // Српски дијалектолошки зборник. 55. Београд: Чигоја штампа, 2008. С. 429–518.
Бялькевіч І.К. Краевы слоўнік усходняй Магілеўшчыны. Мінск: Навука і тэхніка, 1970. 512 с.
Динић Ј. Тимочки дијалекатски речник. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008. 921 с.
Златковић Д. Допуна речнику пиротског говора // Српски дијалектолошки зборник. 64. Београд: Чигоја штампа, 2017. С. 603–993.
Касьпяровіч М.І. Віцебскі краевы слоўнік. Менск: Інстытут беларускай культуры, 2011. 372 с.
Кънчев И. Говорът на село Смолско, Пирдопско // Българска диалектология. Книга IV / отг. редактор Ст. Стойков. София: Издателство на Българската академия на науките, 1968. С. 5–160.
Миронов С.А., Белоусов В.О., Шечкова Л.С., Пирот Ж.И., Лукин Г.П. Нидерландско-русский словарь. М.: Русский язык, 1987. 918 с.
ОДРМЈ – Официјален дигитален речник на македонскиот јазик. URL: https://makedonski.gov.mk
РБЕ – Речник на българския език. URL: https://ibl.bas.bg/rbe/
РСКНЈ – Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 1–21. Београд, 1959–2019.
СДЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–12. М.: Русский язык, 1988–2019.
СлРЯ XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–31. М.; СПб.: Наука, НесторИстория, 1975–2019.
СПЗБ – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Томы 1–5. Мінск: Навука і тэхніка, 1979–1986.
Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1–3. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1893–1912.
СР – Старобългарски речник. Т. 1–2. София: Валентин Траянов, 1999, 2009.
СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1–51. М., СПб.: Наука, 1965–2019.
Стијовић Р. Речник Васојевића. Београд: Чигоја штампа, 2014. 549 c.
СтСл – Старославянский словарь. М.: Русский язык, 1994. 842 с.
Сцяшковіч Т.Ф. Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. Мінск: Навука і тэхніка, 1972. 620 с.
Томић М. Речник радимског говора // Српски дијалектолошки зборник. 35. Београд: Студио плус, 1989. С. 1–174.
УС – Успенский сборник XII–XIII в. / под ред. С.И. Коткова. М.: Наука, 1971. 752 с.
Шклифов Б. Речник на костурския говор// Българска диалектология. Книга VIII. София: Издателство на Българската академия на науките, 1977. С. 201–328.
Codex Suprasliensis. URL: http://suprasliensis.obdurodon.org/
Gregorič J. Kostelski slovar. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 541 s.
Gusić I., Gusić F. Rječnik govora Dalmatinske Zagore i Zapadne Hercegovine. Zagreb, 2004. 577 s.
HSSJ – Historický slovník slovenského jazyka / red. M. Majtán et al. D. 1–7. Bratislava: Veda, 1991–2008.
Kalsbeek J. The Čakavian Dialect of Orbanići near Žminj in Istria. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1998. 608 p.
Liddel H.G., Scott R.A. Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1996. 2041 p.
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas. URL: http://lkz.lt
Lorentz F. Slovinzisches Wörterbuch. Teile 1–2. St. Petersburg: Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1908–1912.
Miklosich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Aalen: Scientia Verlag, 1977. 1103 S.
MSGP – Mały słownik gwar polskich. Kraków: Lexis, 2010. 366 s.
Mühlenbachs K. Lettisch-deutsches Wörterbuch. Bd. 1–4. Riga: Lettisches Bildungsministerium, 1923–1932.
Pleteršnik M. Slovensko-nemški slovar. D. 1–2. Ljubljana: Knezoškofijstvo, 1894, 1895.
RHiSJ – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika / obr. Đ. Daničić et al. Knj. 1–23. U Zagrebu: U kńižarnici Lavoslava Hartmana, 1880–1976.
SGP – Słownik gwar polskich. Zesz. 1–33. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo PAN, 1979–2019.
SJP – Słownik języka polskiego PWN. URL: https://sjp.pwn.pl
SJS – Slovník jazyka staroslověnského. Díly 1–4. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958–1983.
SSJ – Slovník slovenského jazyka. D. 1–6. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959–1968.
SSJČ = Slovník spisovného jazyka českého. URL: https://ssjc.ujc.cas.cz
SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga izdaja. URL: http://www.
fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2
SSN – Slovník slovenských nárečí / ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda, 1994–2021.
SStp – Słownik staropolski / red. nacz. S. Urbańczyk. T. 1–11. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo PAN, 1953–2002.
StčTB – Staročeská textová banka. URL: https://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx.
1 Что касается ударения, в литературе можно столкнуться с отнесением этого слова к подвижной акцентуационной парадигме: *rъ̏tъ (c) [Скляренко 1998, 110], *rъ̀tъ (c) [ERHJ 2, 308]. Однако, согласно древнерусским данным, слово *rъtъ относилось к акцентной парадигме (b) или (d), если соглашаться с выделением такой парадигмы. Так же себя ведут слова со схожей структурой – *plъtъ, *krъtъ и *sъtъ [Зализняк 2019, 621–622]. Вероятно, в связи с этим фактом М. Сной реконструирует форму *rъtъ̏ [Snoj 2016, 655]. З. Бабик в рамках своей концепции относит *rъtъ к группе дериватов на *-to-, сохраняющих праиндоевропейскую окситонезу, характерную для nomina agentis (против баритонезы у nomina actionis, как в др.-греч. τομός ‘режущий, острый’ vs. τόμος ‘ломтик, кусок’) [Babik 2012, 364–365].
2 О семантике слова реть смотри также статью [Мирчева 2017].
3 Следует отметить неожиданный и требующий объяснения -о-вокализм этого слова. О македонских по происхождению формах с -о- из *ъ в сербских и хорватских рукописях см. [Вайан 2007, 47].
4 В церковнославянских списках книги Бытия можно найти следующие варианты: до възвоузы / встуги / сьоузы / свезы / звѧзы сапожныѩ [Вілкул, Ніколаєв 2020, 174].
5 Данная форма, вероятно, объясняется как результат контаминации с vrh.
6 Христинопольский Апостол, XII век, русский извод; Слепчанский Апостол, XII век, болгарский извод; Шишатовацкий Апостол, XIV век, сербский извод. При этом не обрътиши исправлено на не ѡбратиши в Охридском Апостоле (XII век, болгарский извод) и не ѡбратищи в Струмицком Апостоле (XII век, болгарский извод) [SJS. D. 2, 490], что хорошо коррелирует с тем, что сказано выше о языке писца Супрасльской рукописи.
7 Теоретически возможен дрейф и в обратную сторону, ср. греч. ἄκρον ‘вершина’, вторично также ‘мыс’.
8 После отхождения этой территории к Польше топоним был полонизирован в Retowo.
9 Бывают, конечно, дрейфы и в обратную сторону, например, бел. мыса ‘морда’ и рус. диал. мыс ‘рыбий нос со лбом, голова рыбы’, ‘голова палтуса’ [СРНГ. Т. 19, 60]. Близкий случай – литовское žam̃bas ‘край, угол’ и žamba ‘морда’ [LKŽ].
10 В целом, как свидетельствует чеш. sanice ‘полоз саней’ > ‘нижняя челюсть’, возможен и обратный перенос, с части саней в сферу соматической лексики, но распределение значений у потомков праславянского *rъtъ говорит о том, что «санные» значения скорее вторичны по отношению к соматическим.
11 Справедливости ради упомянем, что бывают и переносы в обратную сторону, например, рус. корма ‘задняя часть корабля’ > ‘задница человека (пейоративно)’, англ. stern ‘корма’ > ‘задница’, ‘хвост’, но, кажется, это все же больше характерно для кормы корабля, чем для носа.
12 В качестве частичных параллелей можно привести рус. носок (обуви), нидерл. neus ‘нос’ > ‘носок обуви’ [Миронов и др. 1987, 462–463], порт. bico ‘клюв; острие; рот (разг.)’ > biqueira ‘носок чулка или обуви’. Возможен, конечно, и дрейф из иной исходной точки, ср. рус. мысок (ботинка), но, кажется, в случае *rъtъ «обувное» значение древнее «географического».
13 Иногда этот формант выделяют и в случае слова *krъtъ ‘крот’, у которого, однако, есть и альтернативная этимология, связывающая его с лит. krutùs ‘непоседливый’.
14 Стоит, однако, помнить о литовском bùtas ‘квартира’, производном от bū́ti ‘быть’ [Smoczyński 2007: 82].
15 Славянский акут в производном от *rypati схр. rȕpa ‘дыра, яма’, слвн. rúpa ‘небольшая карстовая пещера’ непоказателен, ср. слвн. gúba «складка» от *gybati < *g(u̯)eu̯bh- [LIV 2001, 188].
16 Альтернативная гипотеза о связи *sъtъ с *sytъ «сытый» [ESJS. D. 15, 932; Куркина 2021, 25] менее вероятна по фонетическим причинам, если, конечно, принимать для *sytъ реконструкцию *suHtos.
17 М. Фурлан вычленяет в этом глаголе, как и в *rypati суффикс -pa- [Bezlaj 4, 11], совершенно, на наш взгляд, безосновательно.
18 Внимания заслуживает также гипотеза В.Н. Топорова, который видел в слове шарпать балтизм [Топоров 4, 383–384].
作者简介
Mikhail Saenko
Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: michail.sajenko@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-5829-7527
PhD (Philology), Senior Researcher
俄罗斯联邦, Moscow参考
- Aitzetmüller R. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes, bd 1–7. Graz, Akademische Druck- U. Verlagsanstalt Publ., 1958–1975.
- Anikin A.E. Russkii etimologicheskii slovar’, vyp. 1–17. Moscow; St. Petersburg, Rukopisnyje pamiatniki drevnei Rusi; Nestor-Istoriia Publ., 2007–2023. (In Russ.)
- Babik Z. Korespondencje akcentowe między słowiańskim i starszymi językami indoeuropejskimi (pierwotne neutra tematyczne). Kraków, 2012. 558 p.
- Barankova G.S., Mil’kov V.V. Shestodnev Ioanna ekzarkha Bolgarskogo. St. Petersburg, Aleteiia Publ., 2001, 972 p. (In Russ.)
- Bezlaj F. Etimološki slovar slovenskega jezika, knj. 1–5. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1977–2005.
- Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, Wydawnictwo Literackie Publ., 2005. 863 p.
- Boryś W. Etymologie słowiańskie i polskie. Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2007. 750 p.
- Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1985. 806 p.
- Bŭlgarski etimologichen rechnik, t. 1–8. Sofiia: Izdatelstvo na Bŭlgarskata akademiia na naukite Publ., 1971–2017. (In Bulg.)
- Drvošanov V. Anatomska leksika za čovekot vo makedonskite govori. Skopje, Institut za makedonski jazik «Krste Misirkov», 2005, 280 p. (In Mac.)
- Etimologicheskii slovar’ slavianskikh iazykov: Praslavianskii leksicheskii fond, pod red. O.N. Trubachëva, A.F. Zhuravlëva, Zh.Zh. Varbot, vyp. 1–42. Moscow, Nauka Publ., 1974–2022. (In Russ.)
- Etimološki rječnik hrvatskoga jezika, sv. 1–2. Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Publ., 2016, 2021.
- Etymologický slovník jazyka staroslověnského, d. 1–19. Praha; Brno, Academia, Tribun EU, 1989–2018.
- Etymolohichnyĭ slovnyk ukraїns’koї movy, t. 1–6. Kyїv, Naukova dumka Publ., 1982–2012. (In Ukr.)
- Ėtymalahichny sloŭnik belaruskaĭ movy, t. 1–14. Minsk, Navuka i tėkhnika Publ., 1978–2017. (In Bel.)
- Fecht R. Lit. pláuti: aksl. pluti – eine Frage der Morphonologie. Beiträge zur Morphologie. Germanisch, Baltisch, Ostseefinnisch. Odense, University Press of Southern Denmark Publ., 2007, pp. 383–393.
- Ivanova T.A. Staroslavianskoje ret’ – Supr. r. 400.16. Slavianovedenije, 1992, no. 6, pp. 75–77. (In Russ.)
- Jakop T. Izrazi za sani in smuči (po gradivu za Slovenski lingvistični atlas). Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 24, gl. ur. M. Menac-Mihalić. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Publ., 2020, pp. 107–142.
- Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, New York, Walter de Gruyter Publ., 1989, 822 p.
- Kurkina L.V. Slavianskoje slovo vo vremeni i prostranstve. Moscow, Indrik Publ., 2021, 832 p. (In Russ.)
- Lane G. Two Slavic Etymologies. The American Journal of Philology, 1933, vol. 54, Issue 1, pp. 64–65.
- Leskien Α. Zur Kritik des altkirchenslavischen Codex Suprasliensis II. Abhandlungen der Philologisch-Historischen Klasse der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1910, 28, pp. 3–26.
- Lexikon der indogermanischen Verben, unter Leitung von H. Rix. Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2001, 823 p.
- Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, Academia Publ., 1968, 866 p.
- Matzenauer A. Příspěvky ke slovanskému jazykozpytu. Listy filologické, 1890, roč. 17, pp. 161–200.
- Mikkola J. Urslavische Grammatik, teile 1–3. Heidelberg, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1913–1950.
- Miklosich F. Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, Wilhelm Braumüller, 1886, 547 p.
- Mircheva E. Rat’ i ret’ v starobŭlgarskata knizhnina i v istoriiata na bŭlgarskiia ezik. Palaeobulgarica, 2018, 61, 1, pp. 3–22. (In Bulg.)
- Nimchuk V.V. Davn’orus’ka spadshchyna v leksytsi ukraїns’koї movy. Kyїv, Naukova dumka Publ., 1992, 412 p. (In Ukr.)
- Obshcheslavianskii lingvisticheskii atlas. Seriia fonetiko-grammaticheskaia. Vyp. 1–9; Seriia leksiko-slovoobrazovatel’naia, vyp. 1–12. Beograd, Moscow; Wrocław, Warszawa, Kraków, Zagreb, Skopjje, Mīnsk, Praha, Bratislava, St, Petersburg, 1988–2020. (In Russ.)
- Orel V. Russian Etymological Dictionary, vol. 1–4. Calgary, Octavia & Co. Press Publ., 2007–2011.
- Popruzhenko M.G. Kozma Presviter, bolgarskii pisatel’ X vek. Sofiia, Pridvorna pechatnitsa Publ., 1936. CCXCIX + 92 p. (In Russ.)
- Preobrazhenskii A.G. Etimologicheskii slovar’ russkogo iazyka, t. 1–3. Moscow, Tipografiia G. Lissnera i D. Sobko; Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR Publ., 1910–1949. (In Russ.)
- Rejzek J. Český etymologický slovník. Voznice, Leda Publ., 2001, 752 p.
- Sadnik L., Aitzetmüller R. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag Publ., 1955, 342 p.
- Saenko M.N. Ocherki po slavianskoi somaticheskoi leksike. Moscow, Indrik Publ., 2022, 270 p. (In Russ.)
- Saenko M.N. Istoriia semantiki kontinuantov praslav. *plъtь. Slavianovedenije, 2022, no. 5, pp. 132–144. (In Russ.)
- Schrijver P. The reflexes of Proto-Indo-European laryngeals in Latin. Amsterdam, Atlanta, Rodopi Publ., 1991, 616 p.
- Schuster-Šewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und nidersorbischen Sprache, h. 1–24. Bautzen, Domowina-Verlag Publ., 1978–1989.
- Seldeslachts H. Études de morphologie historique du verbe latin et indo-européen. Louvain, Peeters, 2001. 194 p.
- Skliarenko V.H. Praslov’ians’ka aktsentolohiia. Kyїv, Instytut movoznavstva im. O.O. Potebni Publ., 1998, 342 p. (In Ukr.)
- Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. 1–3. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti Publ., 1971–1973.
- Sloŭnik belaruskikh havorak paŭnochna-zakhodniaĭ Belarusi i jaje pahranichcha, t. 1–5. Minsk, Navuka i tėkhnika Publ., 1979–1986. (In Bel.)
- Slovenski lingvistični atlas, dela 1–2. Ljubljana, Založba ZRC Publ., 2011–2016.
- Sławski F. Słowotwórstwo, słownictwo i etymologia słowiańska. Kraków, Polska Akademia Umiejętności Publ., 2011, 670 p.
- Słownik etymologiczny języka drzewian połabskich, zesz. 1–6. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1962–1994.
- Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. 1–6. Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Publ., 1994–2010.
- Słownik prasłowiański, t. 1–8. Wrocław Warszawa, Kraków, Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo PAN Publ., 1974–2001.
- Smoczyński W. Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno, Uniwersytet Wileński Publ., 2007, 798 p.
- Snoj M. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, Založba ZRC Publ., 2016, 1052 p.
- Stsiashkovich T.F. Matėryialy da sloŭnika Hrodzenskaĭ voblastsi. Minsk, Navuka i tėkhnika Publ., 1972, 620 p.
- Stieber Z. Kaszubski retk ‘przylądek’. Język polski, 1958, 38, 4, pp. 284–285.
- Toporov V.N. Issledovaniia po etimologii i semantike, t. 1–4. Moscow, IASK Publ., 2004–2010. (In Russ.)
- Tseitlin R.M. Iz zametok po drevnebolgarskoi leksikologii (dr.-bolg. ret’). Izsledvaniia vŭrhu istoriiata i dialektite na bŭlgarskiia ezik. Sofiia, Izdatelstvo na Bŭlgarskata akademiia na naukite Publ., 1979, pp. 374–376. (In Russ.)
- de Vaan M. Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages. Leiden, Boston, Brill Publ., 2008, 825 p.
- Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves, tomes 1–5. Lyon, Paris, Editions IAC Publ.; Klincksieck, 1950–1977.
- Vaillant A. Rukovodstvo po staroslavianskomu iazyku. Moscow, Izdatel’stvo LKI Publ., 2007, 440 p. (In Russ.)
- Varbot Zh.Zh. Issledovaniia po russkoi i slavianskoi etimologii. St. Petersburg, Nestor-Istoriia Publ., 2011, 646 p. (In Russ.)
- Vasil’jev V.L. Slavianskije toponimicheskije drevnosti Novgorodskoi zemli. Moscow, Rukopisnyje pamiatniki Drevnei Rusi Publ., 2012, 814 p. (In Russ.)
- Vasmer M. Etimologicheskii slovar’ russkogo iazyka, t. 1–4. Moscow, Progress Publ., 1986–1987. (In Russ.)
- Vilkul T.L., Nikolaiev S.L. Knyha Buttia. Davn’oslov'ians’kyĭ chetiĭ tekst za spyskamy XIV–XVI stolit’. L’viv, Ukraїns’kyĭ katolyts’kyĭ universytet Publ., 2020, 640 p. (In Ukr.)
- Waniakowa J. Zróżnicowanie dialektalne Słowiańszczyzny na przykładzie nazw ‘ust’ i ‘warg’. Rocznik Slawistyczny, 2008, t. 57, pp. 127–136.
- Zalizniak A.A. Drevnerusskoje udarenije: obshchije svedeniia i slovar’. Moscow, IASK Publ., 2019, 872 p. (In Russ.)