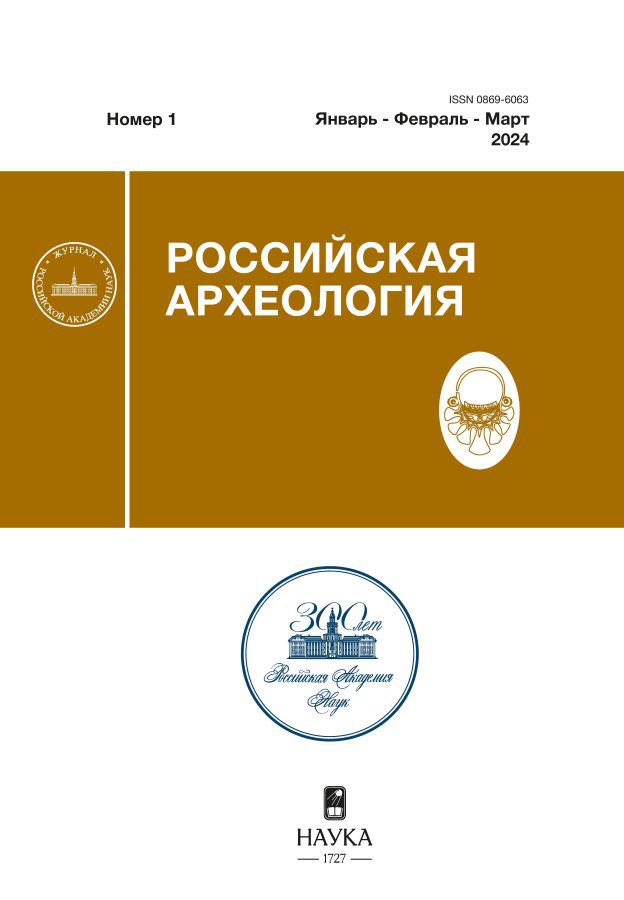B.S. Zhukov in the history of Russian archaeology: to the scientist’s anniversary
- Authors: Kuzminykh S.V.1, Lopatina O.A.1
-
Affiliations:
- Institute of Archaeology RAS
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 213-227
- Section: HISTORY OF SCIENCE
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-6063/article/view/258243
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869606324010148
- EDN: https://elibrary.ru/ZVOLMG
- ID: 258243
Cite item
Full Text
Abstract
B.S. Zhukov is one of the key figures in Russian archaeology of the 1920s. Palaeoethnological field of research at Moscow University was established by D.N. Anuchin who suggested his famous triad, a synthesis of prehistoric archaeology, anthropology and ethnography. In the early 1920s, Zhukov, his disciple, went further and put the teacher’s ideas into practice by proposing a research programme and building a team of young researchers – archaeologists, anthropologists, ethnologists, and experts in other areas. The leader of the palaeoethnological school, B.S. Zhukov did not only absorbed Anuchin’s idea of an interdisciplinary approach to the study of humans in their past and present development, but also implemented it in the course of large-scale complex expeditions and in-depth research. Zhukov’s school as a special research direction was developing for a short period in the mid and second half of the 1920s. However, it raised a generation of archaeologists, anthropologists and ethnologists, who made an invaluable contribution to the development of Russian and world science.
Full Text
Юбилейные даты – 130 лет со дня рождения и 90 лет со дня смерти – повод вспомнить имя Бориса Сергеевича Жукова (рис. 1). В 1920-е годы он являлся безусловным лидером московской палеоэтнологической школы, основы которой были заложены Д.Н. Анучиным. Ядром исследовательской программы школы Жукова стала анучинская идея междисциплинарного подхода к изучению человека в его прошлом и настоящем. На практике она осуществлялась в ходе комплексных экспедиций, объединявших усилия археологов, антропологов, этнографов, лингвистов, географов и представителей других научных дисциплин. Интеграции такого рода исследований ученый придавал ключевое значение.
Рис. 1. Борис Сергеевич Жуков (1892-1933).
Fig. 1. Boris Sergeevich Zhukov
Изучению наследия Жукова и его роли в науке посвящено немного трудов. Отчасти это можно объяснить тем, что Борис Сергеевич оставил после себя, к сожалению, мало работ: в самом расцвете творческой карьеры он был репрессирован и погиб в лагере. После реабилитации в 1959 г. о нем вышли две небольшие статьи: В.В. Бунака и О.Н. Бадера в журнале “Вопросы антропологии” (1963) и О.Н. Бадера в журнале “Советская археология” (1968). В 1970–80-е годы научный путь Жукова и в целом история московской палеоэтнологической школы крайне скупо освещались в советской историографии (Генинг, 1982. С. 77–91). Ситуация стала меняться лишь в последние десятилетия (Решетов, 1999; Кузьминых, 2004; Формозов, 2008. С. 71–84; Платонова, 2010. С. 179, 180, 185, 186, 197, 206–210; Кузнецов, 2013; Клейн, 2014. С. 40–47 и др.).
Причина тому – негласное табу, которое долгое время распространялось на имя и деятельность ученого и действовало не менее жестко официальных запретов. Крайне редко и избирательно исследователи, включая и учеников Жукова, осмеливались упоминать и цитировать его имя в контексте руководителя экспедиции или автора раскопок того или иного памятника1. Кроме того, более полувека опубликованные труды Бориса Сергеевича оставались невостребованными. “Забытыми” оказались и архивные источники, связанные с деятельностью ученого и его научной школы. Работа над их изучением только-только начинается (Кузнецов, 2013; Кузьминых, 2023; Кузьминых, Белозёрова, 2023; Детлова и др., 2023). Сравнительно недавно были опубликованы факты биографии ученого и история семьи из воспоминаний его внучки А.П. Сергиевской (2020; 2023).
Б.С. Жуков родился 1 декабря 1892 г. в Нижнем Новгороде. В 1917 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, кафедру географии и антропологии (по специальности “антропология”). В том же году был оставлен Д.Н. Анучиным при университете для подготовки к профессорскому званию. Окончил аспирантуру по специальности “палеоантропология” и в 1921 г. получил право самостоятельного преподавания. Тогда же был зачислен самостоятельным преподавателем (доцентом) по кафедре антропологии 1-го МГУ.
Во второй половине 1920-х годов Жуков стал одной из ключевых фигур советской археологии. В 1926 г. ученый возглавил Археологический подотдел Музейного отдела Главнауки НКП РСФСР. В Институте антропологии 1-го МГУ он занимал должности ученого секретаря, зам. директора, руководил палеоантропологической лабораторией. В Центральном музее народоведения являлся заведующим отделом Австралии, Океании, Индонезии и Африки. Жуков активно участвовал в краеведческой деятельности, будучи членом ЦБК. Под его началом успешно работали крупные археологические экспедиции: Антропологическая комплексная по Центрально-Промышленной области (АКЭ), Ветлужская (рис. 2), Крымская, Камско-Вятская, Черноморская (Археологические… 1962. С. 25, 30, 31, 38–40, 50, 51, 61, 62). Важнейшие совещания этнологов и палеоэтнологов ЦПО в 1926 и 1927 гг. подготовлены и проведены при деятельном участии Жукова и его команды. На них была намечена программа исследований ученых Москвы, Ленинграда, региональных центров, состоялся обмен опытом, прежде всего методическим, раскопок и обработки археологического материала (Материалы… 1927; Протоколы… 1927). Признанием высокого научного авторитета стало приглашение исследователя в 1929 г. на Международный археологический конгресс, посвященный столетнему юбилею Германского археологического института (Schukov, 1930), и его избрание в январе 1930 г. членом-корреспондентом этого института (Детлова и др., 2023) (рис. 3).
Рис. 2. Раскопки Чортова городища: лодки Ветлужской экспедиции. Слева на корме О.Н. Бадер. 1925 г.
Fig. 2. Excavations at the Chortovo fortified settlement: boats of the Vetluga expedition. O.N. Bader is at the left astern. 1925
Рис. 3. Участники Международного археологического конгресса (Берлин, 1929 г.). Сидят (слева направо): Аксель Перссон (Уппсала), Анри Бегуэн (Тулуза), Хосе Рамон Мелида-и-Алинари (Мадрид), неизвестный; стоят (слева направо): Андраш Алфёльди (Дебрецен), Эмиль Панайтеску (Бухарест), Джузеппе Лугли (Рим), неизвестный, Гуго Обермайер (Мадрид), Элеазар Липа Сукеник (Иерусалим), Борис Жуков (Москва). Сверху дочь Б.С. Жукова оставила надпись: “Отец. Крайний справа на праздновании Берлинского археологического института”. Фото из газеты Цайтбилдер 28 Апреля 1929.
Fig. 3. Participants of the International archaeological congress (Berlin, 1929). Seated (left to right): Axel Persson (Uppsala), Henri Begouën (Toulouse), José Ramon Melida y Alinari (Madrid), unknown; standing (left to right): Andreas Alföldi (Debrecen), Emil Panaitescu (Bucharest), Giuseppe Lugli (Rome), unknown, Hugo Obermeier (Madrid), Eleazar Lipa Sukenik (Jerusalem), Boris Zhukov (Moscow). B.S. Zhukov’s daughter left the inscription on the photo: “Father. Far right at the celebration in Berlin Archaeological Institute”. Photo from the newspaper Zeitbilder 28 April 1929
Жуков сыграл ключевую роль в издании сборника в честь 70-летия А.А. Спицына в серии “Eurasia Septentrionalis Antiqua”. Юбилейный выпуск ESA, в котором львиная доля статей принадлежала ученым из СССР, вышел только благодаря такту, настойчивости и гибкости Бориса Сергеевича, сумевшего убедить руководство Главнауки в том, что этот сборник отражает достижения передовой советской науки и работает на ее положительный имидж. Необходимо отдать должное и редактору журнала А.М. Тальгрену, который в ходе подготовки сборника стал в СССР персоной non grata после своего открытого письма в Главнауку в защиту академика Жебелёва (Тункина, 2000), но пошел на компромисс и издал ESA IV. Выход сборника стал поистине царским подарком для Александра Андреевича Спицына (Кузьминых, 2011). Лично для Жукова публикация статьи в тальгреновском журнале (Joukov, 1929) стала презентацией для западных коллег того опыта исследований в области методики анализа и классификации археологического материала, который в конце 1920-х годов был в арсенале ученого и его палеоэтнологической школы.
К концу 1920-х годов вышли основополагающие труды Жукова (1925, 1926; 1927; 1927б; 1928; 1928а; б; 1929; 1929а; Joukov, 1929). В них, и в целом в своей многогранной деятельности, Борис Сергеевич ярко проявил себя как истинный ученый, прекрасный преподаватель, умелый организатор науки, музейного дела и краеведения.
В последние годы в историографии уделялось большое внимание переоценке взглядов на развитие палеоэтнологического направления в отечественной археологии и вкладу отдельных ученых (Тихонов, 2003. С. 99–130; Платонова, 2008; 2010. С. 125–197). В этой связи фигура Жукова заслуживает особого внимания. В 1920-е годы, в период подъема и исканий, перестройки старых институций, именно он сформулировал основные положения палеоэтнологического подхода, его задачи и методы. В то время – становления археологии как науки – было еще не вполне ясно, как будет развиваться археология: самостоятельно или в рамках других дисциплин (антропологии, этнологии), еще не сформировались подходы к преподаванию археологии, обучение шло одновременно на факультетах физико-математическом и общественных наук столичных университетов (Тихонов, 2019. С. 366–370).
В программных статьях “Археология” и “Вопросы методологии выделения культурных элементов и групп” (Жуков, 1928; 1929а) Борис Сергеевич четко обозначил научную платформу, свое понимание археологии как палеоэтнологии. Рассматривая успехи археологии за десятилетие после революции, он с оптимизмом отмечал, что археология перестала быть областью любительства с шатким научно-методическим фундаментом: произошло “рождение археологии как академической науки в уклоне этнологическом, пересмотр ее научных позиций, ее методологических путей, размежевание специальных задач и уклонов, создание новых научных концепций” (Жуков, 1928. С. 91).
Как прогрессивное явление Жуков оценивал сложившееся до революции размежевание “церковной” или “историко-искусствоведческой археологии” и “доисторической археологии”, выделяя в рамках последней университетские школы Д.Н. Анучина в Москве и Ф.К. Волкова в Санкт-Петербурге. Именно такое понимание развития палеоэтнологического направления в России оформилось в современных исследованиях (Тихонов, 2003. С. 129; Платонова, 2010. С. 196, 197). Несмотря на то, что Анучин не использовал понятие “палеоэтнология” в своих трудах, а его отношения с Волковым были отчужденными, Борис Сергеевич совершенно справедливо объединил эти школы как общие по духу и связанные с традициями западноевропейской науки. По мнению ученого, они охватывали “наряду с географией науки о человеке и его культуре – антропологию и этнологию с палеоэтнологией (доисторической археологией)” (Жуков, 1928. С. 91). Уже после смерти учителя в 1923 г. Жуков постепенно вводит в свой научный лексикон понятие “палеоэтнология” в первую очередь как синоним археологии. В его статьях часто можно найти упоминание “палеоэтнологических раскопок”, “палеоэтнологических объектов” и т.п. Вместе с тем совершенно очевидно, что замена понятий, даже чрезмерное акцентирование этой замены, является не просто использованием синонимов, но имеет под собой глубокую основу.
Взяв в качестве девиза высказывание Спицына о том, что “археология – это историческая этнография”, Жуков обосновывает мысль: изучение древних памятников должно происходить в рамках этнологической науки – будь то этнология “эволюциониского, культурно-исторического или социологического направления”. По мнению ученого, хронологически “этнология изучает человеческую культуру от древнейших продуктов человеческого труда <…> до тех ступеней, где нивелированы признаки самобытной культурной среды волною интернациональной цивилизации” (Жуков, 1929а. С. 32). Разделение дисциплин на этнологию и археологию Борис Сергеевич считал необоснованным, указывая на единство этнологической науки в отношении погребенных и современных культур. В этом состояла суть полемики с Куфтиным (1927), чья позиция была связана, по Жукову, с “недостаточно четким отделением общей методологии нашей науки (палеоэтнологии – авт.) от частной методики собирания материала и его первичной интерпретации” (Жуков, 1929а. С. 32, 33).
Поскольку изучение погребенных человеческих культур предполагалось в рамках этнологической науки, Борис Сергеевич развивал те подходы и методы, которые были свойственны этнологии в тот период. В частности, на Совещаниях этнологов и палеоэтнологов ЦПО 1926 и 1927 гг. в программных докладах его участников активно обсуждался культурно-исторический подход (Лопатина, 2023). Именно с позиций культурно-исторического подхода Жуков обосновывал объекты изучения, задачи и методы палеоэтнологии. Для него основными объектами исследований “являются элементы культуры и их сочетания в группах или комплексах, обусловленные взаимодействием определенных факторов” (Жуков, 1929а. С. 34). В качестве первоочередной задачи этнологического анализа ученый рассматривал “фиксацию культурных элементов и их сочетаний на территории и во времени” (Там же). Она должна опираться на типологический метод, “требует точности определений, а также количественного и качественного учета и выделения тех характерных признаков, которые определяют группы” (Там же).
Этот подход, когда единые методы изучения признавались как для древних, так и для современных культур, делал логичным обращение и к собственно этнологическим исследованиям, и к изучению “ближайших к современности погребенных групп” (рис. 4). Культуры недавнего прошлого ранее никогда не были объектами систематического археологического изучения, они вошли в поле зрения археологов только в русле палеоэтнологического направления и, прежде всего, благодаря работам Жукова и его учеников. Так, совершенно новаторским стало исследование АКЭ волжско-финских могильников XVII–XVIII вв. (Большепольский, Одошнурский, Сарлейский). Борис Сергеевич полагал, что изучение этих памятников, принадлежащих мокшанам, эрзянам, терюханам и луговым мари позволит “сопоставлять при сравнительно-хронологическом анализе одновременные или предшествующие им комплексы, в частности материалы могильников первой половины 1 тыс. н.э.” (Там же, 2023. С. 34, 35).
Рис. 4. Раскопки Перемчалкинского могильника. На верхнем фото Б.С. Жуков стоит справа, на нижнем – сидит на заднем плане. Антропологическая комплексная экспедиция, 1926 г.
Fig. 4. Excavations of the Peremchalka burial ground. In the top photo, B.S. Zhukov is standing on the right, on the bottom photo, he sitting in the background. Anthropological complex expedition, 1926
Разработка методов палеоэтнологического направления логично подводила Жукова и к исследованиям в области этнологии. В статье “Задачи изучения национальных меньшинств Нижегородского края” (Жуков, 1928б) в фокусе его внимания оказались процессы смешения между русскими и волжско-финскими народами. Борис Сергеевич проанализировал уменьшение численности национальных меньшинств края за последние 70 лет: это горные и луговые мари (черемисы) и группы мордвы – терюхане, эрзя и мокша. В связи с этим ученый выделил два процесса. Первый связан с обрусением нацменов, с утратой национальной группой своей самобытной культуры и языка, что дает смешанные признаки и в физическом типе населения. Такое смешение имеет для исчезающей группы в целом положительное значение, поскольку происходит поднятие ее хозяйственного уровня за счет более прогрессивной культуры. Второй процесс Жуков охарактеризовал как протекающее угасание в рамках отдельных национальных групп, не смешивающихся с русским населением, слабо воспринимающих его культуру, уступающих ему в хозяйственных навыках, имеющих “более слабую хозяйственную и трудовую потенцию по сравнению с русскими” (Жуков, 1928б. С. 320–331). Подобная работа являлась шагом вперед к разработке на этнографическом материале моделей, которые позволяли бы использовать их для данных археологии. Это интересное направление исследований до сих пор мало реализовано в отечественной археологии.
Не случайно основной труд Жукова “Теория хронологических и территориальных модификаций некоторых неолитических культур Восточной Европы по данным изучения керамики” был издан в журнале “Этнография” (1929). В этой работе впервые была представлена схема культурогенеза от неолита до железного века на обширной территории Русской равнины. Предложенная схема в основных своих позициях выдержала проверку временем, несмотря на то, что после разгрома палеоэтнологического направления, многие археологи эту статью либо не замечали, либо не подчеркивали ее основополагающее значение, хотя она того безусловно заслуживала.
Та научная платформа, о которой выше шла речь, сочеталась в трудах Жукова с совершенно передовой для своего времени методикой полевых исследований и приемами обработки массового археологического материала. Эти подходы реализовались, прежде всего, при изучении неолитических памятников. Интерес ученого к неолитической тематике был связан, с одной стороны, с успешными раскопками торфяниковых и свайных поселений в Европе, и с другой – со сравнительно слабой изученностью неолита в России. Хотя работы В.А. Городцова позволили продвинуться в этой области, методический уровень его раскопок оставлял много вопросов. Торфяниковые памятники в России систематически не исследовались. Начав с раскопок Балахнинских стоянок (Жуков, 1922; Бадер, Воеводский, 1935), Борис Сергеевич сумел быстро выстроить для себя основные подходы к полевой практике, которые в полной мере были реализованы при раскопках Льяловской стоянки в 1923–1925 гг. (Жуков, 1925; 1927).
Работы на этом памятнике демонстрировали подходы, которые намного опережали свое время: проводились регистрация границ простирания культурного слоя методом бурения, фиксация глубин залегания слоев и находок, фотографирование, зарисовка профилей, нанесение находок на план раскопок. На ряде участков стоянки взяты послойно образцы торфа и подстилающих его отложений для лабораторного анализа. Были привлечены специалисты, которые провели геоморфологичское описание котловины у с. Льялова и торфяника, специальные исследования торфа и древесных остатков (Мещеряков, 1925), пыльцы растений (Доктуровский, 1925), образцов торфа, костей животных и рыб (М.В. Павлова, М.А. Мензбир, С.А. Сидоров), моллюсков (Линдгольм, 1925); результаты естественнонаучных исследований были оперативно опубликованы. Весь массовый материал подвергался строгому учету по квадратам 1 × 1 м, велся протокол разборки слоя с подсчетом находок на участках, составлялась их полевая опись. В процессе полевых работ разрабатывались подходы камеральной обработки массового материала, в частности керамики, исследованию которой ученый придавал первостепенное значение (Лопатина, 2023).
В целом Жуков уделял самое пристальное внимание разработке полевой методики. К этой работе был привлечен его ближайший ученик О.Н. Бадер. На совещании палеоэтнологов 1926 г. прозвучали их доклады, дополняющие друг друга: один по методике ведения раскопок стоянок и городищ (Жуков, 1927б), другой – разведок (Бадер, 1927). По сути, это был первый в нашей стране опыт систематизации приемов полевой практики. Разработанная программа широко использовалась в ходе работ АКЭ. Именно она была положена в основу первой в СССР инструкции к открытым листам, автором которой стал Жуков (Сорокина, 2018).
Важным нововведением была предложенная ученым унифицированная система описания памятников археологии в виде карточек. Они включали как общую информацию (описание, история открытия, методы работы), так и конкретную, содержащую протокол послойной разборки слоя с определенной системой этикетажа и графические материалы. Раскопочная карточка определенного образца соответствовала каждому 1 м2 культурного слоя. Выполнение столь высоких требований к полевой методике казалось некоторым современникам чрезвычайно прогрессивным, но мало выполнимым (Протоколы… 1927. С. 76). Тем не менее прямым продолжением идей Жукова стала методическая брошюра “Археологические памятники, их охрана и методы первичного изучения” (Бадер, 1938), в которой развивалась система их карточного описания. В дальнейшем так называемые карточки Бадера неоднократно служили источником при каталогизации памятников археологии (Янишевский и др., 2020. С. 29). Система унифицированного описания памятников археологии воплотилась гораздо позже в связи с их паспортизацией, которой с 1972 г. занимался Отдел сводов и карт ИА РАН.
Важнейшей сферой деятельности Жукова являлось преподавание на кафедре антропологии 1-го МГУ. В письмах финскому коллеге А.М. Тальгрену сообщается, что им “читаются курсы “Палеоантропология”, “Палеоантропология Восточной Европы”, ведутся два практимума – малый и большой – по палеоэтнологии, имеется семинарий и специальные занятия по этой дисциплине и есть научные работники, которые работают над специальными темами…” (Кузьминых, 2023. С. 25). Для улучшения учебного процесса Борис Сергеевич “озабочен собиранием материала в объектах (подлинных и копиях) для возможно полного обставления занятий” (Там же. С. 28). Он обращается к Тальгрену, в то время профессору Тартуского университета, с просьбой об обмене не только муляжами археологических предметов, но и частью музейных коллекций. Жукова особенно интересуют образцы балтийской неолитической керамики. Он готов прислать в Тарту в обмен керамику Льялова, Балахны, окских стоянок, подмосковных и ветлужских городищ (Там же. С. 30).
К сожалению, в архивах не выявлены материалы к лекционным курсам Жукова. Но можно полагать, что серия научно-популярных книг “Происхождение человека” (пять изданий), “Древнейшие строители из дерева и камня”, “Первые шахтеры и металлисты”, “Как люди расселялись по земле” (Жуков, 1925а; 1927а; 1931; 1931а) как раз и составляла основу его лекционных курсов в 1-м МГУ. Во всех этих изданиях проводился главный методологический принцип ученого – принцип комплексного изучения древнего человека в его природном окружении. В первой книге наряду с антропологическими данными об ископаемых человеческих останках дана информация о культуре человека древнекаменного периода и о ледниковой геологической эпохе (Жуков, 1931). Вторая дает представление о населении неолита Западной Европы до появления металла: о культурах, связанных с древнейшими свайными постройками, и о древнейших мегалитических культурах. И снова Борис Сергеевич подходит к изложению материала комплексно, обращается к сведениям древних авторов о свайных постройках, приводит этнографические параллели, а также антропологические данные (Жуков, 1925а). В книге о горняках и металлистах изложены первые свидетельства использования металлов в древности, особенности распространения навыков металлургии по земле, дана характеристика связанных с этим культурных процессов (Жуков, 1931а). Курсы лекций по каждому периоду сопровождались наглядными пособиями в виде серии диапозитивов, снабженных развернутыми описаниями Жукова. В целом принципы изложения материала серьезно отличались от учебника А.В. Арциховского (1940), ставшего впоследствии на многие годы основой преподавания археологии в МГУ и других вузах страны.
В докладе на Совещании палеоэтнологов ЦПО 1926 г. в качестве основных достижений Антропологического института 1-го МГУ Борис Сергеевич отметил: 1) организацию преподавания палеоэтнологии и палеоантропологии со специализацией в этих областях; 2) создание палеоэтнологической лаборатории; 3) выработку некоторых методов полевой и музейно-лабораторной палеоэтнологической практики (Жуков, 1927в. С. 67). За довольно скупыми строками этого отчета стоит огромная научно-преподавательская, полевая и музейно-лабораторная работа ученого.
Образовательные программы Б.С. Жукова и Б.А. Куфтина, другого выдающегося ученика Д.Н. Анучина, который вел народоведческий цикл лекций на кафедре антропологии (Алымов, Решетов, 2003. С. 244, 245), составляли явную конкуренцию преподаванию археологии и этнологии на ФОН 1-го МГУ В.А. Городцовым, Ю.В. Готье, А.С. Башкировым, П.Ф. Преображенским. Несмотря на то, что курсы археологии в университете осуществлялось одновременно на факультетах физико-математическом и общественных наук, Борис Сергеевич оценивал такое положение дел скорее положительно, считая, что это дает возможность для формирования разносторонне подготовленных специалистов (Жуков, 1928. С. 93).
Отметим среди учеников Жукова целую плеяду выдающихся ученых – археологов, антропологов и этнологов (О.Н. Бадер, М.В. Воеводский, М.В. Талицкий, А.Е. Алихова, Е.И. Горюнова, А.В. Збруева, С.П. Толстов, Т.А. Трофимова, М.Г. Левин, Г.Ф. Дебец, П.И. Зенкевич) (рис. 5; 6). По воспоминаниям Алиховой, ученики с благодарностью называли себя жуковцами (Воронина, 2003). Борис Сергеевич объединил своих учеников и сотрудников в рамках гибких организационных структур, созданных в Институте и Музее антропологии 1-го МГУ (археологический кружок, палеоантропологическая лаборатория, АКЭ), Музее ЦПО и Центральном музее народоведения. Усилия молодого целеустремленного коллектива были направлены на реализацию палеоэтнологической программы исследований, обращенной, прежде всего, на изучение древностей центра Русской равнины – от неолита до позднего средневековья.
Рис. 5. В экспедиционном лагере на р. Кержинец. Слева направо по часовой стрелке: О.Н. Бадер, П.И. Зенкевич, С.П. Толстов, А.И. Горюнов, Б.С. Жуков, М.Г. Левин, Т.А. Трофимова, А.Е. Алихова, Е.И. Горюнова, стоит Е.Р. Лебедева. Ветлужская экспедиция, 1926 г.
Fig. 5. In the expedition camp on the Kerzhinets River. Left to right, clockwise: O.N. Bader, P.I. Zenkevich, S.P. Tolstov, A.I. Goryunov, B.S. Zhukov, M.G. Levin, T.A. Trofimova, A.E. Alikhova, E.I. Goryunova, standing E.R. Lebedeva. Vetluga expedition, 1926
Рис. 6. На берегу Ветлуги. Слева направо – задний ряд: О.Н. Бадер, Б.С. Жуков, Е.И. Горюнова; передний ряд: А.И. Горюнов, Е.Р. Лебедева, Т.А. Трофимова, С.П. Толстов, П.И. Зенкевич, М.Г. Левин, А.Е. Алихова. Ветлужская экспедиция, 1926 г.
Fig. 6. On the Vetluga River bank. Left to right – the back: O.N. Bader, B.S. Zhukov, E.I. Goryunova; the front: A.I. Goryunov, E.R. Lebedeva, T.A. Trofimova, S.P. Tolstov, P.I. Zenkevich, M.G. Levin, A.E. Alikhova. Vetluga expedition, 1926
О рабочей кухне исследований самого Жукова, его учеников и сотрудников, манере и стиле руководства и общения Бориса Сергеевича со своими подчиненными мы можем судить по его корреспонденции (Кузьминых, 2023; Кузьминых, Белозёрова, 2023). Жуков, организованный и требовательный к себе, в той же мере был строг и к коллегам, если это касалось их общего дела. Особенно примечательны в этом отношении его письма Воеводскому: они передают пульс многогранной деятельности Жукова как лидера московской палеоэтнологической школы 1920-х годов, раскрывают рабочую кухню исследований его учеников и сотрудников, ярко характеризуют Бориса Сергеевича как администратора и руководителя больших комплексных экспедиций и уникального научного коллектива.
Палеоэтнологическая школа Жукова как научное направление институционально развивалась непродолжительное время в середине и второй половине 1920-х годов. Тем не менее в ней выросло поколение археологов, антропологов и этнологов, воспринявших традиции исключительного уважения к источнику, строгости и точности в методике исследований, приверженности к комплексному подходу в изучении ископаемых и живых культур. На переломном этапе развития советской археологии на рубеже 1920–30-х годов большинство учеников Жукова не встало под знамена схоластической яфетической теории, или теории стадиальности, избежало участия в политизированных кампаниях и дискуссиях конца 1920-х и начала 1930-х годов (за исключением С.П. Толстова) – его ученики продолжили активную полевую деятельность и изучение конкретного археологического материала. Навыки школы Жукова позволили его ученикам в 1932 и в последующие годы влиться в состав Московского отделения ГАИМК–ИИМК и включиться, прежде всего, в масштабные новостроечные работы тех лет. Ученики Жукова в своих трудах сохранили верность палеоэтнологическому направлению и обогатили советскую археологию методами и приемами полевых, камеральных и кабинетных исследований, воспринятых в жуковской школе.
События “великого перелома” рубежа 1920–30-х годов, развернувшаяся кампания по разгрому палеоэтнологического направления (Арциховский, 1929; Равдоникас, 1930) отразились на судьбе ученого. Было сфабриковано дело о краеведах2, по которому Жуков был арестован и осужден на три года лагерей, где он и умер от воспаления легких в 1933 г. незадолго до освобождения (Сергиевская, 2023).
К началу 1930-х годов изменилась и руководящая концепция в отношении задач археологии. Они стали рассматриваться не как исследование культурогенеза, а как подспорье в изучении производительных сил прошлого. Негативная сторона этого процесса отразилась в полной мере, например, в исследованиях памятников на территории современной Москвы (Янишевский и др., 2020). Изменение курса привело к тому, что культурогенетическая схема ученого (Жуков, 1929; Joukov, 1929) была естественным путем вытеснена из числа основополагающих работ своего времени.
К сожалению, аресты – первый в сентябре 1930 и повторный в апреле 1931 г. – привели к тому, что типографские наборы работ Жукова, уже анонсированные к печати, были рассыпаны. Среди них статья “Раскопки неолитической торфяной стоянки близ д. Языкова”. В серии “Трудов” АКЭ в I томе планировались, в частности, к изданию работы: Жукова “Культура стоянки пережиточного каменного века “Паново городище”; Жукова, Бадера и Воеводского “Городища Поветлужья”; Жукова, Воеводского “Альбом элементов орнамента доисторической керамики территории СССР”. В письме Тальгрену (15.01.1929) Борис Сергеевич отмечал, что “обещают издать хорошо и не урезать иллюстраций” (Кузьминых, 2023. С. 37). В начале августа он написал финскому коллеге: “Ветлужские наши работы сейчас верстают. Из-за массы рисунков типография работает медленно. Однако надеемся к концу года выпустить” (Там же. С. 40). Анонсированные труды так и не увидели свет, хотя ученики Жукова позднее частично восполнили их утрату (Бадер, Воеводский, 1935; Збруева, 1940; Бадер, 1951; Воеводский, 1951).
Из переписки с Тальгреном видно, что 1929 год был особенно насыщен издательскими планами – планировалось завершение статей о комплексных методах в изучении человека и о морфологических признаках погребений эрзи, терюхан, мокши, мари и некоторых более древних групп финнов. Судьба первой статьи неизвестна, вторая опубликована только в виде тезисов (Жуков, 1929а). В ближайших планах Жукова были работы по неолитическим и мезолитическим (микролитическим, по его терминологии) культурам Крыма, а также монографии по поздняковской и волосовской (Волосово I) культурам и Сейминскому могильнику в соавторстве с Бадером (Кузьминых, 2023. С. 23).
Имя Жукова на несколько десятилетий выпало из лексикона отечественной науки. Палеоэтнологические школы Москвы и Ленинграда на рубеже 1920–30-х годов подверглись шельмованию, были признаны чуждыми марксизму и вредными, их лидеры в своем большинстве подверглись репрессиям, а организационные структуры разгромлены (Платонова, 2010. С. 180–197). В политизированной атмосфере того времени и с потерей лидера московская палеоэтнология как научно-организационная структура не имела шансов на выживание. Ученики Жукова, прежде всего Бадер и Воеводский, стремились сохранить палеоэтнологическое направление исследований в Институте антропологии МГУ, но в изменившихся условиях реальные условия для продолжения этих работ сложились в Московском отделении ГАИМК–ИИМК, тем более что к середине 1930-х годов сгладились противоречия двух московских археологических школ – городцовской и жуковской3. Ученики Городцова и Жукова, составившие костяк МО ГАИМК–ИИМК, сохранили в своей научной и полевой деятельности верность идеям и подходам своих учителей, осуществили сближение и взаимное обогащение двух основных научных направлений отечественной археологии.
Статья подготовлена по госзаданию Института археологии РАН, № НИОКТР 122011200264-9 (С.В. Кузьминых).
Благодарим А.П. Сергиевскую (рис. 1, 3, 5, 6) и А.Н. Бадер (рис. 2) за предоставленные фото из семейных архивов, А.П. Бужилову (рис. 4) – за фото из Архива Института антропологии МГУ.
1 Нельзя отказать в смелости А.В. Збруевой (1952. С. 8) и А.Е. Алиховой (1948. С. 173–175; 1948а. С. 213), указавшим Б.С. Жукова как руководителя экспедиций. Подобной отсылки, например, нет в труде О.Н. Бадера (1951), подготовленном совместно с Б.С. Жуковым и М.В. Воеводским в конце 1920-х годов.
2 Имеющиеся в литературе сведения о том, что Жуков был осужден по Академическому делу, ошибочны, как и дата гибели в 1934 г.
3 См. подробнее об этих противоречиях: (Платонова, 2010. С. 206–210).
About the authors
Sergey V. Kuzminykh
Institute of Archaeology RAS
Author for correspondence.
Email: kuzminykhsv@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
Olga A. Lopatina
Institute of Archaeology RAS
Email: lopatina.olga@gmail.com
Russian Federation, Moscow
References
- Minutes of the first Meeting of palaeoethnologists of the Central Industrial Region. Materialy k doistorii Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti: 1-e Soveshchanie paleoetnologov Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti [Materials on the prehistory of the Central Industrial Region: 1st Meeting of palaeoethnologists of the Central Industrial Region]. Moscow, 1927, pp. 74–89. (In Russ.)
- Alikhova A.E., 1948. The Peremchalki burial ground. Arkheologicheskiy sbornik [Archaeological collection]. Saransk: Mordovskoe gosudarstvennoe izdatel’stvo, pp. 173–211. (In Russ.)
- Alikhova A.E., 1948а. The Staraya Sotnya burial ground. Arkheologicheskiy sbornik [Archaeological collection]. Saransk: Mordovskoe gosudarstvennoe izdatel’stvo, pp. 215–258. (In Russ.)
- Alymov S.S., Reshetov A.M., 2003. Boris Alekseevich Kuftin: sharp bends in the path of life. Repressirovannye etnografy [Ethnographers victims of political repressions], 2. Moscow: Vostochnaya literatura, pp. 227–268. (In Russ.)
- Arkheologicheskie ekspeditsii Gosudarstvennoy Akademii istorii material’noy kul’tury i Instituta arkheologii Akademii nauk SSSR. 1919–1956 gg.: ukazatel’ [Archaeological expeditions of the State Academy for the History of Material Culture and the Institute of Archaeology at the USSR Academy of Sciences. 1919–1956: index]. Moscow: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, 1962. 264 p.
- Artsikhovskiy A.V., 1929. New methods in archaeology. Vestnik Kommunisticheskoy akademii [Bulletin of Communist Academy], 35–36, pp. 322–325. (In Russ.)
- Artsikhovskiy A.V., 1940. Vvedenie v arkheologiyu [Introduction to archaeology]. Moscow: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet. 164 p.
- Bader O.N., 1927. On palaeoethnological surveys and the compilation of regional catalogues of sites. Materialy k doistorii Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti: 1-e soveshchanie paleoetnologov Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti [Materials on the prehistory of the Central Industrial Region: 1st Meeting of palaeoethnologists of the Central Industrial Region]. Moscow, pp. 6–12. (In Russ.)
- Bader O.N., 1938. Arkheologicheskie pamyatniki, ikh okhrana i metody pervichnogo izucheniya [Archaeological sites, their conservation and methods of primary research]. Moscow: Narkompros RSFSR. 62 p.
- Bader O.N., 1951. Fortified settlements of the Unzha and Vetluga region. Materialy i issledovaniya po arkheologii Urala i Priural’ya [Materials and research on the archaeology of the Urals and the Cis-Urals], III. Moscow; Leningrad: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, pp. 110–158. (Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR, 22). (In Russ.)
- Bader O.N., 1968. In memory of Boris Sergeevich Zhukov. Sovetskaya arkheologiya [Soviet archaeology], 4, pp. 234–238. (In Russ.)
- Bader O.N., Bunak V.V., 1963. In memory of B.S. Zhukov. Voprosy antropologii [Issues of anthropology], 15, pp. 146–148. (In Russ.)
- Bader O.N., Voevodskiy M.V., 1935. Sites of the Balakhninskaya lowland. Izvestiya Gosudarstvennoy akademii istorii material’noy kul’tury [News of the State Academy for the History of Material Culture], 106, pp. 298–346. (In Russ.)
- Detlova E.V., Kuz’minykh S.V., Nagler A.O., 2023. B.S. Zhukov and his foreign connections. Arkheologiya evraziyskikh stepey [Archaeology of the Eurasian steppes], 3, pp. 81–95. (In Russ.)
- Dokturovskiy V.S., 1925. Determining the age of the Lyalovo site by pollen in peat. Trudy Antropologicheskogo instituta [Proceedings of the Anthropological Institute], I. Moscow, pp. 83–84. (In Russ.)
- Formozov A.A., 2008. Stat’i raznykh let [Articles of different years]. Kursk: Kurskiy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet. 132 p.
- Gening V.F., 1982. Ocherki po istorii sovetskoy arkheologii [Studies in the history of Soviet archaeology]. Kiev: Naukova dumka. 225 p.
- Joukov B., 1929. Les modifications chronologiques et locales de la céramique de certaines cultures de la pierre et du metal en Europe du Nord-Est. Eurasia Septentrionalis Antiqua, IV, pp. 61–81.
- Joukov B.S., 1930. Tardenoisien in der Krim. Neolithikum im Wolgagebiet. Archäologisches Institut des Deutschen Reiches: Bericht über die Hundertjahrfeier 21–25 April 1929. Berlin: Walter de Gruyter, pp. 281–290.
- Kleyn L.S., 2014. Istoriya rossiyskoy arkheologii: ucheniya, shkoly i lichnosti [History of Russian archaeology: doctrines, schools and personalities], 2. Arkheologi sovetskoy epokhi [Archaeologists of the Soviet period]. St. Petersburg: Evraziya. 640 p.
- Kuftin B.A., 1927. On the method of studying the continuity of buried and contemporary tribal cultures. Materialy k doistorii Tsentral’no-promyshlennoy oblasti: 1-e Soveshchanie paleoetnologov Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti [Materials on the prehistory of the Central Industrial Region: 1st Meeting of palaeoethnologists of the Central Industrial Region]. Moscow, pp. 19–23. (In Russ.)
- Kuz’minykh S.V., 2004. Otto Nikolaevich Bader and the national archaeology of the Early Metal period. Rossiyskaya arkheologiya [Russian archaeology], 4, pp. 142–150. (In Russ.)
- Kuz’minykh S.V., 2011. A.A. Spitsyn and A.M. Thalgren: from the history of Russian archaeology of the early 20th century. Tverskoy arkheologicheskiy sbornik [Tver collection of articles on archaeology], iss. 8, vol. II. Tver’: Triada, pp. 5–27. (In Russ.)
- Kuz’minykh S.V., 2023. B.S. Zhukov as the leader of the Moscow palaeoethnological school (based on correspondence with A.M. Thalgren). Arkheologiya evraziyskikh stepey [Archaeology of the Eurasian steppes], 3, pp. 8–66. (In Russ.)
- Kuz’minykh S.V., Belozerova I.V., 2023. Letters of B.S. Zhukov to M.V. Voyevodsky (1925–1929). Arkheologiya evraziyskikh stepey [Archaeology of the Eurasian steppes], 3, pp. 67–80. (In Russ.)
- Kuznetsov A.A., 2013. New materials for the biography of B.S. Zhukov. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta imeni N.I. Lobachevskogo [Vestnik of Lobachevsky University of Nizhny Novgorod], 5 (1), pp. 238–244. (In Russ.)
- Lindgol’m V.K., 1925. Mollyuski iz sloev torfyanika bliz sela L’yalova, Moskovskogo uezda, soderzhashchikh stoyanku neoliticheskogo cheloveka [Mollusks from peat bog layers near the village of Lyalovo, Moscow district, containing a Neolithic site]. Trudy Antropologicheskogo instituta [Proceedings of the Anthropological Institute], I. Moscow, pp. 85–90.
- Lopatina O.A., 2023. B.S. Zhukov and his research approach to the study of antiquities of the 4th–1st millennia BC in the forest zone of Eastern Europe. Arkheologiya evraziyskikh stepey [Archaeology of the Eurasian steppes], 3, pp. 96–108. (In Russ.)
- Materialy k doistorii Tsentral’no-promyshlennoy oblasti: 1-e Soveshchanie paleoetnologov Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti [Materials on the prehistory of the Central Industrial Region: 1st Meeting of palaeoethnologists of the Central Industrial Region]. Moscow, 1927. 91 p.
- Meshcheryakov D.P., 1925. Peat bog near the village of Lyalovo as a Neolithic site. Trudy Antropologicheskogo instituta [Proceedings of the Anthropological Institute], I. Moscow, pp. 79–82. (In Russ.)
- Platonova N.I., 2008. Palaeoethnological school of archaeology and F.K. Volkov. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Tomsk State University], 315, pp. 96–103. (In Russ.)
- Platonova N.I., 2010. Istoriya arkheologicheskoy mysli v Rossii. Vtoraya polovina XIX – pervaya tret’ XX veka [History of archaeological thought in Russia. Second half of the 19th century – first third of the 20th century]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya. 316 p.
- Ravdonikas V.I., 1930. Za marksistskuyu istoriyu material’noy kul’tury [For the Marxist history of material culture]. Leningrad. 94 p. (Izvestiya Gosudarstvennoy akademii istorii material’noy kul’tury, vol. 7, iss. 3–4).
- Reshetov A.M., 1999. Boris Sergeevich Zhukov as a representative of the Anuchin school. Integratsiya arkheologicheskikh i etnograficheskikh issledovaniy [Integration of archaeological and ethnographic research]. Omsk: Omskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet, pp. 63–66. (In Russ.)
- Sergievskaya A.P., 2020. My grandfather Boris Sergeevich Zhukov. Smirnov S.A. Bashkirovy. Triumf i tragediya [The Bashkirovs. Triumph and tragedy]. Nizhniy Novgorod: Otchina, pp. 346–356. (In Russ.)
- Sergievskaya A.P., 2023. A view from inside the family. Arkheologiya evraziyskikh stepey [Archaeology of the Eurasian steppes], 3, pp. 109–120. (In Russ.)
- Sorokina I.A., 2018. The first Soviet guidelines for conducting field research of archaeological sites (1927): to the history of creation. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk [Izvestia of the RAS Samara Scientific Center], vol. 20, no. 3 (2), pp. 537–543. (In Russ.)
- Tikhonov I.L., 2003. Arkheologiya v Sankt-Peterburgskom universitete. Istoriograficheskie ocherki [Archaeology at St. Petersburg University. Historiographic studies]. St. Petersburg: Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy universitet. 332 p.
- Tikhonov I.L., 2019. Archaeological education in Russian universities. Ocherki istorii otechestvennoy arkheologii [Studies on the history of Russian archaeology], V. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 361–379. (In Russ.)
- Tunkina I.V., 2000. “The Case” of Academician Zhebelev. Drevniy mir i my: Klassicheskoe nasledie v Evrope i Rossii: al‘manakh [Ancient world and us: Classical heritage in Europe and Russia: Almanac], II. St. Petersburg: Aleteyya, pp. 116–161. (Bibliotheca Classica Petropolitana). (In Russ.)
- Voevodskiy M.V., 1951. Brief characteristics of the ceramics from the fortified settlements in the Vetluga and Unzha regions. Materialy i issledovaniya po arkheologii Urala i Priural’ya [Materials and research on the archaeology of the Urals and the Cis-Urals], III. Moscow; Leningrad: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, pp. 159–180. (Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR, 22). (In Russ.)
- Voronina R.F., 2003. 100th anniversary of Anna Epifanovna Alikhova. Rossiyskaya arkheologiya [Russian archaeology], 3, pp. 166–168. (In Russ.)
- Yanishevskiy B.E., Krenke N.A., Chernov S.Z., 2020. Introduction. Arkheologicheskaya karta Rossii. Moscow [Archaeological map of Russia. Moscow], I. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 13–99. (In Russ.)
- Zbrueva A.V., 1940. The Svinogorye fortified settlement. Arkheologicheskie pamyatniki Urala i Prikam’ya [Archaeological sites of the Urals and the Kama region]. Moscow; Leningrad: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, pp. 100–110. (Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR, 1). (In Russ.)
- Zbrueva A.V., 1952. Istoriya naseleniya Prikam’ya v anan’inskuyu epokhu [History of the Kama region population in the Ananyino period]. Moscow: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR. 326 p. (Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR, 30).
- Zhukov B.S., 1922. Neolithic dune site near the town of Balakhny. Russkiy antropologicheskiy zhurnal [Russian anthropological journal], vol. XII, part 1–2, pp. 110–119. (In Russ.)
- Zhukov B.S., 1925. Neolithic site near the village of Lyalovo, Moscow district. Trudy Antropologicheskogo instituta [Proceedings of the Anthropological Institute], I. Moscow, pp. 37–78. (In Russ.)
- Zhukov B.S., 1925а. Drevneyshie stroiteli iz dereva i kamnya [The earliest builders of wood and stone]. Moscow: Znanie. 53 p.
- Zhukov B.S., 1926. Works on palaeoethnology in the USSR. 1918–1925. Etnografiya [Ethnography], 1–2, pp. 179–192. (In Russ.)
- Zhukov B.S., 1927. On the stratigraphy and culture of the Neolithic site near the village of Lyalovo, Moscow district. Russkiy antropologicheskiy zhurnal [Russian anthropological journal], vol. 16, iss. 1–2, pp. 58–75. (In Russ.)
- Zhukov B.S., 1927а. Kak lyudi rasselyalis’ po zemle [How people settled around the earth]. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel’stvo. 152 p.
- Zhukov B.S., 1927б. From the methodology of studying the cultures of sites and settlements: an author’s abstract. Materialy k doistorii Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti: 1-e soveshchanie paleoetnologov Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti [Materials on the prehistory of the Central Industrial Region: 1st Meeting of palaeoethnologists of the Central Industrial Region]. Moscow, pp. 13–18. (In Russ.)
- Zhukov B.S., 1927в. Palaeoethnological activities of the Anthropological Institute at the 1st Moscow State University. Materialy k doistorii Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti: 1-e soveshchanie paleoetnologov Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti [Materials on the prehistory of the Central Industrial Region: 1st Meeting of palaeoethnologists of the Central Industrial Region]. Moscow, pp. 67–68. (In Russ.)
- Zhukov B.S., 1928. Archaeology. Obshchestvennye nauki SSSR. 1917–1927: sbornik [Social sciences in the USSR. 1917–1927: Collected papers]. Moscow: Rabotnik prosveshcheniya, pp. 90–100. (In Russ.)
- Zhukov B.S., 1928а. An overview of the three-year work of the Anthropological complex expedition at the Central Educational Centre of the Anthropological Research Institute (1925–1927). Izvestiya Assotsiatsii nauchno-issledovatel’skikh institutov pri fiziko-matematicheskom fakul’tete 1 Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta [News of the Association of Research Institutes at the Physics and Mathematics Department of the 1st Moscow State University], vol. 1, iss. 1–2, pp. 264–286. (In Russ.)
- Zhukov B.S., 1928б. Objectives of studying national minorities of Nizhny Novgorod Region. Trudy Tret’ey gubernskoy konferentsii po izucheniyu proizvoditel’nykh sil Nizhegorodskoy gubernii [Proceedings of the Third regional conference on studying the productive forces of Nizhny Novgorod Province]. Nizhniy Novgorod: Nizhpoligraf, pp. 320–340. (In Russ.)
- Zhukov B.S., 1929. The theory of chronological and territorial modifications of some Neolithic cultures of Eastern Europe based on the study of pottery. Etnografiya [Ethnography], 1, pp. 54–77. (In Russ.)
- Zhukov B.S., 1929а. Issues of methodology for identifying cultural elements and groups: (based on materials from Volga-Finnish buried cultures). Kul’tura i byt naseleniya Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti: 2-e soveshchanie etnologov Tsentral’no-Promyshlennoy oblasti [Culture and everyday life of the population of the Central Industrial Region: 2nd Meeting of ethnologists of the Central Industrial Region]. Moscow, pp. 31–35. (In Russ.)
- Zhukov B.S., 1931. Proiskhozhdenie cheloveka [The origin of humans]. 5th edition. Moscow; Leningrad: Ogiz: Gosudarstvennoe meditsinskoe izdatel’stvo. 239 p.
- Zhukov B.S., 1931а. Pervye metallisty: Metalloobrabotka v drevnosti [The earliest metalworkers: Metalworking in ancient times]. Moscow; Leningrad: Ogiz: Moskovskiy rabochiy. 64 p.
Supplementary files