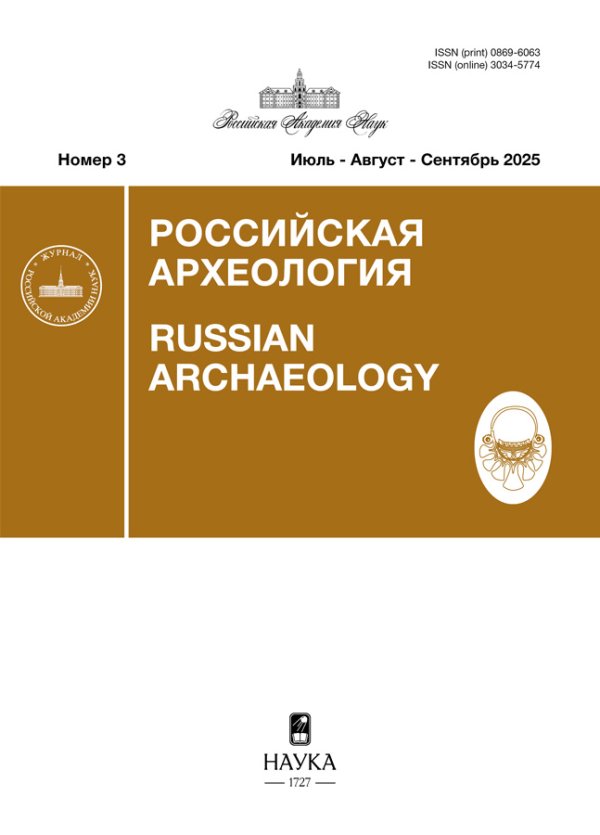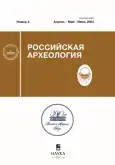Window Glass of a Medieval Church at the Village of Veseloye Near Adler
- Authors: Armarchuk E.A.1, Kuzina I.N.1
-
Affiliations:
- Institute of Archaeology RAS
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 114-130
- Section: ARTICLES
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-6063/article/view/267975
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869606324020085
- EDN: https://elibrary.ru/WOKBJU
- ID: 267975
Cite item
Full Text
Abstract
Frequent finds from the excavations of a Christian church of the late 9th–11th century AD at the village of Veseloye (Greater Sochi) include fragments of unpainted and coloured window glass made by blowing in the disks shape, mostly, of 18 cm diameter. By the design of their edges, discs are divided into two types – one with a loop-shaped edge and one with a slightly thickened straight or slightly raised edge, and by the type of surface – smooth ones and those decorated with relief “optical” decor. A review of finds of medieval window glass over a wide area shows that finds from the Veseloye church fit into this array typologically and chronologically, which can be explained by the common technology of manufacturing this highly demanded glass product. In further research, it will be necessary to find out where window glass was produced for the churches of medieval Abkhazia and the Greater Sochi region.
Keywords
Full Text
К началу раскопок 2010–2011 гг. средневековый христианский храм у с. Веселое под Адлером находился в разрушенном до основания состоянии. Исследование установило, что он относится к крестово-купольным постройкам с тремя апсидами и нартексом (рис. 1). С севера, запада и юга к его входам примыкают открытые притворы, а к юго-западному углу здания подступает капитально устроенный колодец. Стены храма с облицовкой из подтесанных плит песчаника внутри имели забутовку известковым раствором с включением мелких камней. Подпружные арки и, вероятно, арки дверных и оконных проемов, не сохранившиеся in situ, выкладывались из плинфы, судя по их фрагментам в слое разрушения. Предложенная ранее датировка строительства храма второй третью X в. (Армарчук, Мимоход, Седов, 2012. С. 89) теперь ограничена третьей четвертью IX в.; действовал он примерно до второй половины XI в. (Мимоход и др., 2015. С. 398, 399; Армарчук, 2021. С. 57). Этой датировке не противоречат археологические материалы, включая оконное стекло, о котором пойдет речь.
Слой разрушения храма включал множественные осколки оконного стекла – около 1100 фрагментов разного размера (Kuzina, 2013; Кузина, Армарчук, 2020). Планиграфия очертила локализацию осколков преимущественно снаружи у северной, западной и южной стен здания и, главным образом, вокруг и внутри притворов, что объясняется наличием оконных проемов над притворами, на осях рукавов креста планировки. У восточного фасада храма находки стекла почти отсутствовали из-за большого разрушения его апсид и стратиграфии здесь в XX в. (рис. 1).
Рис. 1. План храма у с. Веселое в границах раскопа 2010–2011 гг. с расположением находок оконного стекла. Условные обозначения: а – стены храма (с реконструкцией), б – граница раскопа, в – осколки оконного стекла, г – осколки оконного стекла в засыпке ям погребений.
Fig. 1. A plan of the church near the village of Veseloye within the 2010–2011 excavation area and the location of window glass
В археологической литературе описывается несколько способов производства оконных стекол в древности (Безбородов, 1969. С. 141–150). Круглые стекла делали так называемым лунным способом – путем выдувания шаровидной заготовки, которую затем, держа на понтии, раскручивали до получения плоского диска. При этом в центре изделия, где крепилась понтия, возникало заметное утолщение, но к краям стекло значительно утоньшалось. Из-за поступательного вращения на изделии оставались едва выпуклые концентрические окружности, а имевшиеся в стекле пузырьки воздуха приобретали вытянутую вдоль них форму. Для получения прямоугольных стекол без отпечатка понтии и концентрических утолщений применялся другой способ – цилиндр-процесс.
Рис. 2. Центральные части гладких оконных дисков (1, 2, 4) и фрагментированный гладкий пурпурный диск (3). 2, 3 – цветное стекло.
Fig. 2. Central parts of window discs (1, 2, 4) and fragmented purple disc (3), 2, 3 – coloured glass
Оконные стекла из храма в Веселом обладают признаками изготовления “лунным” способом (рис. 2–7)1 (Безбородов, 1969. С. 150). Проблема атрибуции некоторых центральных фрагментов дисков кроется в их сильной профилировке: они напоминают донца стеклянных блюд (рис. 3, 4–6). Ю.Л. Щапова (1993. С. 271, 272) уже отмечала это применительно к стеклам с городища Нижний Архыз. Однако в публикации средневекового стекла из Константинополя приведены находки оконных дисков со значительно выпуклыми центрами (Henderson, Mundell Mango, 1995. P. 336. Fig. 2). Дополнительным аргументом атрибуции подобных профилированных стекол из Веселого как оконных служат папские запреты начала и середины IX в. использовать стеклянную посуду в храмах (Щапова, 1998. С. 235), что согласуется с началом функционирования храма.
Рис. 3. Центральные части оконных дисков: гладких (1–3, 5–7) и с рельефным “оптическим” декором (4). 1–4, 7 – цветное стекло.
Fig. 3. Central parts of window discs: smooth ones (1–3, 5–7) and those with relief “optical” decor (4). 1–4, 7 – coloured glass
На нашем объекте находки оконных стекол представляют собой плоские осколки, края дисков с разным оформлением ребра жесткости и их центральные части с вариантами профилировки. Диски имеют утолщение в центре от 2.5 до 4-5, реже 8-10 мм. Толщина их краев составляет 1.0-1.5 мм. На одной стороне в центре часто виден отпечаток налепа 6-10-мм в сечении понтии (рис. 2, 1, 3, 4). Одна сторона дисков обычно гладкая блестящая (рис. 2, 2; 3, 2, 4), другая – чуть шероховатая, с тончайшими концентрическими бороздками-царапинами от вращения на плоскости при выравнивании (рис. 4, 1). В стекле многих фрагментов видны круглые или растянутые по окружности мелкие пузырьки воздуха (рис. 2, 4; 3, 2, 7; 5, 7; 6, 7, 15).
Рис. 4. Центральные части гладких оконных дисков. 1– цветное стекло.
Fig. 4. Central parts of window discs. 1 – Coloured glass
Почти половина дисков изготовлена из прозрачного неокрашенного, иногда со слабым зеленым или голубым оттенком стекла. Остальные – из прозрачного или просвечивающего стекла разной интенсивности цвета. Нами выделено восемь основных цветов стекол из храма в Веселом: пурпурный, синий, зеленый (изумрудный), зелено-желтый, бирюзовый, бежевый, голубой и менее процента – оливковый (рис. 2; 3; 5; 6; 8). У цветных изредка заметно чередование бледных и более ярких концентрических полос вследствие их вращения при изготовлении (рис. 7, 5, 7). Диаметр бесцветных дисков составляет 13-14, 16 и 18 см, цветных – 16, 17 и 18-20 см. В целом преобладают диски диаметром 18 см.
Предварительный анализ химического состава стекла2 выявил следующий набор красителей: медь и кобальт, соединения железа и марганца. Марганцем также обесцвечивали стекло, что визуально подтверждает розоватый оттенок некоторых бесцветных фрагментов. В бледно-голубых и бледно-зеленых стеклах окрашивание произошло за счет естественных примесей железа в компонентах шихты (Галибин, 2001. С. 33–35).
На данном этапе исследования можно сказать, что оконные диски из храма в Веселом по химическому составу относятся к разным классам стекла. Особенность части находок заключается в повышенном содержании оксида алюминия – от 4 до 6%. В опубликованном В.А. Галибиным каталоге анализов стекол с синхронных по времени памятников также отмечается повышенное содержание алюминия в оконных стеклах, в том числе из Лыхны (Галибин, 2001. С. 156, № 1405). Эту же особенность состава архызских стекол отметила Ю.Л. Щапова (1993. С. 275), считавшая их продукцией грузинских мастерских. Н. Шибилл выявила повышенный алюминий в натриевых стеклах из раскопок Пергама VIII–XIV вв. В сочетании с повышенным магнием и заметными концентрациями лития и бора эти стекла она считает малоазийскими по происхождению (Schibille, 2011). Более тонкий анализ оконных стекол из храма в Веселом позволит в дальнейшем точнее определить состав и сделать выводы об их происхождении.
По способу оформления краев выделено два типа дисков из храма в Веселом.
Рис. 5. Края оконных дисков первого типа. 1, 7 – цветное стекло.
Fig. 5. Edges of window discs of the first type. 1, 7 – Coloured glass
Первый тип характеризуется загнутым, аккуратно прижатым к диску по всей окружности краем, из-за чего образовалась полая петлевидная в сечении закраина шириной от 2.5 до 6.0 мм, служившая ребром жесткости (рис. 5). Такие диски преимущественно бесцветные, но встречаются и немногочисленные бледно-пурпурные, коричневые, светло-зеленые и бледно-голубые фрагменты. В целом круг их аналогий широк и в числе прочих включает оконное стекло XI в. с Нижнего Архыза (Щапова, 1993. С. 276. Рис. 2, 4–7) и XII–XIV вв. из Грузии (Чхатарашвили, 2007. С. 78. Табл. XLIV, 6, 7).
Второй тип представлен дисками со слегка утолщенным до 1.5-3.0 мм оплавленным краем (рис. 6, 4, 7, 8). Его подтипом являются диски с не утолщенным, а чуть приподнятым краем (рис. 6, 1–3, 5, 6, 12).
Рис. 6. Края оконных дисков второго типа. 2, 4, 6, 8–12, 16, 17 – цветное стекло.
Fig. 6. Edges of window discs of the second type. 2, 4, 6, 8–12, 16, 17 – Coloured glass
Стекла второго типа (зеленые, синие, голубые, пурпурные, оливковые и бесцветные) распадаются по виду поверхности на гладкие и орнаментированные мягким рельефом, который в современной литературе называют оптическим декором из-за игры света и тени на украшенном им стекле (Столярова, 2004. С. 347) (рис. 3, 4; 7, 2–4, 6). Стекла с оптическим декором составляют в коллекции из храма лишь около 1% от общего количества фрагментов дисков. Такие изделия выдували в орнаментированные формы (Щапова, 1993. С. 275; Чхатарашвили, 2007. С. 78), после чего дорабатывали до плоского диска.
Рис. 7. Фрагменты оконных дисков с рельефным декором. 1, 3, 4, 6–8 – цветное стекло.
Fig. 7. Fragments of window discs with relief decoration. 1, 3, 4, 6–8 – Coloured glass
Рельефные диски украшены так называемым сотовым орнаментом, состоящим из мелких ячеек-сот. Другие элементы – концентрические дуги с интервалом в 5 мм, смыкающиеся ромбы с выпуклой серединой, растянутые овалы, прямые радиальные лучи от центра к краям диска, образующие как бы каннелюры (рис. 7, 1, 7, 2, 4, 8). Стекла с декором в виде сот и лучей имеют аналоги в грузинском материале XII–XIV вв. (Чхатарашвили, 2007. С. 78. Табл. XLIV, 1–5). Рельефы в виде сот и овалов замечены на оконном стекле Северного храма на Нижнем Архызе (Щапова, 1993. С. 275. Рис. 3, 21–24, 26). В целом дуги, овалы и “соты” относятся к длительно употребляемым элементам декора в стеклоделии.
Рис. 8. Соотношение цвета фрагментов стеклянных оконных дисков из раскопок храма у с. Веселое.
Fig. 8. Colour correlations among fragments of glass window disks from excavations of the church near the village of Veseloye
При отсутствии целых экземпляров из Веселого композицию декора помогают представить рельефные диски из храма X в. Мсыгхуа в Абхазии (Кация, 1967. С. 66–72. Табл. XII-1, 2; Воронов, 2002. Рис. 9, 33, 34). Один узор образуют расположенные сплошь четырьмя концентрическими поясами соты-шестиугольники, размер которых увеличивается от центра к краю вместе с изменением их правильного абриса. Другая композиция состоит из вытянутых по дуге шестиугольников, которые к краю диска трансформировались в геометризованные овалы и размещены тоже на четырех концентрических окружностях, но с промежутками.
Посмотрим на находки оконного стекла на соседних территориях3. Кроме Мсыгхуа осколки синих дисков попадались в раскопках храма у с. Хуап в Абхазии наряду с фрагментами оконного стекла у пристройки снаружи. Л.А. Шервашидзе (1971. С. 203, 204) привел датировку дисков VIII–IX вв., предложенную Н.Н. Угрелидзе и М.Н. Чхатарашвили. Фрагменты стекол (оконных?) встречались в раскопках 2011 г. храма X в. в Бедиа, эти находки пока не введены в научный оборот (Бгажба, Сканиа, Агумаа, 2013. С. 339). Осколки цветного стекла в храме в Мокви заметил М. Броссе при его посещении в 1848 г. (Рчеулишвили, 1988. С. 56).
Оконное стекло часто встречается на средневековых памятниках Грузии. Это объясняется распространением там христианства и связанных с ним храмов с окнами для освещения (Чхатарашвили, 1978. С. 95). В IV–VI вв. стекла в виде прямоугольных пластинок, полученных отливкой с последующей раскаткой, были здесь преимущественно импортными. Для VIII–IX вв. характерны местные цветные стекла геометрических форм, их образцы дали раскопки Орбетской стекольной мастерской. В X–XI вв. в Грузии массово выпускались круглые стекла, судя по оконным рамам, а в XII–XIV вв. – разноцветные диски, включая рельефные (Чхатарашвили, 2007. С. 78; Воронов, 2002. Рис. 9, 33, 34; Рамишвили, 2003. С. 313. Табл. 131, 13, 14). Судя по находкам в Рустави, диаметр рельефных колеблется от 16 до 20 см, другой размер показывают алебастровые оконницы из дворца с ячейками в 25 см (Чхатарашвили, 1978. С. 95, 96. Табл. IX-4, 5, X, XI; 2007. Табл. XLV).
Цветные рельефные диски XI–XIII вв. обнаружились также в Надарбазеви, Дманиси и в других местах Грузии. По М.Н. Чхатарашвили (1978. Табл. IX; 2007. С. 78. Табл. XLIV, XIV-5), это оконное стекло не имеет аналогов и производилось только в средневековой Грузии. Наличие таких дисков в Веселом может объяснить вхождение данной территории в VIII–XI вв. сначала в состав Абхазского, затем Абхазо-Картлийского царств. М.Н. Чхатарашвили также констатировала, что в Грузии оконное стекло не было рядовым товаром и в основном требовалось для культовых, общественных, дворцовых построек и богатых домов. Благодаря развитию местного стеклоделия, на всех этапах его продукция экспортировалась в Закавказье, на Северный Кавказ и Юг России.
В средневековой Армении тоже изготавливались круглые стекла размером 18–27 см, известные по раскопкам цитадели Двина и его форпоста Тикнуни, в котором они представлены бесцветными и цветными дисками XIII–XIV вв. (Жамкочян, 2008. С. 182. Цв. табл. XLVIII-2). Из Ани происходят гипсовые и алебастровые рамы для подобных стекол (Аракелян, 2003. С. 347). На Кавказе цветные диски диаметром 14–30 см и толщиной 0.5–1.2 мм с геометрическими и растительными рельефами, выдутые в форму, присутствуют в слоях XI–XIII вв. памятников Дагестана и Азербайджана – Дербента, городищ Шамкир и Дабиль. Как и в Средней Азии, цветные стекла использовались там до XIV–XV вв., в том числе для вставок в узорчатые переплеты “шебеке” (Достиев, 2011. С. 172, 173. Табл. XXI. С. 158; XXII. С. 159).
Другие находки происходят из средневековых христианских храмов Северного Кавказа. Наиболее изучена коллекция оконного стекла с аланского городища Нижний Архыз. О попавшихся у восточной стороны Северного Зеленчукского храма фрагментах прозрачного стекла с закругленными краями В.А. Кузнецов упомянул в первой публикации о его раскопках (1964. С. 147; 1993. С. 74, 75). Диаметр дисков составлял 15–20 см. Позже коллекция пополнилась и изучалась Ю.Л. Щаповой (1993. С. 274–276. Рис. 3, 21–24, 26).
Реставрационными работами 1980-х годов установлено, что сквозь цветные оконные стекла освещался Средний Зеленчукский храм в Нижнем Архызе (Белецкий, Виноградов, 2011. С. 96, прим. 26; 2019. С. 112). Их облик был неясен до начавшихся недавно раскопок храма, где на некрополе у его апсид стали попадаться единичные осколки голубоватых и синего дисков с чуть утолщенным краем и с петлевидной закраиной4.
На осколки круглых стекол в Сентинском храме в Карачаево-Черкесии обратили внимание первые исследователи заброшенного к XIX в. памятника (см.: Белецкий, Виноградов, 2019. С. 82). Имеются сведения о давних находках цветного стекла в Шоанинском храме (Белецкий, Виноградов, 2011. С. 96, прим. 26). Все эти находки не охвачены публикациями в отличие от стеклянных сосудов, встречающихся в погребениях внутри и возле храмов, как, например, в склепе у стены храма Тхаба-Ерды в Ингушетии (Гамбашидзе, 1971. С. 212, 213).
В Северо-Восточном Причерноморье зеленовато-голубое и зеленоватое оконные стекла встретились, во-первых, в ходе раскопок храма X–XIV вв. в Лоо на побережье, с арочными оконными проемами шириной 40 см на боковых фасадах (Овчинникова, 1997. С. 11). Во-вторых, единичные находки происходят с Таманского городища. В 1955 г. С.А. Плетнева (2003. С. 172, 173) зафиксировала в раскопе над остатками христианского храма осколки голубоватого диска диаметром 22 см, толщиной 2.0-2.5 мм с загнутым на 8-10 мм краем (Макарова, 2005. С. 386; Чхаидзе, Виноградов, Ёлшин, 2017. С. 278. Ил. 27). Н.П. Сорокина (1963. С. 158, 159, 170) в обзор стеклянных изделий с городища включила две находки 1954 г. — зеленоватого и голубоватого с закраиной оконного стекла, отметив его применение “в базиликальной архитектуре” Крыма и Болгарии.
Современные раскопки подтверждают редкое обнаружение на Таманском городище оконного стекла, встречаемого в виде мелких фрагментов (Чхаидзе, 2008. С. 220. Рис. 123, 36). Это относится и к Фанагории, где найдены его плоские осколки с одним-двумя прямыми краями, оставшиеся от фигурных пластин (Чхаидзе, 2012. С. 194. Рис. 130, 38–49).
Оконное стекло часто встречается в Крыму при раскопках христианских храмов на средневековых городищах, горных склонах и террасах. Присутствие в слоях мангупской базилики плоского стекла давно зафиксировала М.А. Тиханова (1953. С. 343, 346, 348). Об осколках оконного стекла в раскопах к северу от церкви Иоанна Предтечи в Керчи упомянула Т.И. Макарова (1982. С. 98). Фрагменты дисков диаметром 12 см дали современные раскопки храма в портовом районе Судака (Гукин, Ёлшин, 2018. С. 27. Рис. 14).
Л.А. Голофаст ранее опубликовала фрагмент оконного диска диаметром 9 см с горизонтально растянутыми пузырьками из комплекса конца VI – начала VII в. Херсонеса (засыпи колодца в первом квартале Северо-восточного района). При этом отметила большой спрос на оконное стекло в VI–VII вв. во всей Юго-Западной Таврике в связи с активным строительством, включая храмовое (Голофаст, 2001. С. 166. Рис. 52, 18), для которого оно выпускалось в виде пластин (Белов, 1965. С. 237–239) и дисков.
Считается, что круглые стекла получали выдуванием с позднеантичного времени. Они были наиболее распространены в восточных провинциях Римской империи, где обнаруживаются в слоях IV–VIII вв. малоазийских городов (Бернацки, Кленина, 2016. С. 39, 40). На территории Палестины и Трансиордании они встречаются уже до середины VI в. (Keller, 2010. P. 9). В числе опубликованных херсонесских стекол из квартала 55 есть фрагменты круглых, включая бесцветный диск диаметром 16 см, и много фрагментов прямоугольных пластин, а их совокупность связывают с разрушением здешнего храма IX–X вв. (Бернацки, Кленина, 2016. С. 40. Рис. 13, 1). Другой комплекс из уличного слоя в северо-восточном квартале XCVI Херсонеса содержал плоские фрагменты оконных пластин. Они наиболее встречаемы в слоях города рубежа V/VI – X/XI вв., а в конце этого периода стали применяться для остекления жилых домов, тогда как распространение круглых стекол диаметром не более 20 см, сделанных “лунным” способом, демонстрируют городские слои XII–XIV вв. (Дорошко, 2016. С. 73, 74).
Другим заметным регионом использования оконного стекла в Средние века выступает Волжская Болгария, что продиктовано ее развитием и распространением там мусульманской монументальной архитектуры. Наиболее изучено стекло Болгара и Биляра (Полубояринова, 1988. С. 199–203; Валиулина, 1991). А.П. Смирнов (1951. С. 199; 1959. С. 39) ранее подмечал наличие в слое Болгара стекол диаметром 20 см с характерно загнутой закраиной и небольшим коническим выступом в центре, а также остатки гипсовой оконной решетки в Черной палате XIV–XV вв. на городище.
М.Д. Полубояринова выделила в Болгаре две разновидности оконных стекол (им соответствуют два типа стекол из Веселого, которые и по размерам близки болгарским). Она предположила там местное производство бесцветных, не усомнившись в импорте цветных дисков из Средней Азии независимо от того, где они изготавливались, имея в виду их доставку на европейскую территорию по Волжскому торговому пути (Полубояринова, 1988. С. 199, 200, 203).
Большинство найденных в Биляре дисков диаметром 18.0–22.5 см происходит с верхнего горизонта культурного слоя и относится к XII – первой половине XIII в. (Валиулина, 1991. С. 108; 2005. С. 55–58. Рис. 25). В раскопках крупного билярского здания обнаружились и рельефные разноцветные диски, отнесенные к самостоятельному типу и получившие аналогии только в оконном стекле Грузии XII–XIV вв. (Валиулина, 1991. С. 111. Рис. 2; 2005. С. 58, 59. Рис. 26, 6–10; 27). Они включают фрагменты с рисунком “сетка”, близким к “сотам” на стеклах из Веселого (Валиулина, 2005. Рис. 26, 6; 27, 2).
Осколки оконных дисков, в том числе с сотовым рельефом, содержат материалы XI–XII вв. с Самосдельского городища в низовьях Волги, отождествляемого с Саксином письменных источников (Валиулина, Зиливинская, 2011. С. 108, 109. Рис. 8). Наконец, находки оконного стекла давно известны на территории Древней Руси и русских городов XII–XIII вв. Один из первых их изучал М.А. Безбородов (1956. С. 220–229), опираясь на анализы проб из Киева, Переяслава-Хмельницкого и Вышгорода. По наблюдениям П.А. Раппопорта, древнерусские стекла-“окончины” чаще имели диаметр около 20 см при его колебании от 18 до 22 см и закраину как ребро жесткости. Примерно с середины XI в. они изготавливались в Киеве, видоизменившись в XIV в. (Раппопорт, 1985. С. 167. Табл. 77-1). Недавним является обнаружение остатков стеклоделательной мастерской XII – начала XIII в. на западной окраине древнерусского Смоленска с фрагментами рубиновых, голубых и зеленоватых дисков диаметром 14.5 см (Кренке и др., 2019. С. 166–168. Рис. 6, 3, 5–8).
Вне Восточной Европы оконное стекло в Средневековье устойчиво использовали и производили в Средней Азии, в частности в Северном Хорасане (Нисе и Мерве в Южной Туркмении), Хорезме, Согде (Варахше, Афрасиабе), Термезе и в других крупных областях и городах. Оно было зафиксировано в первый сезон раскопок в Нисе в виде плоских пластин, из которых вырезались фигурные вставки в оконные решетки (Давидович, 1949. С. 388. Табл. 2, рис. 11), а в Мерве – в слоях X–XIII вв., в том числе в рядовых домах ремесленников-керамистов (Бяшимова, 2011. С. 95). Исследуя эти вставки, Е.А. Давидович (1949. С. 390–392) затронула вопрос о производстве дисков на Востоке в IX–X вв. посредством выдувания.
В Хорезме немногочисленные фрагменты оконных дисков диаметром 10, 16–20 и 30–35 см с петлевидным краем найдены при раскопках городищ IX–XI вв. Садвар и Джигербент (Армарчук, 1988. С. 240. Рис. VI-7; Вишневская, 2001. С. 95). Большее их распространение присуще памятникам последующих хорезмшахского и золотоордынского периодов – Кават-кала, Шах-Сенем, Куня-Ургенч и другим (Трудновская, 1958. С. 422, 423; Федоров-Давыдов, 1958. С. 527).
На Афрасиабе наличие стеклянных дисков в слое конца IX в. в ташнау северо-западного квартала обозначило применение здесь оконного стекла с этого времени. Сперва диски делались с выпуклым центром, впоследствии – более уплощенными, но сохраняли петельчатый отгиб края либо его монолитное утолщение, нередко при раскопках встречаясь в остатках ганчевых решеток-панджара. Диски имели диаметр 18, 21 и 31 см, а на Варахше – 3–6, 12 и 18 см (Шишкина, 1986. С. 16, 23, 27–29. Рис. 5-16, 12-1, 13-1, 2). Толщина плоских частей дисков чаще была около 2 мм, реже – не более 0.9 мм. В Мавераннахре со второй половины XI в. диски дополнились разноцветными: например, на Афрасиабе – светло-красными и красно-фиолетовыми (Шишкина, 1986. С. 26, 30). Рост производства оконных дисков диктовала их востребованность в общественном и жилищном строительстве и развитие стеклоделия, а использование цветных стекол в панджара практиковалось в Самарканде до XV в. (Мирзаахмедов, 2011. С. 99, 112. Рис. 10, 18, 19).
В Отраре и Куйруктобе получали свободным выдуванием прозрачные тонкие оконные диски диаметром 12–18 см. В Юго-Западном Семиречье их делали полупрозрачными, с конусообразным выступом в центре. Исследователи южноказахстанского средневекового стеклоделия констатируют его тесную связь с Центральной (Средней) Азией и Ближним Востоком, а среди оконных стекол отмечают присутствие дисков диаметром 15 и 21 см из Талгара и диаметром 24 см из Койлыка. Диски с городища Антоновка также характеризуются конусообразным утолщением в центре и петлевидным загибом края разных профилей (Байпаков, Дощанова, 2011. С. 23, 24, 28, 30, 31).
Предложенный беглый обзор находок средневекового оконного стекла в российском и среднеазиатском регионах показывает: исследованное стекло из храма в Веселом вписывается в этот обширный массив, что объясняется общностью технологии изготовления. На этот признак изделий из стекла, вне их локальной специфики, ранее обратила внимание Г.В. Шишкина (1986. С. 31), и рассмотренный нами новый материал подтверждает его. Стекло из храма является продуктом развитого стеклоделия с налаженным выпуском этой стандартизированной категории изделий. Однако у нас пока нет данных о его местном производстве, и предстоит определить его происхождение и пути поступления в данный регион. При этом цветные рельефные диски следует отнести к продукции из соседних областей Грузии, если опираться на труды М.Н. Чхатарашвили.
Возможно, часть стекол были византийскими. Ю.Л. Щапова (1983. С. 166, 174, 182) считала, что византийское стекло конца X – начала XIII в. является наиболее изученным, а для VI–IX вв. археологически оно почти неизвестно. В это время оконное стекло помимо посуды и ламп входило в продукцию небольших мастерских внутри страны и распространялось благодаря торговле также и в X–XI вв., когда к вывозу продукции прибавился экспорт ремесла – устройство в ойкумене специализированных стеклоделательных мастерских. Однако в Северо-Восточном Причерноморье и Абхазии такие мастерские пока не обнаружены.
Обратимся к рамам-оконницам, куда вставлялись стеклянные диски и пластины. Сведения о них по закавказскому региону немногочисленны и, как правило, не сопровождаются метрическими показателями, что помогло бы установить количество, форму и размер вставляемых в рамы стекол. Рамы делались из разных материалов. Некогда Г. Церетели (1898. С. 109. Рис. 13) описал каменную, по его определению, раму узкого окна в апсиде храма второй пол. IX в. (датировка Г. Церетели. – Авт.) в Эхвеви Кутаисской губернии. Она имела семь круглых отверстий для стекол, одно над другим. Е.С. Такайшвили при осмотре древнего храма в Хопском монастыре в Грузии обратил внимание на раму окна с “кружками для просветов” на его восточном фасаде, “как будто вылепленную из глины” (Такайшвили, 1915. С. 134). Он отметил, что такую раму впервые встретил в грузинских церквях. Можно предположить, что она была алебастровой.
Упоминавшийся абхазский храм Мсыгхуа X в. имел оконные проемы шириной 21 см, в чьи рамы могли крепиться одним вертикальным рядом найденные там диски диаметром 16-17 см (Кация, 1967. С. 71). Выше говорилось и о гипсовых и алебастровых рамах в Ани. Фрагмент алебастровой рамы с ячейками для дисков диаметром 17 см обнаружился при раскопках Болгара, а ганчевая “решетка” долго сохранялась у Черной палаты (Полубояринова, 1988. С. 200; Валиулина, 1991. С. 112. Рис. 1, 1).
Гипсовые рамы зафиксированы в византийском строительстве в отделке дворцовых и храмовых сооружений и богатых домов. По Р. Оустерхауту (2005. С. 165, 166. Рис. 113, 114), известны такие рамы для стеклянных дисков-oculi средневизантийского периода из Центральной Греции. Они иногда имели узорные вырезы, а сами диски – загнутый край и утолщение к центру, что наблюдается у дисков из храма в Веселом и у грузинских. Византийские рамы были узкими и высокими, с двумя-тремя световыми рядами для стекол; к ним восходят и древнерусские деревянные оконницы XI–XII вв., которые мы не рассматриваем (Оустерхаут, 2005. С. 164, 168, 169). Фрагменты oculi диаметром 13–19 см происходят из раскопок Коринфа, где их датировка колеблется от XI – середины XII в. до начала XIV в. (Davidson, 1952. P. 144, 145. Pl. 73, 1061, 1064–1066). По мнению Ю.Л. Щаповой, круглое оконное стекло распространилось в Византии с IX–X вв. и кроме этой формы получило в IX–XI вв. цвет и рельефный декор, а также стало экспортироваться на периферию византийского мира (Щапова, 1998. С. 234, 247).
Какие-либо оконницы при раскопках храма в Веселом не встречены. Имеется единственный фрагмент гипсового изделия, который сугубо гипотетически можно приписать оконной раме. Он обнаружился в колодце у юго-западного угла храма, входящего в единый с ним комплекс. Фрагмент длиной 11.5, шириной 6.7 и толщиной 7.5 см имеет два ровных края, образующих прямой угол. Одна его сторона ровная и гладкая, остальные – с отколами. Если наше предположение верно, находку можно трактовать как угол оконницы, но в таком случае удивляет ее толщина, превышающая таковую у древнерусских деревянных рам.
Интересен вопрос о количестве окон и дисков в оконницах храма устоявшегося типа, каким является храм в Веселом. Он важен не только для определения числа стекол, необходимых для его оснащения, и будет рассмотрен позднее. Ответ на него покажет потребность в этом материале, но рождает следующий вопрос: где изготавливалось и откуда поступало оконное стекло для храмов средневековой Абхазии, включая район Большого Сочи? Будучи уязвимым материалом, оно требовало неоднократной замены при функционировании зданий и, значит, постоянного производства и торговых связей, охватывавших эту территорию в период раннего государственного образования.
Исследование выполнено в рамках госзадания Института археологии РАН по теме “Города в культурном пространстве Северной Евразии в Средневековье” (№ НИОКТР 122011200266-3).
Авторы выражают благодарность за большую помощь в работе с коллекцией Музея истории города-курорта Сочи хранителю фондов Е.Л. Курганской и гл. хранителю музейных предметов Е.Н. Грищенко.
1 Графическая прорисовка фрагментов оконных дисков выполнена А.Н. Лехницкой при участии А.В. Голиковой, за что авторы выражают им благодарность. Фотосъемка сделана Е.А. Армарчук.
2 Спектральный анализ выполнил в лаборатории археологической технологии ИИМК кандидат технических наук А.Н. Егорьков, за что, пользуясь случаем, мы выражаем ему глубокую благодарность.
3 Обзор оконных стекол в древности и Средневековье на основе археологических находок к середине 1950-х годов с большим территориальным охватом сделал М.А. Безбородов (1956. С. 7–106, 220–229).
4 Благодарим В.Н. Чхаидзе за возможность ознакомиться с неопубликованными материалами.
About the authors
Ekaterina A. Armarchuk
Institute of Archaeology RAS
Author for correspondence.
Email: katherine-arm@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
Inna N. Kuzina
Institute of Archaeology RAS
Email: kuzina.i65@mail.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Arakelyan B.N., 2003. Armenia in the 9th–13th centuries AD. Krym, Severo-Vostochnoe Prichernomor’e i Zakavkaz’e v epokhu srednevekov’ya. IV–XIII veka [Crimea, North-Eastern Black Sea region and Transcaucasia in the Middle Ages. 4th–13th centuries]. T.I. Makarova, S.A. Pletneva, eds. Moscow: Nauka, pp. 335–350. (In Russ.)
- Armarchuk E.A., 1988. An attempt at classifying glass from medieval Khorezm (based on materials from the Sadvar settlement). Material’naya kul’tura Vostoka [Material culture of the Orient], II. Moscow: Nauka, pp. 234–253. (In Russ.)
- Armarchuk E.A., 2021. Carved stone from the church of the 9th–11th centuries at the village of Veseloye. Srednevekovye iskusstva i remesla: k 90-letiyu so dnya rozhdeniya Tat’yany Ivanovny Makarovoy [Medieval arts and crafts: to the 90th anniversary of Tatiana Ivanovna Makarova]. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 34–60. (In Russ.)
- Armarchuk E.A., Mimokhod R.A., Sedov Vl.V., 2012. Christian church near Veseloye village: a preliminary publication of the results of the 2010 excavations. Rossiyskaya arkheologiya [Russian archaeology], 3, pp. 78–90. (In Russ.)
- Armarchuk E.A., Mimokhod R.A., Sedov Vl.V., 2015. Excavations of a Christian church at the village of Veseloye near Adler in 2010–2011. Arkheologicheskie otkrytiya 2010–2013 godov [Archaeological discoveries of 2010–2013]. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 318–319. (In Russ.)
- Baypakov K., Doshchanova T., 2011. Kazakhstan. Khudozhestvennaya kul’tura Tsentral’noy Azii i Azerbaydzhana IX–XV vekov [Artistic culture of Central Asia and Azerbaijan of the 9th–15th centuries AD], II. Steklo [Glass]. Samarkand; Tashkent: Mezhdunarodnyy institut tsentral’noaziatskikh issledovaniy, pp. 12–64. (In Russ.)
- Beletskiy D.V., Vinogradov A.Yu., 2011. Nizhniy Arkhyz i Senty – drevneyshie khramy Rossii. Problemy khristianskogo iskusstva Alanii i Severo-Zapadnogo Kavkaza [Nizhny Arkhyz and Senty – earliest temples in Russia. Issues of Christian art of Alania and the North-West Caucasus]. Moscow: Indrik. 392 p.
- Beletskiy D.V., Vinogradov A.Yu., 2019. Istoriya i iskusstvo khristianskoy Alanii [History and art of Christian Alania]. Moscow: Taus. 382 p.
- Belov G.D., 1965. Glassmaking in Chersonesos. Sovetskaya arkheologiya [Soviet archaeology], 3, pp. 237–239. (In Russ.)
- Bernatski A.B., Klenina E.Yu., 2016. Kvartal 55 s pyatiapsidnym khramom (IV–III v. do n.e. – XIV v. n.e.) v Khersonese Tavricheskom [Square 55 with a five-apse church (4th–3rd centuries BC – 14th century AD) in Tauric Chersonesos], III. Povsednevnaya zhizn’ [Everyday life]. Poznan’. 406 p. (Topografiya i arkhitektura Khersonesa Tavricheskogo).
- Bezborodov M.A., 1956. Steklodelie v Drevney Rusi [Glassmaking in Rus]. Minsk: Nauka i tekhnika. 306 p.
- Bezborodov M.A., 1969. Khimiya i tekhnologiya drevnikh i srednevekovykh stekol [Chemistry and technology of ancient and medieval glass]. Minsk: Nauka i tekhnika. 276 p.
- Bgazhba O.Kh., Sakania S.M., Agumaa A.S., 2013. Salvage archaeological excavations in the Bedia church in 2011. Tret’ya Abkhazskaya mezhdunarodnaya arkheologicheskaya konferentsiya. Problemy drevney i srednevekovoy arkheologii Kavkaza: posvyashchena pamyati G.K. Shamba: materialy [Third Abkhazian international archaeological conference. Issues of ancient and medieval archaeology of the Caucasus: In memory of G.K. Shamba: Proceedings]. Sukhum, pp. 336–339. (In Russ.)
- Byashimova N., 2011. Turkmenistan. Khudozhestvennaya kul’tura Tsentral’noy Azii i Azerbaydzhana IX–XV vekov [Artistic culture of Central Asia and Azerbaijan of the 9th–15th centuries AD], II. Steklo [Glass]. Samarkand; Tashkent: Mezhdunarodnyy institut tsentral’noaziatskikh issledovaniy, pp. 81–95. (In Russ.)
- Chkhaidze V.N., 2008. Tamatarkha. Rannesrednevekovyy gorod na Tamanskom poluostrove [Tamatarcha. Early medieval city on the Taman Peninsula]. Moscow: TAUS. 328 p.
- Chkhaidze V.N., 2012. Fanagoriya v VI–X vekakh [Phanagoria in the 6th–10th centuries AD]. Moscow: Triumf print. 590 p.
- Chkhaidze V.N., Vinogradov A.Yu., Elshin D.D., 2017. Medieval church on the Taman fortified settlement and its architectural context. Monumental’noe zodchestvo Drevney Rusi i Vostochnoy Evropy epokhi srednevekov’ya [Monumental architecture of Rus and Eastern Europe during the Middle Ages]. O.M. Ioannisyan, ed. St. Petersburg: Gosudarstvennyy Ermitazh, pp. 257–288. (Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha, 86). (In Russ.)
- Chkhatarashvili M.N., 1978. Window glass found in Georgia. Arkheologicheskie pamyatniki feodal’noy Gruzii [Archaeological sites of feudal Georgia], III. Tbilisi: Metsniereba, pp. 69–97. (In Georgian).
- Chkhatarashvili M.N., 2007. Glass production and usage in developed medieval Georgia (9th–14th centuries). Srednevekovye arkheologicheskie pamyatniki Gruzii [Medieval archaeological sites of Georgia], 1. O. Lordkipanidze, ed. Tbilisi: Institut arkheologii, pp. 77–78. (In Georgian).
- Davidovich E.A., 1949. Glass from Nisa. Trudy Yuzhno-Turkmenistanskoy arkheologicheskoy kompleksnoy ekspeditsii [Proceedings of the South Turkmenistan complex archaeological expedition], I. Ashkhabad: Turkmenskiy filial Akademii nauk SSSR, pp. 373–399. (In Russ.)
- Davidson G.R., 1952. The Minor Objects. Princeton, New Jersey: The American School of Classical Studies at Athens. 366 p. (Corinth. Results of Excavations, Conducted by The American School of Classical Studies at Athens, XII).
- Doroshko O.P., 2016. Window glass from excavations in the north-eastern district of Chersonesos. Vladimirskiy sbornik: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “I i II Svyato-Vladimirskie chteniya” [Vladimir collection: Proceedings of the International scientific conference “I and II St. Vladimir readings”]. V.V. Mayko, T.Yu. Yashaeva, eds. Kaliningrad: ROS-DOAFK, pp. 73–79. (In Russ.)
- Dostiev T., 2011. Azerbaijan. Khudozhestvennaya kul’tura Tsentral’noy Azii i Azerbaydzhana IX–XV vekov [Artistic culture of Central Asia and Azerbaijan of the 9th–15th centuries AD], II. Steklo [Glass]. Samarkand; Tashkent: Mezhdunarodnyy institut tsentral’noaziatskikh issledovaniy, pp. 147–175. (In Russ.)
- Fedorov-Davydov G.A., 1958. Excavations of the trade and craft quarter of the 15th–17th centuries at the Tash-kala fortified settlement in Urgench. Trudy Khorezmskoy arkheologo-etnograficheskoy ekspeditsii [Proceedings of the Khorezm archaeological and ethnographic expedition], II. Moscow: Nauka, pp. 505–528. (In Russ.)
- Galibin V.A., 2001. Sostav stekla kak arkheologicheskiy istochnik [Glass composition as an archaeological source]. St. Petersburg: Peterburgskoe Vostokovedenie. 216 p. (Trudy Instituta istorii material’noy kul’tury Rossiyskoy akademii nauk, 4) (Archaeologica Petropolitana, 11).
- Gambashidze G.G., 1971. Report on archaeological research in the Christian churches Tkhaba-Erdy and Albi-Erdy. Arkheologicheskie issledovaniya v Gruzii v 1969 g. [Archaeological research in Georgia in 1969.]. Tbilisi: Akademiya nauk Gruzinskoy SSR, pp. 210–215. (In Russ.)
- Golofast L.A., 2001. Glass of Early Byzantine Chersonesos. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials on the archaeology, history and ethnography of Taurica], VIII. A.I. Aybabin, V.N. Zin’ko, ed., comp. Simferopol’: Krymskoe otdelenie Instituta vostokovedeniya Natsional’noy akademii nauk Ukrainy, pp. 97–260. (In Russ.)
- Gukin V.D., Elshin D.D., 2018. Architectural and archaeological studies of the church complex in the port area of the Sudak fortified settlement in 2016–2017 (excavation site 10). Stat’i po arkheologii, istorii etnografii i kul’ture Severnogo Prichernomor’ya i Kryma [Articles on archaeology, history, ethnography and culture of the Northern Black Sea region and the Crimea]. V.A. Zakharov, comp. Simferopol’: N. Orianda, pp. 25–56. (Sudakskiy sbornik, 2). (In Russ.)
- Henderson J., Mundell Mango M., 1995. Glass at Medieval Constantinople. Preliminary Scientific Evidence. Constantinople and its Hinterland. C. Mango, G. Dagon, eds. Hampshire, pp. 333–356.
- Katsiya A.K., 1967. Architectural sites in the Tskuara Valley. Materialy po abkhazskoy arkheologii [Materials on Abkhazian archaeology]. M.M. Trapsh, ed. Tbilisi: Metsniereba, pp. 65–89. (In Russ.)
- Keller D., 2010. Byzantine Glass: Past, Present and Future – A Short History of Research on Byzantine Glass. Glass in Byzantium – Production, Usage, Analyses. J. Drauschke, D. Keller, eds. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, pp. 1–24.
- Krenke N.A., Ershov I.N., Platonovskiy R.B., Raeva V.A., 2019. Craftmen’s outskirts of ancient Smolensk. Rossiyskaya arkheologiya [Russian archaeology], 3, pp. 158–170. (In Russ.)
- Kuzina I., 2013. Glasramen uit een 10de-eeuwse kerk in de Noordelijke Kaukasus (Sochi, Rusland). Verloren Glans. Innovatief interdisciplinair onderzoek op archeologisch vlakglas in Noordwest-Europa (10de–18de eeuw). J. Van Acker, ed. Koksijde: Ten Duinen. Abdijmuseum Koksijde, pp. 89–94. (Novi Monasterii, 13).
- Kuzina I.N., Armarchuk E.A., 2020. Window glass from the excavations of a church in Veseloye (Greater Sochi). Steklo na putyakh Evrazii v drevnosti i Srednevekov’e: mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: tezisy dokladov [Glass on the routes of Eurasia in ancient times and the Middle Ages: International scientific conference: abstracts]. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 31–32. (In Russ.)
- Kuznetsov V.A., 1964. Northern Zelenchuk church of the 10th century. Sovetskaya arkheologiya [Soviet archaeology], 4, pp. 136–150. (In Russ.)
- Kuznetsov V.A., 1993. Nizhniy Arkhyz v X–XII vekakh. Feodal’nyy gorod Alanii [Nizhny Arkhyz in the 10th–12th centuries AD. Feudal town of Alanya]. Stavropol’: Kavkazskaya biblioteka. 464 p.
- Makarova T.I., 1982. Archaeological dating of the John the Precursor Church in Kerch. Sovetskaya arkheologiya [Soviet archaeology], 4, pp. 91–106. (In Russ.)
- Makarova T.I., 2005. The church of the Holy Mother of God in Tmutarakan. Materialy po arkheologi, istorii i etnografii Tavrii [Materials on archaeology, history and ethnography of Taurica], XI. A.I. Aybabin, V.N. Zin’ko, eds. Simferopol’, pp. 377–405. (In Russ.)
- Mimokhod R.A., Kleshchenko A.A., Armarchuk E.A., Skakov A.Yu., 2015.Activities of the Sochi expedition of the IA RAS in the construction zone of Olympic facilities. Arkheologicheskie otkrytiya 2010–2013 godov [Archaeological discoveries of 2010–2013]. N.V. Lopatin, ed. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 397–399. (In Russ.)
- Mirzaakhmedov D., 2011. Uzbekistan. Khudozhestvennaya kul’tura Tsentral’noy Azii i Azerbaydzhana IX–XV vekov [Artistic culture of Central Asia and Azerbaijan of the 9th–15th centuries AD], II. Steklo [Glass]. Samarkand; Tashkent: Mezhdunarodnyy institut tsentral’noaziatskikh issledovaniy, pp. 96–160. (In Russ.)
- Ousterkhaut R., 2005. Vizantiyskie stroiteli [Byzantine builders]. Kiev; Moscow: Korvin press. 332 p.
- Ovchinnikova B.B., 1997. Results of field activities of the Loos archaeological expedition at A.M. Gorky Ural State University (1987–1997). Arkheologiya, arkhitektura i etnograficheskie protsessy Severo-Zapadnogo Kavkaza [Archaeology, architecture and ethnographic processes of the North-West Caucasus]. Ekaterinburg, pp. 7–33. (In Russ.)
- Pletneva S.A., 2003. Tamatarcha-Tmutarakan. Krym, Severo-Vostochnoe Prichernomor’e i Zakavkaz’e v epokhu srednevekov’ya. IV–XIII veka [Crimea, North-Eastern Black Sea region and Transcaucasia in the Middle Ages. 4th–13th centuries AD]. T.I. Makarova, S.A. Pletneva, eds. Moscow: Nauka, pp. 171–179. (In Russ.)
- Poluboyarinova M.D., 1988. Glass products of the Bolgar fortified settlement. Gorod Bolgar. Ocherki remeslennoy deyatel’nosti [The town of Bolgar. Studies in craft activities]. Moscow: Nauka, pp. 151–219. (In Russ.)
- Ramishvili R.M., 2003. Georgia during the advanced Middle Ages. Krym, Severo-Vostochnoe Prichernomor’e i Zakavkaz’e v epokhu srednevekov’ya. IV–XIII veka [Crimea, North-Eastern Black Sea region and Transcaucasia in the Middle Ages. 4th–13th centuries AD]. T.I. Makarova, S.A. Pletneva, eds. Moscow: Nauka, pp. 297–320. (In Russ.)
- Rappoport P.A., 1985. Architecture. Drevnyaya Rus’. Gorod, zamok, selo [Rus. Town, fortress, village]. B.A. Kolchin, ed. Moscow: Nauka, pp. 154–167. (Arkheologiya SSSR). (In Russ.)
- Rcheulishvili L.D., 1988. Kupol’naya arkhitektura VIII–X vekov v Abkhazii [Dome architecture of the 8th–10th centuries AD in Abkhazia]. Tbilisi: Metsniereba. 92 p.
- Schibille N., 2011. Late Byzantine Mineral Soda High Alumina Glasses from Asia Minor: A New Primary Glass Production Group. PLoS ONE, vol. 6, iss. 4, pp. 1–13.
- Shchapova Yu.L., 1983. Ocherki istorii drevnego steklodeliya (po materialam doliny Nila, Blizhnego Vostoka i Evropy) [Studies in the history of ancient glassmaking (based on materials from the Nile Valley, the Middle East and Europe)]. Moscow: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet. 200 p.
- Shchapova Yu.L., 1993. Appendix 1. Glass objects from the Nizhny Arkhyz fortified settlement (results of analysis and commentary). Kuznetsov V.A. Nizhniy Arkhyz v X–XII vekakh. Feodal’nyy gorod Alanii [Nizhny Arkhyz in the 10th–12th centuries AD. Feudal town of Alanya]. Stavropol’: Kavkazskaya biblioteka, pp. 263–278. (In Russ.)
- Shchapova Yu.L., 1998. Vizantiyskoe steklo. Ocherki istorii [Byzantine glass. Studies in its history]. Moscow: Editorial URSS. 288 p.
- Shervashidze L.A., 1971. Unknown sites of the Abkhazian kingdom in the village of Khuap, Gudauta district, Abkhazian ASSR. Arkheologicheskie issledovaniya v Gruzii v 1969 g. [Archaeological research in Georgia in 1969]. Tbilisi, pp. 202–204. (In Russ.)
- Shishkina G.V., 1986. Remeslennaya produktsiya srednevekovogo Sogda [Artisans’ products of medieval Sogd]. Tashkent: Fan. 145 p.
- Smirnov A.P., 1951. Volzhskie bulgary [Volga Bulgars]. Moscow: Gosudarstvennyy istoricheskiy muzey. 277 p.
- Smirnov A.P., 1959. Raskopki gorodishcha “Velikie Bolgary” v 1957 godu [Excavations of the Great Bolgary fortified settlement in 1957]. Kazan’. 42 p.
- Sorokina N.P., 1963. The glass of late antiquity and the early Middle Ages from the Taman fortified settlement. Keramika i steklo drevney Tmutarakani [Pottery and glass of ancient Tmutarakan]. Moscow: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, pp. 134–163. (In Russ.)
- Stolyarova E.K., 2004. Glass vessels of the 12th–14th centuries AD from Moscow. Arkheologiya Podmoskov’ya [Archaeology of Moscow region]. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 343–349. (In Russ.)
- Takayshvili E., 1915. Arkheologicheskie ekskursii, razyskaniya i zametki [Archaeological tours, research and notes]. Tiflis: Tipografiya naslednikov K.P. Kozlovskogo. 147 p. (Izvestiya Kavkazskogo otdeleniya Imperatorskogo Moskovskogo Arkheologicheskogo obshchestva, IV).
- Tikhanova M.A., 1953. Basilica. Materialy po arkheologii Yugo-Zapadnogo Kryma (Khersones, Mangup) [Materials on the archaeology of the South-Western Crimea (Chersonesos, Mangup)]. Moscow; Leningrad: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, pp. 334–389. (Materialy i issledovaniya po areologii SSSR, 34). (In Russ.)
- Trudnovskaya S.A., 1958. Glass from the Shah-Senem fortified settlement. Trudy Khorezmskoy arkheologo-etnograficheskoy ekspeditsii [Proceedings of the Khorezm archaeological and ethnographic expedition], II. Moscow: Nauka, pp. 421–430. (In Russ.)
- Tsereteli G., 1898. Archaeological tour along the Kvirila Gorge. Materialy po arkheologii Kavkaza [Materials on the archaeology of the Caucasus], VII. Moscow: Tovarishchestvo tipografii A.I. Mamontova, pp. 81–114. (In Russ.)
- Valiulina S.I., 1991. Window glass of the Bilyar fortified settlement. Bilyar – stolitsa domongol’skoy Bulgarii [Bilyar – the capital of pre-Mongol Bulgaria]. Kazan’: Institut yazyka, literatury i istorii imeni G. Ibragimova Kazanskogo nauchnogo tsentra Akademii nauk SSSR, pp. 108–117. (In Russ.)
- Valiulina S.I., 2005. Steklo Volzhskoy Bulgarii (po materialam Bilyarskogo gorodishcha) [Glass of Volga Bulgaria (based on materials from the Bilyar fortified settlement)]. Kazan’: Kazanskiy gosudarstvennyy universitet imeni V.I. Ul’yanova-Lenina. 280 p.
- Valiulina S.I., Zilivinskaya E.D., 2011. Glass objects from excavation site I of the Samosdelka fortified settlement. Samosdel’skoe gorodishche: voprosy izucheniya i interpretatsii [The Samosdelka fortified settlement: issues of studying and interpretation]. D.V. Vasil’ev, ed. Astrakhan’: Sorokin Roman Vasil’evich, pp. 100–112. (In Russ.)
- Vishnevskaya N.Yu., 2001. Remeslennye izdeliya Dzhigerbenta (IV v. do n.e. – nachalo XIII v. n.e.) [Artisans’ products of Jigerbent (4th century BC – early 13th century AD)]. Moscow: Vostochnaya literatura. 175 p.
- Voronov Yu.N., 2002. Archaeological antiquities and sites of Abkhazia (5th–15th centuries AD). Problemy istorii, filologii, kul’tury [Journal of historical, philological and cultural studies], XII, pp. 334–362. (In Russ.)
- Zhamkochyan A., 2008. Tiknuni. Dvin [Dvin], IV. Gorod Dvin i ego raskopki (1981–1985 gg.) [The town of Dvin and its excavations (1981–1985)]. Erevan: Gitutyun, pp. 182–183. (In Russ.)
Supplementary files