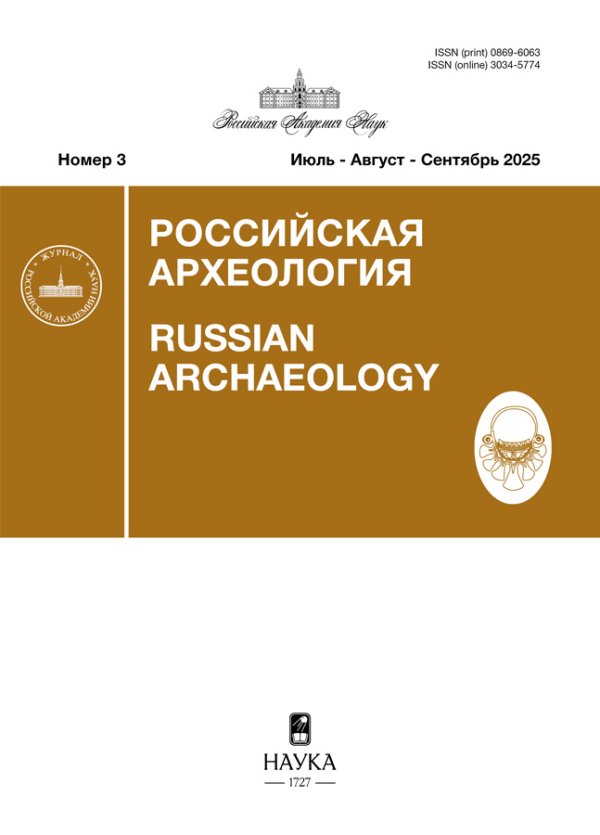Алакульский текстиль по результатам анализа изотопов стронция: к вопросу об импортном шерстяном волокне в костюме бронзового века
- Авторы: Анкушева П.С.1, Блинов И.А.1, Киселева Д.В.2, Куприянова Е.В.3, Новиков И.К.4, Чечушков И.В.4, Епимахов А.В.5
-
Учреждения:
- Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии УрО РАН
- Инстиут геологии и геохимии УрО РАН
- Челябинский государственный университет
- Курганский государственный университет
- Южно-Уральский государственный университет
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 72-88
- Раздел: СТАТЬИ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-6063/article/view/276081
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869606324030055
- EDN: https://elibrary.ru/XAGQXZ
- ID: 276081
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена определению возможных регионов происхождения шерстяного волокна в алакульском текстиле бронзового века Южного Зауралья (первая пол. II тыс. до н.э.). В качестве основного метода выступает анализ отношений изотопов ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr. Было выполнено сравнение значений в 12 текстильных образцах из могильников Степное VII, Алакульский, Агаповка II c таковыми на фоновых интерполированных картах биодоступного стронция и в других археобиологических материалах этих микрорайонов. Установлено, что 5 из 12 исследованных образцов текстиля имеют изотопный сигнал, отличный от локальных интервалов окрестностей некрополей в радиусе 10–15 км. Это указывает на существование обменных процессов, которые могли быть связаны как с импортом животных с пригодным для прядения руном, так и с перемещениями текстильных изделий и самих владельцев костюма.
Ключевые слова
Полный текст
Реконструкция обменных связей в сфере текстильного производства является сложной задачей в археологии бронзового века, что во многом связано с органической природой волокон (Gleba, 2014). В отличие от других регионов Центральной Евразии, Южное Зауралье располагает массовыми источниками, позволяющими составить представление о технологиях этой отрасли хозяйства в позднем бронзовом веке – отпечатками ткани внутри керамических сосудов (Медведева, Алаева, 2017). Кроме того, известны немногочисленные органические текстильные образцы, большинство из которых происходят из алакульских погребений и изготовлены из шерсти (Орфинская, Голиков, 2010; Анкушева и др., 2020; Shishlina et al., 2020). Консенсус в вопросе существования ткачества породил задачу диагностирования способов организации производства и распространения продукции. В пользу возможности изготовления текстиля на каждом из алакульских поселений говорит, прежде всего, скотоводческая специализация хозяйства с высоким удельным весом овец в стаде (Косинцев и др., 2016. С. 102). В культурном слое также распространены орудия, ассоциированные с прядением и ткачеством: чесала, трепала, проколки, гребни, кочедыки, “пряслица” (Коробкова, Виноградов, 2004. С. 82; Усманова, 2010. С. 102). Основа для растительных красителей – растения семейства мареновых – доступны в зоне алакульских памятников (Орфинская, Голиков, 2010; Анкушева и др., 2020). Таким образом, теоретически все необходимое для производства и декора шерстяного текстиля было доступно на локальном уровне.
С другой стороны, нельзя не отметить уязвимость каждого из аргументов по отдельности. Мы располагаем скудными данными о породах разводимых здесь овец и, соответственно, пригодности их шерсти для массового текстильного производства. Считается, что шерсть так называемых примитивных овец была слишком толстой и грубой, что объясняет хронологический разрыв в несколько тысяч лет между первыми свидетельствами одомашнивания овец на Ближнем Востоке и переходом к их разведению для получения текстильного волокна (Sherratt, 1983; Ryder, 1987; Chessa et al., 2009 и др.). Функционал большинства орудий не имеет однозначной трактовки возможного их использования (Куприянова, 2017б; Сериков, 2008. С. 11–12 и след.). Ареал распространения растений из семейства мареновых (Rubiaceae) и подмаренников рода Galium (предполагаемых красителей) чрезвычайно широк. Обнаружение их компонентов в волокне не может быть надежным индикатором местного/импортного производства текстиля; к тому же исследованные на предмет красителей образцы исчисляются единицами (Орфинская, Голиков, 2010, С. 114–117; Анкушева и др., 2020). Наконец, ряд недавних работ по отдельным изделиям добавил аргументов в пользу самого факта наличия дальнедистанционных обменных связей в текстильной среде. Речь идет о находке хлопковой ткани в синташтинском погребении на укрепленном поселении Каменный Амбар (Шишлина и др., 2022), а также о несовпадении значений отношений ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в шерстяной ткани из федоровского могильника Черняки II c таковыми в фоновых образцах (Шишлина и др., 2018).
Рис. 1. Карта расположения алакульских памятников с фрагментами текстиля (А) и геологические схемы их окрестностей (Б – могильник Степное VII, В – Алакульский могильник; Г – могильник Агаповка II). Условные обозначения: а – метаморфические толщи (V); б – вулканогенно-осадочные толщи (O); в – ультрабазитовые массивы (O-D); г – вулканогенно-осадочные толщи (D) д – вулканогенные и карбонатные толщи (C); е – массивы гранитоидов (C-P); ж – осадочные породы: песчаники, конгломераты, алевриты, опоки, глины, пески; з – линии разломов, и – археологические памятники; к – современные города.
Fig. 1. Map of the Alakul sites with fragments of textiles (А) and geological diagrams of their surroundings (Б – the Stepnoye VII burial ground, В – the Alakul burial ground, Г – the Agapovka II burial ground)
Одним из актуальных методов диагностики перемещений людей, вещей и животных в древности является изотопный анализ стронция. Стронций накапливается в тканях живых организмов, попадая туда с водой и продуктами питания. Его исходные значения коррелируют с геологической структурой региона, отражая возможные регионы происхождения и прижизненных миграций археологических особей и индивидов. Методика распространилась в мировой археологической практике с конца прошлого столетия (Ericson, 1985и др.), и археологический текстиль, наряду с костью и эмалью, занял прочное место в источниковом ряду исследуемых объектов (Frei et al., 2009; Kiseleva et al., 2021; Wozniak, Belka, 2022). Определение происхождения текстильных изделий при помощи мультидисциплинарного подхода, включающего изотопию стронция, успешно апробировано на органических материалах покровской, срубной, андроновской, карасукской культур бронзового века Центральной Евразии (Шишлина и др., 2020; Kiseleva et al., 2021; Shishlina et al., 2022). С созданием фоновых карт биодоступного стронция для территории Южного Зауралья (Епимахов и др., 2023) появилась возможность углубить наше понимание обменных связей в индустрии костюма и в этом регионе. Целью данной работы является определение возможного ареала происхождения шерстяного волокна для изготовления алакульского текстиля. Задачи работы включают: измерение изотопного состава стронция в текстильных образцах; статистическое сравнение полученных значений с фоновыми интерполированными картами биодоступного стронция, а также с отношениями ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в эмали людей и домашних копытных из материалов соответствующих могильников; выделение образцов с сигналом, отличным от локального; поиск возможных регионов их происхождения и выдвижение гипотез о механизмах их перемещений.
Происхождение и характеристики текстильных образцов. В выборку вошли 12 экземпляров из трех погребальных памятников алакульской культуры Южного Зауралья (могильники Алакульский, Степное VII, Агаповка II) (рис. 1; Приложение, I)1. Первичные текстильные изделия имеют различную атрибуцию: ткани полотняного переплетения и нити от них (n=5), шнуры и нити из пастовых или бронзовых бусин (n=4), тесьма (n=2); еще в одном случае определить принадлежность изделия к ткани или тесьме затруднительно ввиду маленького размера экземпляра. Все они являлись составляющими костюма погребенных (Анкушева и др., 2020; Приложение, II).
Могильник Степное VII (n=6). Памятник расположен в Пластовском районе Челябинской области. Многочисленные фрагменты костюма были обнаружены в алакульском погребении 1 комплекса 8. Могильная яма содержала останки двух погребенных, лежавших лицом к лицу. Кости, дающие возможность определить пол погребенных, отсутствовали, но наличие многочисленных украшений говорит о том, что, возможно, оба индивида были девушками. Возраст северного костяка определен как 6–13 лет (Куприянова, 2017а. С. 93). Над его черепом располагалась челюстно-лицевая подвеска с тесьмой, окруженная с двух сторон плотным слоем ткани – предположительно, сумочки, в которую она была упакована (Kupriyanova, 2022. Fig. 7, 1, 3–5; 18). В выборку вошли шесть образцов нитей от разных составляющих текстильного конгломерата (рис. 2–3).
Рис. 2. Образцы текстиля из материалов могильника Степное VII (кург. 8, погр. 1): 1 – нить из ткани (шифр 6(5)); 2 – ткань (шифр 9); 3 – шнур из бронзовых бусин (шифр 10); 4 – тесьма (шифр 11); 5 – ткань (шифр 12); 6 – нити из тесьмы (шифр 13).
Fig. 2. Samples of textiles from the Stepnoye VII burial ground materials (mound 8, burial 1)
Рис. 3. Микрофотографии шерстяного волокна образцов из могильника Степное VII: 1, 2 – образец 6(5); 3, 4 – образец 9; 5, 6 – образец 10; 7, 8 – образец 11; 9, 10 – образец 12; 11, 12 – образец 13.
Fig. 3. Microphotographs of wool fiber samples from the Stepnoye VII burial ground
Могильник Алакульский (n=5). Памятник расположен на северном берегу одноименного озера в Щучанском районе Курганской области. Образцы текстиля (рис. 4–5) происходят из погребений двух курганов.
Курган 27, погребение 7. В северной части ограбленного погребения, под накатником сохранились костяки in situ. Погребенный (предположительно женского пола 12–14 лет) был уложен на левом боку, в скорченном положении. Кисти рук располагались в районе лица, на костяке зафиксированы многочисленные бронзовые украшения, которые позволили сохраниться фрагменту тканой материи на костях предплечья правой руки скелета (Шилов, Богатенкова, 2008. С. 224–226). В выборку вошли шерстяные нити от трех разных первичных текстильных изделий (рис. 4, 1–3; 5, 1–8).
Рис. 4. Образцы текстиля из материалов Алакульского могильника (1–3 – кург. 27, погр. 7; 4, 5 – кург. 23, погр.6): 1 – нить из ткани или тесьмы (шифр 1(8.1)); 2 - ткань (шифр 3(10)); 3 – шнур из бронзовых бусин (шифр 2(12)); 4 – нить из пастовых бусин (шифр 4(14)); 5 – шнур из бронзовых бусин (шифр 5(13)).
Fig. 4. Samples of textiles from the Alakul burial ground materials (1–3 – mound 27, burial 7; 4, 5 – mound 23, burial 6)
Рис. 5. Микрофотографии шерстяного волокна образцов из Алакульского могильника: 1, 2 – образец 1(8.1); 3–5 – образец 2(12); 6–8 – образец 3(10); 9, 10 – образец 4(14); 11, 12 – образец 5(13).
Fig. 5. Microphotographs of wool fiber samples from the Alakul burial ground
Курган 23, погребение 6. Могильная яма содержала скелеты плохой сохранности двух погребенных детей, возраст одного из них, предположительно, около полугода. Здесь найдены различные фрагменты текстильных изделий, сохранившиеся преимущественно на костях рук и ног, погребенных в контакте с бронзовыми предметами (Шилов, 2002). В нашу выборку вошли нити от двух шнуров из бронзовых и пастовых бус (рис. 4, 4-5; 5, 9-12).
Могильник Агаповка II (n=1). Памятник расположен в одноименном районе Челябинской области. Образец текстиля происходит из парного погребения 6 кургана 4. В районе черепа погребенного был найден набор из семи бронзовых ромбовидных блях. В угловом отверстии одной из них сохранились нити из кожи, соединенные с нитями красного цвета – остатками текстильной материи головного убора (Сальников, 1967. С. 269. Рис. 39). В выборку для данного исследования вошла одна из этих нитей (Шифр 7 (2)) (рис. 6, 1–3).
Рис. 6. Текстиль из могильника Агаповка II: 1, 2 – локализация нитей на бронзовой бляхе; 3 – макрофотография фрагмента нити (шифр 7(2)); 4 – отношения изотопов стронция в текстиле и фоновых образцах микрорайона Агаповка. Условные обозначения: а – промытый текстиль, б – смыв, в – фон, радиус 5–7 км (n=9), г – фон, радиус 10–15 км (n=25).
Fig. 6. Textiles from the Agapovka II burial ground
Хронология выборки. Хронологическая позиция комплексов определяется их принадлежностью к алакульской культурной традиции, которая бытовала в Южном Зауралье в рамках XIX–XVI вв. до н.э., судя по итогам моделирования границ серии из 33 AMS-дат (Епимахов, 2023; Schreiber et al., 2023). Некоторые уточнения вносит расположение могильников Алакульский и Степное VII в лесостепной зоне, для которой интервал алакульских древностей ограничен XVIII–XVI вв. до н.э. Прямое датирование комплексов с остатками текстиля в нашей выборке выполнено для могильников Степное VII (комплекс 8, погр. 1) и Алакульский (кург. 27, погр. 7) (Епимахов и др., 2021. С. 16; Shishlina et al., 2020. С. 675) (рис. 7; Приложение, III). Калибровка и статистические процедуры выполнены с помощью программы OxCal 4.4.4 (Bronk Ramsey, 2009) c использованием атмосферной кривой IntCal20 для Северного полушария (Reimer et al., 2020).
Для древностей Cтепного VII есть инструменты дополнительной верификации, так как две даты выполнены по текстилю (GrM-14460, 3479±19; IGANAMS-5648, 3440±25) и одна по коллагену из костей человека (IGANAMS-5647, 3380±25). Кроме того, предполагается, что алакульское погребение 1 было совершено позднее петровского погребения 2 (Куприянова, 2017а. С. 101), которое тоже имеет датировку (MAMS-32154, 3473±25). Результаты анализа текстиля в рамках процедуры R_Combine успешно проходят X²-тест и формируют дату 3465±16, калиброванный интервал которой 1879–1696 гг. до н.э. (95.4%) (рис. 7).
Рис. 7. Результаты радиоуглеродного датирования комплексов с текстильными фрагментами из могильников Степное VII и Алакульский.
Fig. 7. Results of radiocarbon dating of complexes with textile fragments from the Stepnoye VII and Alakul burial grounds
Очевидно, что дата по костям человека моложе дат по текстилю, которые близки единственной дате более раннего петровского погребения. Объяснение суммы фактов, вероятно, в длительности бытования продатированного изделия, хотя не исключаем некоторый “вклад” контаминации, возникшей в процессе эксплуатации или археологизации. В пользу более раннего происхождения лицевой подвески говорит также тот факт, что почти идентичное украшение было ранее найдено в петровском погребении 17 того же могильника, для которого получено несколько ранних дат (AA90948, 3584±55; AA90949, 3540±52; MAMS-32156, 3472±24, 2σ 1881–1699) (Епимахов и др., 2021. С. 20, 23). Эта картина не противоречит заключению о хронологической близости петровской серии и ранней части алакульских дат (Краузе и др., 2019 и др.). Дата из Алакульского могильника (GrM-14811, 3485±20) после калибровки дает сходный интервал (1882–1748 гг. до н.э., 95.4%). Таким образом, имеющиеся даты по текстилю в целом соответствуют хронологическому интервалу алакульской культуры, нижняя граница которой частично обусловлена именно результатами датирования текстильных объектов с предполагаемой длительной историей бытования, включая возможность петровской атрибуции изделия, передаваемого по наследству.
Фоновые данные биодоступного стронция. Интерполированные карты значений биодоступного стронция для степного Зауралья охватывают территорию около 46 тыс. км² (Chechushkov et al., 2022) и затрагивают четыре крупные структурно-формационные зоны Урала: Центрально-Уральскую, Тагило-Магнитогорскую, Восточно-Уральскую и Зауральскую (Пучков, 2000). Они обнаруживают тенденцию приуроченности зон повышенных значений ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr к древним толщам (среднее – 0.7106), а пониженных (0.7091±0.002) – к более молодым. Критерий n ≤0.001 предлагается использовать для определения локальной вариативности, где n – максимально допустимая разница в значениях образцов из одного ареала. Кроме того, измеренные значения соотношений изотопов стронция в фоновых образцах лежат в пределе 0.7061–0.7159 (n=357). Соответственно, получение значений вне этого интервала однозначно указывает на вне-Уральское происхождение образца (Епимахов и др., 2023).
Пробоподготовка и методика измерений. Шерстяная природа волокна определена на растровом электронном микроскопе Tescan Vega 3 с энерго-дисперсионным спектрометром Oxford Instruments x-act. Для стекания статического заряда использовалось золотое напыление. Критерием выступали морфологические особенности волокон (наличие чешуйчатого и сердцевинного слоев в переходных, остевых и мертвых волокнах, круглый поперечный срез и диаметр 14–25 мкм в пуховых (Бузов, Алыменкова, 2004. С. 29–32).
Подготовку и измерение отношений ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в 12 текстильных образцах проводили в Институте геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург (Kiseleva et al., 2021). Очистка образцов текстиля от внешних загрязнений и силикатных минералов проведена согласно процедуре, описанной в публикации (Frei et al., 2009). Оставшиеся после очистки растворы откачивали автодозатором, собирая объединенные промывные воды, и анализировали как отдельные пробы (n=12). Измерения изотопного состава стронция проводили на мультиколлекторном магнито-секторном масс-спектрометре с двойной фокусировкой Neptune Plus и термоионизационном Triton Plus (Thermo Fischer). Для оценки правильности и долговременной воспроизводимости измерительной процедуры использовали стандарт изотопного состава стронция NIST SRM 987: ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr = 0.710266±0.000008 (1SD, n=23).
Значения выборки из 12 промытых образцов шерстяного волокна лежат в относительно широком для данного региона диапазоне 0.70898 – 0.71052 (Приложение, IV). Согласно критерию n ≤0,001, разница значений выборки превышает максимально допустимую для образцов из одной локации. Следовательно, ареал выпаса животных, чья шерсть была использована для создания изделий, связан с несколькими различными регионами. Другими словами, нет оснований предполагать существование единого центра производства текстиля, который осуществлял централизованную поставку сырья/изделий населению данных микрорайонов.
Комплекс у с. Степное. Проанализировано шесть изделий из могильной ямы 1 комплекса 8 могильника Степное VII, связанных с костюмом одного из погребенных. Значения в промытом текстиле варьируют в пределах 0.70898–0.71052 и включают как минимальные, так и максимальные отношения изотопов стронция всей текстильной выборки (рис. 8, А). Чтобы ответить на вопрос, выпасались ли шерстяные овцы в окрестностях комплекса, мы рассмотрим следующие сравнительные данные (рис. 8, Б; Приложение, V: рис. 4, табл. 4):
- – интерполированные фоновые значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в квадрате с длиной стороны 10 км (n=9), условным центром которого является могильник Степное VII. Таким образом, мы проверяем гипотезу о выпасе скота в радиусе 5–7 км от памятника;
- – интерполированные фоновые значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в квадрате с длиной стороны 20 км (n=25), условным центром которого является могильник Степное VII. Здесь речь идет о радиусе выпаса скота 10–15 км от памятника;
- – значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в эмали домашних копытных из материалов укрепленного поселения Степное (n=21), включающего синташтинские материалы;
- – значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в эмали домашних копытных из могильника синташтинской культуры Степное-1 (n=5);
- – значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в эмали зубов мелкого рогатого скота (предположительного источника шерсти для текстиля) из материалов укрепленного поселения Степное и могильника Степное-1 (n=14).
- – значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в смывах образцов текстиля (n=6).
Локальные интерполированные значения биодоступного стронция в радиусе 5–7 км от памятника варьируют в интервале 0.70914–0.70958. При расширении локального радиуса до 10–15 км этот коридор увеличивается до 0.70893–0.70966, что связано с включением зон более низких значений в окрестностях современного поселка Бирюковский и более высоких на гранитном массиве Санарского бора. Стоит обратить внимание на совпадение значений этого радиуса с таковым в эмали домашних копытных из культурного слоя укрепленного поселения Степное. Данное наблюдение является дополнительным аргументом в пользу тезиса об оседлом характере скотоводства у коллективов позднего бронзового века Южного Зауралья, подкрепленного ранее серией палеоботанических, палео- и этнозоологических изысканий (Stobbe, 2016; Rassadnikov, 2022; Шарапов, Плаксина, 2023 и др.). Выборка значений по эмали только МРС лежит в пределах общего фонового и археологического интервалов значений.
Тем не менее, интервал отношений стронция в образцах археологического текстиля из погребения могильника Степное VII значительно шире, чем все представленные на графике фоновые и археологические выборки (рис. 8, Б). Если рассматривать индивидуальные значения, то в трех (шифры № 9, 10 и 13) из шести исследованных проб они выходят за верхние пределы фонового интервала (рис. 8, А). Речь идет об изделиях различной атрибуции: фрагменте несбалансированной ткани полотняного переплетения (0.71003), тесьме, на которой держалась бронзовая обойма (0.71014) и шнуре из бронзовых бусин (0.71052); т.е. зависимости между типом текстильного образца и повышенными значениями ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr нет. По всей видимости, сырьем для них выступала шерсть овец, выпасаемых за пределами микрорайона Степное.
Значения в смывах с текстильных образцов в большинстве случаев совпадают с таковыми в самих промытых образцах – разница не превышает 0.0002 (рис. 8, А). Исключение составляет только образец № 12, где отношение изотопов стронция в смыве (0.70976) превышало значения в промытом текстиле (0.70898) на 0.0008. Состав смывов отражает изотопный сигнал загрязнений изделий, полученных в процессе использования или археологизации, который, судя этим по результатам, в большинстве случаев совпадает с регионом происхождения волокна.
Алакульский могильник. В выборку вошло пять изделий из двух погребений различных курганов. Диапазон значений составляет 0.7095–0.71019 (рис. 8 В). Согласно критерию n ≤0,001, разница значений выборки не превышает максимально допустимую для образцов из одной локации и не исключает выпас всех животных в пределах одного региона. Тем не менее, на графике можно отметить две группы значений. Более низкие (0.70962–0.70964) связаны с образцами № 1–3, происходящими из кург. 27, а более высокие (0.70983–0.71019) – с образцами из кург. 23.
Для решения вопроса о происхождении текстильных образцов мы располагаем следующими сравнительными данными (рис. 8, Г):
- – ввиду отсутствия на сегодняшний день карты интерполированных значений биодоступного стронция для Алакульского микрорайона мы используем значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr, полученные в ходе непосредственных измерений локальных фоновых образцов, собранных в окрестностях памятника (вода, почва, раковины моллюсков (в том числе по: Шишлина и др., 2018, n=4);
- – значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в эмали зубов домашних копытных из кург. 14, 18, 27, 55 Алакульского могильника (n=10) выступают в качестве условных маркеров фоновых показателей биодоступного стронция с учетом гипотетического выпаса скота в радиусе 10–15 км от памятника;
- – значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в эмали зубов людей, погребенных в кург. 1, 14, 18, 20, 22, 27, 38, 55, 67 Алакульского могильника (n=16). Несмотря на то, что среди людей высока вероятность присутствия неместных жителей, сравнительный анализ этой группы данных может способствовать пониманию механизмов поступления текстиля;
- – значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в смывах образцов текстиля (n=5).
Локальный интервал, полученный по четырем фоновым значениям (0.70982–0.70968), является наиболее широким из существующих наборов сравнительных данных. К нему следует относиться с осторожностью ввиду как маленького объема выборки, так и использования в данном случае “прямых”, а не интерполированных значений. Обращает на себя внимание близость значений ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в эмали зубов людей и животных из могильника. По аналогии с данными микрорайона Степное, предварительные границы “местного” интервала можно отметить по совокупной выборке этих двух наборов данных: 0.70946–0.70984. Вне его пределов, помимо серии выбросов из данных по одной лошади (кург. 55) и двух человек (кург. 18 и 22), находятся также один образец текстиля (нить из пастовых бус) из кург. 23 (№ 4(14)). Значение второго образца текстиля из этого кургана находится на верхней границе локального интервала. Все выпадающие за его пределы образцы характеризуются повышенными значениями ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr, по всей видимости, не связанными своим происхождением с окрестностями Алакульского могильника.
Рис. 8. Вариации изотопов стронция в материалах микрорайонов у с. Степное (А, Б) и могильника Алакульский (В, Г). Условные обозначения: А, В: а – промытый текстиль; б – смыв; в – границы возможного интервала фоновых значений; Б: г – текстиль (n=6); д – фон, радиус 5–7 км (n=9); е – фон, радиус 10–15 км (n=25); ж –поселение Степное, эмаль животных (n=21); з – могильник Степное-1, эмаль животных (n=5); и – поселение Степное, могильник Степное-1, эмаль МРС (n=14); к – смывы с текстиля ((n=6); Г: л – текстиль (n=5); м – локальный фон (n=4); н – могильник Алакульский, эмаль животных (n=10); о – могильник Алакульский, эмаль людей (n=16); п – могильник Алакульский, эмаль людей и животных (n=26); р – смывы с текстиля (n=5).
Fig. 8. Variations of Sr isotopes in materials from the Stepnoye (А, Б) and Alakul (В, Г) microdistricts
Выборка значений по смывам с текстиля (рис. 8, Г) образует достаточно широкий интервал (0.70941–0.71035), включающий в том числе все значения в промытом текстиле. Как правило, разница между значениями Sr в смыве и промытом текстиле также не превышает 0.0002. Исключение составляет только образец № 5 (13), где отношение изотопов стронция в смыве (0.71028) превышало значения в промытом текстиле (0.70983) на 0.0005 (рис. 8В).
Могильник Агаповка II. Из данного могильника происходит один текстильный образец, значение ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в котором составляет 0.7095 (рис. 6, 4). Разница в смыве с него (0.70952) не превышает 0.0002. Как и некрополь Степное VII, могильник Агаповка II входит в зону покрытия интерполированных карт биодоступного стронция. Соответственно, произведен аналогичный расчет фоновых значений в квадратах со стороной 10 км (радиус 5–7 км) и 20 км (радиус 10–15 км) соответственно, условным центром которых является местонахождение некрополя (Прил., V, рис. 6, табл. 5). Интерполированная карта демонстрирует относительно низкие значения в окрестностях современного поселка Агаповка. Локальные интерполированные значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в радиусе 5–7 км от памятника варьируются в интервале 0.70868–0.7091. При расширении радиуса до 10–15 км этот коридор увеличивается до 0.70845–0.7093. Значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в текстиле находятся выше обоих интервалов, однако превышают верхнюю границу более широкого из них всего лишь на 0.0002. Это требует дополнительной аргументации выпаса шерстяных овец вне окрестностей данного микрорайона (рис. 6, 4).
Таким образом, 5 из 12 исследованных экземпляров текстиля выходят за пределы предполагаемых локальных интервалов биодоступного стронция, рассчитанных для микрорайонов могильников, в которых они обнаружены. Еще один образец находится на верхней границе локального интервала.
Все “неместные” образцы имеют значения Sr, превышающие фоновые. В случае с текстилем из могильника Агаповка II это превышение составляет всего лишь 0.0002. Остальные четыре образца из могильников Степное VII и Алакульский укладываются в интервал 0.71000–0.71050, который гипотетически может быть связан с одним регионом выпаса согласно критерию n ≤0,001. Тенденция к повышенным значениям ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr характерна для территории Восточно-Уральской мегазоны, среднее для которой составляет 0.7096±0.002. Это связано с локализацией здесь раннекаменноугольных и раннепермских гранитных массивов, таких как Джабыкский, Великопетровский, Варшавский, Неплюевский, Суундукский. Еще более высокие значения наблюдаются в Центрально-Уральской мегазоне (среднее – 0.7106). Однако небольшая выборка точек фонового пробоотбора (n=3) и низкая точность интерполяции на этом участке карты (Епимахов и др., 2023) требуют осторожности в привлечении этих данных к объяснению миграционных процессов. К тому же горнолесной ландшафт не является приоритетной зоной хозяйственного освоения алакульских сообществ.
В выборке отсутствуют значения, выпадающие из широкого локального диапазона Южного Зауралья 0.706–0.716. Это говорит о возможности обменных процессов в рамках собственно алакульской ойкумены. Набор артефактов, сопровождающий погребенных, также не содержит свидетельств дальнедистанционных связей и представлен предметами, типологически ассоциируемыми с алакульскими древностями Южного Зауралья. Согласно технологической атрибуции, текстильные образцы нашей выборки с отличным от локального Sr-сигналом представлены различными типами первичных изделий, морфологические параметры которых (толщина нити, структура переплетения, сложность изготовления и т.п.) сходны с “местными” образцами. Скорее всего, мы имеем дело с внутрикультурными, меж- или микро-региональными контактами. Обмен мог осуществляться продуктами различных стадий текстильного производства:
Импорт животных. В его пользу говорит наличие “выбросов” в выборке эмали животных Алакульского могильника со значениями ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr, близкими к текстильным из кург. 23 этого памятника (рис. 8 Г).
- – Импорт сырья. Нет аргументов, поскольку мы не располагаем вещественными источниками промежуточного этапа изготовления текстильных изделий.
- – Импорт первичных текстильных изделий (тканей, тесьмы, пряжи) для последующего изготовления костюма. Возможно, он имел место, поскольку вариативность изотопного состава ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr отдельных элементов одного костюма в могильнике Степное VII слишком высока для одного региона происхождения (рис. 8, А, Б).
- – Импорт костюма целиком. Свидетельств недостаточно, но описанные в предыдущем пункте особенности материалов Степного VII скорее являются контраргументом.
- – Перемещение костюма вместе с владельцем. В пользу этого варианта говорит наличие “выбросов” в выборке эмали людей Алакульского могильника со значениями ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr, близкими к текстильным из кург. 23 этого памятника (рис. 8, Г).
Высокие показатели мобильности вещей могут отражать перемещения их владелиц в связи с патрилокальным семейным укладом алакульского общества (Blöcher et al., 2023), хотя в большинстве случаев нашей выборки уверенно установить пол погребенных затруднительно. Отдельно следует оговорить свидетельства передачи костюма (или его элементов) по наследству, или просто длительного/вторичного использования. Датировка, полученная по текстильному образцу, несколько древнее той, что выполнена по костям погребенного в яме 1 комплекса 8 могильника Степное VII. Возможно, мы зафиксировали мобильность вещи и/или связанного с ней индивида в предыдущем поколении обитателей этого микрорайона. Однако, наличие второго подобного украшения в другом погребении могильника свидетельствует скорее о том, что украшения бытовали и передавались по наследству внутри одного коллектива, либо о существовании устойчивых брачных или иных связей между двумя коллективами с разных территорий.
При реконструкции механизмов обмена мы также ограничены нашими знаниями как о процессе текстильного производства, так и о перемещениях в ходе скотоводческого годового цикла. Могла иметь место тщательная смесь шерстяного волокна от различных овец в одной пряже. Разные нити или даже их участки в одной ткани могут иметь разное происхождение, на что косвенно указывает различие их характеристик, в частности, чередование крутки (Анкушева и др., 2020. С. 20. Рис. 3). Все эти факторы приведут к совокупному сигналу Sr, не отражающему реального происхождения сырья для изделия. Опираясь на гипотезу о придомном характере алакульского скотоводства в Зауралье, мы не учитываем моделирование вариаций изотопного состава Sr для яйлажной формы с сезонной ротацией пастбищ, предлагаемой, в частности, по материалам Мугоджар (Ткачев и др., 2023). Наконец, необходимо более пристальное внимание к интерпретациям значений смывов, в том числе с учетом региональной специфики.
Данная работа представляет собой первое системное исследование происхождения сырьевой базы алакульского текстиля при помощи методов Sr-изотопии. Пионерный характер работы обуславливает дискуссионность полученных выводов, основной из которых сводится к констатации факта наличия “неместного” шерстяного волокна в элементах костюма погребенных в могильниках Южного Зауралья. Отношения изотопов стронция в 4 из 11 исследованных образцов из могильников Степное VII и Алакульский превышают локальные интервалы, выделенные для микрорайонов памятников в радиусе 10–15 км. В случае с еще одним образцом из могильника Агаповка II это превышение статистически незначительно. Большинство из “импортных” образцов тяготеют к показателям Восточно-Уральской мегазоны, хотя для более детальной реконструкции ареалов выпаса шерстяных овец не хватает зоны покрытия интерполированной карты биодоступного стронция в лесостепном Зауралье. Теоретически обменные процессы могли быть связаны как с импортом овец, чье руно пригодно для прядения, так и с перемещениями первичных текстильных изделий и самих владельцев/владелиц костюма. Для подтверждения намеченных гипотез требуется как расширение выборки текстильных образцов для исследования изотопного состава стронция, так и более детальное проникновение в технологические характеристики шерстяного волокна и этапы его обработки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 20-18-00402П.
1 См. Приложение к pdf-версии журнала.
Об авторах
Полина С. Анкушева
Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии УрО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: polenke@yandex.ru
Россия, Миасс
Иван А. Блинов
Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии УрО РАН
Email: ivan_a_blinov@mail.ru
Россия, Миасс
Д. В. Киселева
Инстиут геологии и геохимии УрО РАН
Email: podarenka@mail.ru
Россия, Екатеринбург
Елена В. Куприянова
Челябинский государственный университет
Email: dzdan@mail.ru
Россия, Челябинск
Игорь К. Новиков
Курганский государственный университет
Email: novikov2479@mail.ru
Россия, Курган
Игорь В. Чечушков
Курганский государственный университет
Email: chivpost@gmail.com
Россия, Курган
Андрей В. Епимахов
Южно-Уральский государственный университет
Email: epimakhovav@susu.ru
Россия, Челябинск
Список литературы
- Анкушева П.С., Орфинская О.В., Корякова Л.Н. и др. Текстильная культура позднего бронзового века Урало-Казахстанского региона // Уральский исторический вестник. 2020. № 2 (67). С. 16–25.
- Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство). М.: Академия, 2004. 448 с.
- Епимахов А.В. Хронология алакульской культуры (новые материалы к дискуссии) // Краткие сообщения Института археологии. 2023. Вып. 270. С. 171–186.
- Епимахов А.В., Куприянова Е.В., Хоммель П., Хэнкс Б.К. От представлений о линейной эволюции к мозаике культурных традиций (бронзовый век Урала в свете больших серий радиоуглеродных дат) // Древние и традиционные культуры во взаимодействии со средой обитания: проблемы исторической реконструкции / Отв. ред. Е.В. Куприянова. Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2021. С. 7–29.
- Епимахов А.В., Чечушков И.В., Киселева Д.В. и др. Картирование биодоступного ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr в Южном Зауралье // Литосфера. 2023. Т. 23, № 6. С. 1079–1094.
- Коробкова Г.Ф., Виноградов Н.Б. Каменные и костяные орудия из поселения Кулевчи III // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. Серия 1: Исторические науки. 2004. № 2. С. 57–87.
- Косинцев П.А., Бачура О.П., Рассадников А.Ю., Кисагулов А.В. Животноводство у населения Южного Зауралья в эпоху поздней бронзы // Динамика современных экосистем в голоцене: материалы IV Всерос. науч. конф. / Отв. ред. С.Н. Удальцов. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. С. 102–104.
- Краузе Р., Епимахов А.В., Куприянова Е.В. и др. Петровские памятники бронзового века: проблемы таксономии и хронологии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2019. № 1 (47). С. 54–63.
- Куприянова Е.В. Новые материалы раскопок могильника Степное VII (2016 г.) в системе петровско-алакульских древностей Южного Зауралья // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 13. Оренбург: Оренбургский гос. аграрный ун-т, 2017а. С. 90–103.
- Куприянова Е.В. Мелкие аксессуары головного убора женщины эпохи бронзы Южного Зауралья: методы исследования и реконструкции // Поволжская археология. 2017б. № 3 (21). С. 272–279.
- Медведева П.С., Алаева И.П. Ткани бронзового века в Южном Зауралье и Северном Казахстане // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017. № 1 (36). С. 5–13.
- Орфинская О.В., Голиков В.П. Экспериментальное исследование текстильных изделий из раскопок могильника Лисаковский II // Усманова Э.Р. Костюм женщины эпохи бронзы. Опыт реконструкций. Лисаковск; Караганда, 2010. С. 114–117.
- Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Даурия, 2000. 146 с.
- Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. М.: Наука, 1967. 408 с.
- Сериков Ю.Б. Использование фрагментов керамики в культах и ритуалах // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Вып. II. Барнаул: Азбука, 2008. С. 11–31.
- Ткачев В.В., Косинцев П.А., Бачура О.П., Байтлеу Д.А. Модель скотоводческого хозяйства населения позднего бронзового века с горно-металлургической производственной специализацией в Южных Мугоджарах (Западный Казахстан) // Уфимский археологический вестник. 2023. Т. 23, № 2. С. 377–395.
- Усманова Э.Р. Костюм женщины эпохи бронзы. Опыт реконструкций. Лисаковск; Караганда, 2010. 176 с.
- Шарапов Д.В., Плаксина А.Л. Пастбищная продуктивность долины р. Карагайлы-аят как индикатор оседлости/мобильности обществ синташтинско-петровского периода // Древние и традиционные культуры во взаимодействии со средой обитания: проблемы исторической реконструкции / Отв. ред. Е.В. Куприянова. Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2023. С. 88–99.
- Шилов С.Н. Отчет КГУ о проведении на территории Курганской области в Щучанском и Кетовском районах археологических исследований. Т. 1. Курган, 2002. 191 с.
- Шилов С.Н., Богатенкова А.А. Погребения с женскими украшениями Алакульского могильника бронзового века // Куприянова Е.В. Тень женщины: Женский костюм эпохи бронзы как “текст”: (по материалам некрополей Южного Зауралья и Казахстана). Челябинск: Авто Граф, 2008. С. 217–235.
- Шишлина Н.И., Киселева Д.В., Медведева П.С. и др. Изотопный состав стронция в шерстяном текстиле эпохи бронзы из могильников Березовый рог (лесная зона Восточной Европы) и Черняки II (Южное Зауралье) // Геоархеология и археологическая минералогия. 2018. Т. 5. С. 41–47.
- Шишлина Н.И., Орфинская О.В., Киселева Д.В. и др.Шерстяные ткани эпохи бронзы Южной Сибири: результаты технологического, изотопного и радиоуглеродного анализов // Записки Института истории материальной культуры РАН. № 23. СПб., 2020. С. 70–81.
- Шишлина Н.И., Корякова Л.Н., Орфинская О.В. Экзотическая ткань из хлопка бронзового века Южного Зауралья // Российские нанотехнологии. 2022. Т. 15, № 5. С. 680–689.
- Blöcher J., Brami M., Feinauer I.S. et al. Descent, marriage, and residence practices of a 3,800-year-old pastoral community in Central Eurasia // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2023. Vol. 120, № 36. e2303574120.
- Bronk Ramsey C. Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates // Radiocarbon. 2009. Vol. 51, № 1. P. 337–360.
- Chechushkov I., Epimakhov A., Ankushev M. et al. Interpolated data on bioavailable strontium in the southern Trans-Urals // Zenodo. 2022. doi: 10.5281/zenodo.7370066.
- Chessa B., Pereira F., Arnaud F. et al. Revealing the history of sheep domestication using retrovirus integrations // Science. 2009. Vol. 324, № 5926. P. 532–536.
- Ericson J.E. Strontium isotope characterization in the study of prehistoric human ecology // Journal of Human Evolution. 1985. Vol. 14, iss. 5. P. 503–514.
- Frei K.M., Frei R., Mannering U. et al. Provenance of ancient textiles – a pilot study evaluating the strontium isotope system in wool // Archaeometry. 2009. Vol. 51, iss. 2. P. 252–276.
- Gleba M. Sheep to Textiles: Approaches to Investigating Ancient Wool Trade // Textile Trade and Distribution in Antiquity. Wiesbaden: Harrassowitz, 2014 (Contributions to the Study of Ancient World Cultures; 73). P. 123–134.
- Kiseleva D.V., Chervyakovskaya M.V., Shishlina N.I., Shagalov E.S. Strontium Isotope Analysis of Modern Raw Wool Materials and Archaeological Textiles // Geoarchaeology and Archaeological Mineralogy: proceedings of 6th Geoarchaeological Conference (Miass, Russia, 16–19 September 2019) / Ed. A. Yuminov et al. Basel: Springer, 2021. P. 27–32.
- Kupriyanova E. Women’s and Children’s Costume in Early Indo-European Communities of the Bronze Age in the Southern Trans-Urals // Journal of Indo-European studies. 2022. Vol. 50, № 3–4. P. 505–544.
- Rassadnikov A.Yu. Ethnozoology for Archaeology: Results of the Study of the Modern Livestock Breeding System in the Steppe Zone of the Southern Urals // Theory and Practice of Archaeological Research. 2022. Vol. 34, № 3. P. 112–130.
- Reimer P.J., Austin W.E.N., Bard E. et al. The IntCal20 northern hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 CAL kBP) // Radiocarbon. 2020. Vol. 62, iss. 4. P. 725–757.
- Ryder M.L. Merino History in Old Wool // Textile History. 1987. Vol. 18, iss. 2. P. 117–132.
- Schreiber F.A., Korochkova O.N., Novikov I.K., Usmanova E.R. Radiocarbon Dating of Late Bronze Age Burials from the Great Urals (Steppe Trans-Urals and Northern Kazakhstan) and Bayesian Modeling // Journal of field archaeology. 2023. Vol. 48, № 3. P. 210–226.
- Sherratt A.G. The Secondary Products Revolution of Animals in the Old World // World Archaeology. 1983. Vol. 15, № 1. P. 90–104.
- Shishlina N.I., Orfinskaya O.V., Hommel P. et al. Bronze Age wool textile of the Northern Eurasia: new radiocarbon data // Nanotechnologies in Russia. 2020. Vol. 15, № 9–10. P. 629–638.
- Shishlina N.I., Kiseleva D.V., Kuptsova L.V. et al. The Provenance of the Bronze Age Wool Textiles from the Western Orenburg Region (Russia) // Geoarchaeology and Archaeological Mineralogy: proceedings of 7th Geoarchaeological Conference (Miass, Russia, 19–23 October 2020) / Ed. N. Ankusheva et al. Cham: Springer, 2022. P. 137–150.
- Stobbe A., Gumnior M., Ruhl L., Schneider H. Bronze Age Human-Landscape Interactions in the Southern Transural Steppe, Russia – Evidence from High-Resolution Palaeobotanical Studies // The Holocene. 2016. Vol. 26, iss. 10. P. 1692–1710.
- Wozniak M.M., Belka Z. The Provenance of Ancient Cotton and Wool Textiles from Nubia: Insights from Technical Textile Analysis and Strontium Isotopes // Journal of African Archaeology. 2022. Vol. 20, iss. 2. P. 202–216.
Дополнительные файлы