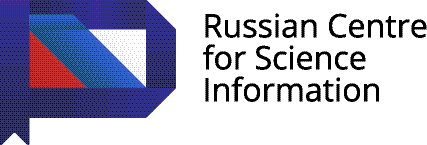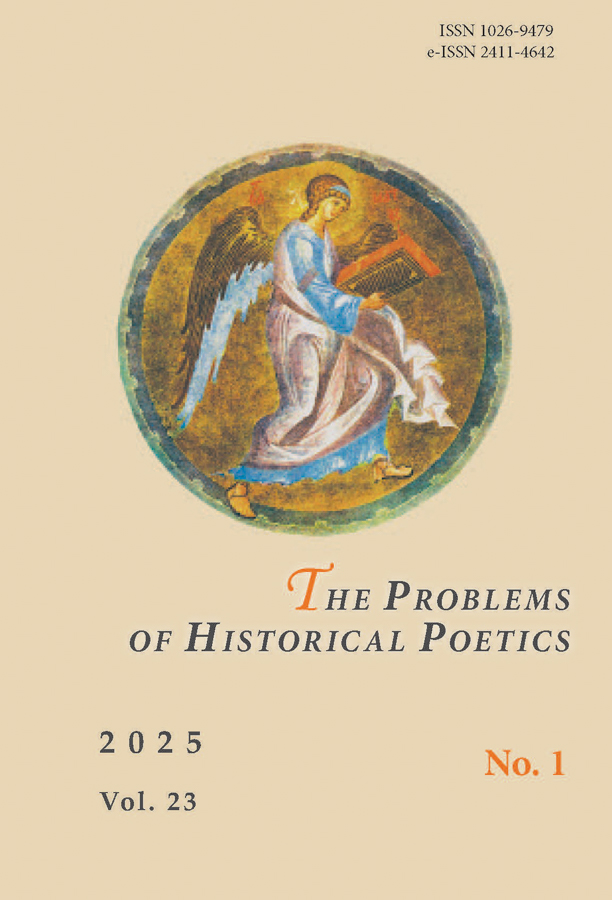The Сoncept of a house in Karelian wedding lyrics
- Authors: Mironova V.P.1, Ivanova L.I.1
-
Affiliations:
- Karelian Research Centre, The Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 20, No 2 (2022)
- Pages: 89-112
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9479/article/view/280237
- DOI: https://doi.org/10.15393/j9.art.2022.10924
- EDN: https://elibrary.ru/EVMXFC
- ID: 280237
Cite item
Full Text
Abstract
The study is devoted to the description of the house as one of the basic concepts of folk culture and folk mentality. It includes ideas not only about housing, but also about a person’s life and death, about family and intergenerational connections, about a person’s attitude to society and to himself. In this article, the concept of the house is examined from the point of view of linguo-folkloristics, which allows to identify the features of its representation not only as a material asset, but also as a spiritual basis of peasant life. In addition, the image of a house revealed in the entire complex of Karelian wedding lyrics dedicated to the rite of “transition” is examined. The analyzed texts describe the dwelling from the positions of both the bride and the groom. The work uses lexical material from a number of dictionaries (dialect, etymological, phraseological), as well as published and archival recordings of folklore texts made mainly in the first half of the 20th century in Karelia. The focus is on a wide range of vocabulary included in the semantic field of the concept of “house,” texts of Karelian lamentations, wedding runes and eigs, examples from the paremia. The involvement of various linguistic and folklore sources, as well as an integrated approach to the analysis of the identified material, allows us to recognize a wide range of lexemes and stable poetic formulas and structures that denote home and are included in the “friend-foe” opposition.
Full Text
Дому как одному из ключевых символов народной культуры [Байбурин: 9] могут быть присущи две основные функции: прямая, обслуживающая «определенный круг конкретных общественных потребностей», и метафорическая, когда его признаки «переносятся на широкий круг социальных фактов, моделью которых он становится» [Лотман: 377].
Язык является зеркалом народной культуры, отражением народной психологии и философии, а единица языка, т. е. слово — это «вместилище информации о материальной, социальной, духовной культуре данной языковой общности» [Банкова: 22]. Именно поэтому лингвофольклористика, этнолингвистика, лингвокультурология и другие современные гуманитарные науки на национальном или региональном материале, наиболее ярко раскрывающем этнокультурное своеобразие тех или иных языковых единиц, разрабатывают взаимосвязанную триаду «человек-язык-культура» в различных направлениях. Так, современная когнитивная лингвистика на основе концептов, т. е. своеобразных культурных маркеров, вербализированных в словах, в качестве одной из основных проблем рассматривает, как отражается в языке национальная картина мира [Потураева: 58].
Концепт «дом» неоднократно входил в орбиту изучения исследователей. Комплексному анализу жилища в народной культуре на материале русских текстов свадебных причитаний и духовных стихов посвящена работа С. Е. Никитиной и Е. Ю. Кукушкиной [Никитина, Кукушкина]. В рамках лингвофольклористики в работе осуществлено лексикографическое описание слов-концептов тематической группы «дом». Представления о жилище, которые нашли поэтическое воплощение в русских свадебных приговорах, рассмотрены Ю. А. Крашенинниковой [Крашенинникова]. Отражение своего и иного пространства в карельских причитаниях неоднократно оказывалось в фокусе изучения фольклористов [Конкка: 59–65], [Stepanova: 195–201], [Silvonen: 42–43], однако образ дома не становился предметом скрупулезного анализа.
В карельском языке и фольклоре просматривается оппозиция жилища по параметрам «свое-чужое»: постоянноевременное, домашнее-лесное, близкое-далекое, освоенное-неосвоенное, человеческое-нечеловеческое.
Дом является моделью мира, соединяя в себе бытовое и сакральное. И в то же время это ключевой символ, обозначающий центр вселенной, освоенный и защищенный от влияния извне [Бидерманн: 73–74]. Дом — это свой микромир, безопасный для человека. Но далеко не любая жилая постройка становится своим домом, а только та, которая обжита человеком, а окружающее пространство окультурено им. Созидание своего дома — это не столько возведение жилой постройки, сколько стремление вписаться в мир, выстроить субъективноценностные жизненные позиции и определить моральноэстетические семейные ориентиры.
В языковой картине мира карелов понятие «свой дом» выражается целым рядом лексем и лексических сочетаний, имеющих в своей основе слова kota, tupa, mökki, koti, talo, pertti. Это синонимический ряд, обозначающий, в первую очередь, дом или строение как место безопасного проживания людей. В целом дом является родовым обозначением жилого помещения, то есть он важен для отдельного человека, но его особую безопасность предопределяют, в том числе, духи предков, проживавших здесь и наделенных потомками идеей покровительства.
Исходя как из семантической наполненности данных слов, так и из того, как они употребляются в фольклорных текстах, можно сделать вывод, что локус дома является родным для человека. Согласно верованиям, он чувствует себя в своем доме в безопасности, его невидимо окружают и ему покровительствуют не только духи первопредков, но и домашние духи-хозяева.
Kota — это временное жилище, укрытие, построенное вокруг упорного шеста; шалаш, хижина из еловых или хвойных веток, лапника; лесная сторожка. Ее использовали для кратковременного проживания чаще всего во время сенокоса или когда делали пожоги, а также во время рыбалки или охоты. У тихвинских карелов в обиходе была поговорка: «Каждый свой шалаш кроет» (“Jogahin omua kodua kattau” — KKS 2: 348–349). В этом высказывании есть и прямой, и переносный смысл. Каждый хозяин строил для ночевки своей семьи свой шалаш, то есть это было временное, но свое, родное микропространство, правда, порой находящееся в иномирном «лесном царстве». Еще одна лексема с семантикой дома — mökki. Это непритязательное, скромное маленькое жилище; хижина, лачуга. Но это уже жилище не временное, а постоянное. Слово получило распространение в Южной и Средней Карелии. «Лишь бы была своя лачужка, день — голодом, два — без еды, никто бы не знал» (“Vai oliz itšelleni mökki, päivy nälläz, kaks syömättah, niken ei tiedäz” — KKS 3: 430). Пословица подчеркивает независимость и гордость карела: он, скорее, готов голодать у себя в домишке, чем ходить просить милостыню.
Tupa — это избушка, небольшая изба. Старинные избушки были достаточно холодными, поэтому существовало множество заговоров, с помощью которых старались уберечь тепло в ней. В одном из них есть слова, обращенные к морозу, персонифицированному и почитаемому мифологическому персонажу иного, чужого мира холода: «Не входи, мороз, в избушку, оставайся, враг, под молодой рощей» (“Elä tule, pakkani, tupah, vihol’l’ini ov viitan alla” — KKS 6: 306). В Вокнаволоке образ маленькой, но уютной избушки tupa появляется в загадках про белку: «Избушка качается, верхушка колышется, мужчина укачивается внутри избушки» (“Tupa tuuti, latva l’iekku, mies tuuti tuvan sisässä” — KKS 6: 306). Беличье гнездо представляется теплой избушкой на вершине дерева, которую, словно колыбель, раскачивает и убаюкивает ветер.
Произнося заговоры и проводя многочисленные обрядовые действия, человек стремился обезопасить жизнь в своем доме от внешнего воздействия злых духов и хозяев природных стихий. Перед постройкой tupa покупалась земля у ее духовхозяев, приносились им жертвоприношения (от мелких монет, красных лоскутков и капель вина до захоронения в подполе черного щенка). Перед тем как зайти в новую tupa, просили благословения у ее духов-хозяев и приносили им в дар ржаной каравай и березовое полено: «Когда заходили в новый дом, произносили: “Счастья в новую избу, хороший год проживать, ветром сушить да водой старить; ржаной хлеб для еды, березовое полено для тепла”» (“Kun uuteh pirttih tultih, šiitä tervehytettih: «Onni uuteh tupah, hyvä vuosi vierahaksi, tuulen kuivata ta vein vanhantoa; ruisleipä šyötäväksi, koivuini halko poltettavakši»” — KKS 6: 306). Салминские карелы считали, что на ночь, в один из самых опасных для человека временных промежутков, «надо все двери и окна закрыть с молитвой, тогда черт в избушку не пройдет» (“kai ikkunat dai ovet pidiä panna malitun ker kiini, sid ei piru piäze tubah” — KKS 6: 306).
Практически повсеместно у всех этнолокальных групп карелов получили распространение лексемы koti и talo в значении дом, постройка, семья. Слово koti широко используется как в повседневной речи, так и во всех фольклорных жанрах. Оно часто встречается в образной речи, например, во фразеологизмах. «Вечный дом» (“igäine kodi”) — это гроб, могила; о красивом доме, в котором царит спокойная жизнь, рассказывали как о «доме-церкви» (“kodi ku kirikkö”); «дом собакам» (“kodi koirilla”) — так говорили о покинутом доме; а про человека, у которого ничего нет: «дом — в чаще, изба — на сосне, добро — на суку» (“kodi on korves, perti pedäjäs, elot oksal”) [Федотова: 90].
Очень часто уже само слово talo обозначало наличие большого своего дома и крепкого хозяйства. Молодого парня из зажиточного крестьянского дома с большим земельным наделом называли talonpoika — букв.: парень из дома, тем самым подчеркивая его значимость как выгодного жениха из крепкого дома, или хорошего рода (SSA: 264). Та же мысль подразумевается в пословице про девушку: «Девушкам из богатого дома надо смотреть на пашущих землю, а не слоняющихся по дорогам» (“Talon tyttäriel pidäy kaččuo pellol kyndäjii, ei pie kaččuo muantiel kulgijii” — KS: 506).
Обрядовые действия, сопровождаемые заговорами, регламентировали отношения между миром человека и потусторонним, иным миром. Согласно верованиям, дом наполнен иномирными существами. Например, в домашнем подполе, находятся духи земли. При этом считалось, что если дух-хозяин дома показывается в антропоморфном образе сурового мужчины, следует ждать бед и несчастий (“a miešhaltie kul lienöy näyttäytyn nin ei nin ollul lykyllistä elämöä šiinä talošša” — KKS 6: 32). Благословением для дома были дети; тверские карелы говорили: «Детской судьбой и дом живет». В Рыпушкалице считали, если ласточки (эта птица ассоциируется с душами покойных первопредков, которые покровительствуют своим потомкам) свили гнездо под крышей дома, это предвещает долгую жизнь и дома, и всей семьи (“piäsköi kudaman taloin räystähäh peziä luadiu, ga se taloi eläy” — KKS 6: 32). А мышей, как животных хтонических, являющихся, согласно верованиям и сказочным сюжетам, детенышами лесной ведьмы Сюоятар, называли “нос в испражнениях” (“šittunenä”) и стремились изгнать из дома, произнося: «Мыши — прочь, мы — на место» (KKS 6: 32).
Родному, или своему, родовому, дому посвящено огромное количество паремий. Карелы говорили: «Свой дом золотой, будь плохой или хороший» (“Oma kodi on kuldaine, olgah paha libo hyvä”) [Федотова: 145]. «В своем доме и сон слаще» (“Omas kois on unigi magiembi”); «В своем доме каждая горбушка — пирог» (“Omas kois joga kannikko on piirai” — KS: 175). В своем доме человек всегда чувствовал себя полновластным хозяином:
«Свой дом, хочешь головой вперед заходи, хочешь — задом» (“Oma kodi, hos päin mändävä, perin lähettävä”); «В своем доме и собака — хозяин» (“Omas kois gi koiru on ižändy” — KS: 329).
Своему дому, в котором постоянно проживает человек и который окружен обжитым людьми пространством, в карельском фольклоре и верованиях противопоставлен образ лесной избушки metšäpertti, metšäkota, metšämökki (KKS 3: 302). Она считается прообразом древнего жилища. Внешне лесная избушка — это обычная полуземлянка с двумя плахами на лицевой стене, позже — маленькая курная избушка с крышей, сделанной из деревянных плах, с земляным полом, который иногда застилали сеном. В ней была большая каменка для обогрева жилища и приготовления еды, дверь, волоковое окошко и иногда сделаны лавки для сна. Это место временной остановки охотников, рыбаков и тех, кто приходил на лесные угодья косить сено и делать пожогу. Иногда в metšäpertti уходили на целую неделю, с понедельника по субботу.
Но в лесной избушке мог остановиться любой, она, по сути, была ничья. Неслучайно про бездомного нищего говорили:
«Дом — в чаще, изба — на сосне, добро — на суку, сорочье дерьмо — в квашне» (“Kodi korves, perti pedäjäs, elot oksal, harakan paskua taiginas”) [Федотова: 90].
Если свой дом oma koti для карела — это родное, безопасное пространство, то metsäpertti — это уже чуждый жилой локус, опасный для человека и к тому же находящийся в ином мире «лесного царства» [Иванова: 253–269]. В лесу царят законы и правила обитания лесных духов-хозяев. Именно поэтому карельский крестьянин, возвратившись домой после ночевки в лесной избушке, в первую очередь топил баню, чтобы очиститься и физически (от пота и укусов насекомых), и душевно (от влияния лесного мира).
Неслучайно карелы даже лексически противопоставляли свой, домашний, и чужой, лесной, миры. А соответственно и всех, кто проживал в освоенном людьми, человеческом, пространстве и тех, кто обитал в ином мире лесного царства, подвластного законам духов-хозяев. В лесу жили лесная ласточка, или черный стриж (metšäpiäsköi); лесная свинья, или кабан (metšäpočči); лесная букашка, или змея (metšäpöpöi); лесная курица, или белая куропатка (metšäkana); лесная мышь, или желтогорлая мышь (metšähiiri); и даже лесные люди, или жители мелких лесных деревушек (metšärahvas). В Рыпушкалице их считали менее развитыми, «диковатыми» (“tagavozeš eletäh meččyrahvaz, meččyrahvaz diikoimbat” — KKS 3: 303). В мифологических рассказах лесными жителями называли и леших, ассоциирующихся с чертями и бродящих с песнями и плясками по лесу. Для людей опасна не только встреча с ними, но и случайная остановка для отдыха на их тропе или даже просто ее пересечение. Если избушка была построена на такой тропе, то людей, остановившихся в ней на ночлег, ожидала смерть [Иванова: 267].
Именно поэтому насколько человек считал себя хозяином в доме, настолько он был только временным гостем в лесной избушке. Но так как избушка была построена им, он считал вправе на время своего прихода устанавливать в ней свои законы, строго регламентировав процесс входа и пребывания в ней [Иванова: 258–262]. При входе в чужое пространство, в иной мир, опасный для человека, знание особой словесной формулы или магического слова приобретает даже гораздо большее значение, чем совершение любого обрядового действия: «Эта магия слова оказывается более древней, чем магия жертвоприношения» [Пропп: 62].
Заходили в лесную избушку «очень чистыми» (“hyvin siivosti”), т. е. подготовленными и в телесном, и в духовном плане. Одежда, обувь должны быть максимально очищены от грязи; чистыми должны быть и помыслы. В первую очередь требовалось очистить (букв. — оздоровить) избушку, поздороваться с ней, с землей, с лесными духами-хозяевами (“tervehtiä meččäpirtti”). Затем попросить прежних жителей уступить место новым: «Здравствуй, земля, здравствуй суша, / Здравствуйте, прежние жители! / Вон прежние жители, / Только что пришедшие вовнутрь!». При произнесении последних двух строк следовало или ударить рябиновым прутом крест-накрест по земле, или забить в порог топор [Virtaranta: 410].
Детали этого ритуала и слова заговора могли варьироваться. В более поздних записях говорят просто: «Старые — вон, новые — на место» («Гости — вон, хозяин — на место»), демонстрируя только собственное бесстрашие и забывая более архаичную часть обряда — приветствие земли и ее хозяев. Перед сном осеняли крестным знамением окна и дверь, просили благословения у Христа, делали на двери в трех местах кресты топором, а сам топор клали под порог лезвием на улицу (ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН: 2212/1, Кестеньга, Лоухский р-н, 1975 г.). Сами рассказчики объясняют это так: когда в лесной избушке остаешься на ночь, надо «топор под порог положить <…>. Топор кладут с благословением <…>. Ну, наверно, кто придет, топором получит. Чтобы черт не пришел. Для этого кладут топор под порог <…>. Это будто второй порог» (ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН: 2610/47, Софпорог, Лоухский р-н, 1980 г.). Иномирным, чуждым и враждебным для человека считалось пространство лесной избушки и в сказках. В ней чаще всего живет персонаж-антагонист человека Сюоятар.
В результате анализа лексики, характеризующей родной дом (kota, tupa, mökki, koti, talo, pertti) и лесные избушки карелов (metšäpertti, metšäkota, metšämökki), можно сделать вывод, что насколько дом в освоенном крестьянском пространстве безопасен для человека и представителей своего рода, является своим и наделяется положительными характеристиками, настолько лесная избушка, даже архитектурно похожая на деревенские избы и построенная человеком, ментально воспринимается чужой, так как находится на чуждой иномирной территории, где свои нечеловеческие законы устанавливают лесные духи-хозяева. К тому же она предназначена только для кратковременного пребывания любого человека и со строгим соблюдением чужих правил и табу.
В фольклорных текстах образ дома формируется через поэтизацию объективной реальности, в котором понятие изображает большее объективно существующее пространство [Быковская]. Это не столько постройка в виде освоенной человеком внутренней домашней территории, сколько один из основных топосов, включенных в семейную обрядность. Дом становится центром ритуалов, в котором происходит передача материальных и духовных ценностей. К примеру, карельская свадебная обрядность неразрывно связана с домом: именно здесь проходит сватовство, окручивание, отпуск девичьей воли. Комплекс символических действий сопряжен с различными поэтическими текстами.
Вербальный код карельской свадьбы включает в себя причитания, исполняемые невесте в ее доме, свадебные руны, адресатами которых могли быть жених и невеста, а локусами становился как дом невесты, так и дом жениха. Кроме того, к свадебным текстам относятся также карельские ёйги, исполняемые жениху или находящемуся в поиске невесты холостому парню, а местом их исполнения являлась территория жениха.
Исследователи включают дом в традиционное для русской культуры противопоставление «своего» и «чужого» пространства, которое рассматривается ими как одно из важнейших противопоставлений, входящих в структуру религиозной системы славян [Иванов, Топоров: 178].
В равной степени это относится и к прибалтийско-финской фольклорной традиции, к примеру, в свадебной лирике в фокус описания жилища непременно включается оппозиция «свое-чужое». Для невесты родительский дом — это свой дом, а дом мужа — чужой дом, для жениха соответственно родительский дом — свой дом, а дом тещи — чужой дом.
Номинация своего дома незамужней девушки в причитаниях происходит через сложное слово, в котором опорным становится обозначение места ее проживания: возрастания места (усл.), в бане паренья места, возрастания (усл.) места (ТСЯКП: 84–85). Выделяются также устойчивые атрибутивные словосочетания, в которых оценочные эпитеты усиливают положительные характеристики родного пространства: красивые строеница, красивые возрастания дворы / улицы (ТСЯКП: 84–85). «Сумею ли я, печальное дитя, еще в хоромах / моих любимых милостивых ходить?» (“Viego voinnen, leinöine lapsi, / libun armoizeni linnaiziz liikutenella?” — КП: 257).
Широкий пласт атрибутивных словосочетаний описывает родной дом опосредованно, через образы дорогих родителей, вырастивших и воспитавших девушку: дорогих моих солнышек края (?) (основа, опора?); удалых моих (меня) обучавших края (?); чудесных моих (меня) взрастивших места; сущих моих (меня) принявших места; белых / светлых моих (меня) выпестовавших места; милых моих (меня) создавших берега / края; милых моих (меня) взрастивших берега края; отважного милостивого (отца) строеньица (?); моего дорогого милостивого красивые возрастания дворы / улицы (ТСЯКП: 84–85).
«Дай-ка я понежусь последние разочки в строениях моего светлого хорошего и оставлю свою молодую славную (усл.) честь-красоту на вешалках моего светлого хорошего» (“Anna vallotteliuvun vallan viimeiset kertaset valkein hyväseni vallan aššuntašijasissa ta vakauttelen vallan nuorukkaisie vuakločesvasienivalkien hyväsenivuarnapaikkojen tilasilla” — КП: 121).
Дом в текстах карельских причитаний может быть представлен в широком понимании как место проведения беззаботных дней и девичества: в дорогие праздники (на время деревенских праздников?) красивые места (для) отбивания каблуками (места плясок); красивые места кадрильных игрищ курочек. Подобного рода номинации представляют собой сложную многокомпонентную конструкцию (ТСЯКП: 85).
С родительским домом связан один из основных обрядов свадьбы: здесь невеста прощается со своей девичьей волей, кладет свои «мягкие волосики уточки <…> на воронец под потолком», на крылечко, у окошечка (КП: 68–69), под окошком (КП: 215). Оставляет волюшку под ступеньку крыльца (КП: 205), на «конек крыши моих принявших» (КП: 219). Таким образом, в сферу описания дома включаются знаковые атрибуты, являющиеся маркерами границы своего и чужого пространства. Двор в причитаниях также становится частью своего дома, и прощание с ним осмысляется как утрата «белой волюшки»: невеста «бродит последние разочки по щепочкам во дворе» (КП: 112).
«Все половицы в сенях у моих, меня создавших [усл.] / Вкривь и вкось пораздвинулись» (“Kai on sittijäzieni sinčon ložoksuot / sipa sipazilda siirrytty” — КП: 212–213).
Изображение дома невесты реализуется через описание отдельных локусов, среди которых можно выделить красный (большой) угол (кар. suuri čuppu), окно (кар. ikkun), дверь (кар. uksi). Во внутреннем устройстве дома особое место как в свадебном ритуале, так и в вербальных текстах принадлежит красному углу. Именно здесь, перед иконами, происходило скрепление договора, «оформлялось принципиальное согласие сторон на брак» [Сурхаско: 82], что нашло свое отражение в причитаниях: «Слышала ли, моя куколка, слышала ли, какие новости, моя куколка, объявили в самом чудесном углу твоих чудесных солнышек?» (“Kuundelitko, kukolkazeni, kuundelitko mimmoizet oldih kukkahien päiväzien kukkahemmilla čuppuloilla, kuukolka, kuuloutukset?” — КП: 141–142).
Сюда же, «на стык двух лавок» (КП: 143), невеста оставляет «свою белую девичью волюшку», отдавая ее своим первопредкам (КП: 359). Встречающийся в текстах причитаний вопрос: «Как ты будешь садиться в этот почетный угол?» (КП: 145) свидетельствует об окончательной потере связи с родным домом, который после замужества становится для нее уже «чужим пространством». Просватанная девушка лишается защиты семейно-родовых духов-покровителей [Конкка: 258–259]. Поэтическое воплощение утраты статуса родного дома для невесты нашло отражение в карельской эпической песне на сюжет «Сестра в гостях у брата»: «Пришла родная хорошая, / стала теперь черной. / Стала хуже волчьих ягод, / горче можжевельника» (“Hyvä tuli sugulaine, / rodih mustuigäine / Pahenit pakačin mard’akse, kargenit kadai mard’akse” — НА КарНЦ РАН: 71/31, Пиджуйла, Петровский (Медвежьегорский) р-он, 1934 г.).
К числу локусов дома, вовлеченных в тексты причитаний, относится дверь. Просватанная невеста запирается «за сотнями железных запоров в доме своего славного», а мать оплакивает запирание «как большую утратушку» (КП: 115). Дверь или ворота являются границей родного жилища, за которой невесту ожидает уже неосвоенное и, возможно, опасное пространство. Она просит «запереть (дверь) сотнями запоров, подпереть тысячами подпорок» (КП: 343).
Окно, равно как и дверь или ворота, символизирует в причитаниях границу между «своим» и «чужим» мирами [Криничная]. В текстах, приуроченных к пробуждению невесты в день перед свадьбой, мать сообщает, что «посадила под окно дорогие кусты можжевеловые» (КП: 352). В данном случае просматривается слияние двух поэтических символов: за окном начинается новая жизнь, причем для невесты она будет такой же горькой, как вкус ягод можжевельника.
В текстах свадебных рун появляется образ потайного дома, в котором необходимо было спрятать девицу, вероятно, от нежеланного замужества: «Сделайте избу потайную, / чтобы сохранить девицу» (“Luadiet myö piilopertti / missä neittä säilytellä” — УПТК: 107). Однако в некоторых вариантах брак воспринимается как положительная перемена, поскольку «за славными воротами открывается чудесная улица» (КП: 354). Репрезентация образа дома жениха с позиции невесты включает в себя описания чужой стороны, родины мужа и его родителей. В состав атрибутивных словосочетаний входят негативные оценочные эпитеты, которые и определяют отношение к иному для нее пространству: печальные жалкие края / земли; неродные края / земли; — беззаконные края / земли; дурные края / земли; без веры края / земли; холодные и чужие берега, — холодные чужие безыконные берега / места (ТСЯКП: 85–86).
Чужой дом представлен как место проживания неродных (не принадлежащих своей семье и роду) людей: (чужих) взращенных края; (чужих) принятых вотчины; (чужих) созданных места, чужих выношенных места; (чужих) в болях созданных (?) проклятые места; (чужих) принятых места / берега (ТСЯКП: 85–86), причем «чужие» берега могут быть загадочными, тоскливыми, суровыми / неприятными.
Описание чужого пространства может передаваться рядом формул, в которых содержится полярное отношение к жилищу мужа и замужеству одновременно: неприукрашенные стороны красивого цвета; неродные стороны милого света; (чужих) воспитанных (усл.) стороны бодрого света (ТСЯКП: 85–86). Дом жениха получает негативную окраску, тогда как замужество именуется «милым, бодрым, красивым светом».
В текстах причитаний жилище жениха — «чужие строеньица» (КП: 360), в которых все устроено иначе. Находящийся в окружении двор также не похож на родной: «Тут на шаг дворы длиннее, / На венец пороги выше» (“Piha on aššelda pitembi, / Kynnyš hirttä korgiembi” — НА КарНЦ РАН: 35/92, Венозеро, Беломорский р-н, 1937 г.).
Новый дом (шире — семья) не сразу принимает молодую невестку — в течение шести недель происходит постепенное приобщение нового члена к роду мужа:
“Jo tiällä tänäkin piänä Pihat pissyin kiäntelihe, Veijoistani vuottaešša, Minnäistani vuottaešša”. (НА КарНЦ РАН: 14/12, Большое озеро, Лоухский р-н, 1938 г.) | «Уже здесь сегодня Дворы перевернулись, Ожидая брата, Ожидая невесту». |
Невеста в свою очередь априори воспринимает новое для нее жилище как место, где «при первом же открытии дверей» встретят «остудными словами» (КП: 58). Зачастую чужой род ассоциируется с лесным миром, в котором члены семьи жениха уподобляются лесным животным:
“Ukko on susi talossa, Akka karhu kartanolla. Käly on kykki kynnyksellä, Nato nuoklana čupussa”. (НА КарНЦ РАН: 20/38, Ухта, Калевальский р-н, 1937–1938 гг.) | «Старик волком в доме, Старуха — медведица в усадьбе, Деверь змеей на пороге, Золовка — гвоздем в стене». |
В представлении невесты дом мужа — это «из жердей собранные постройки с очагом» (КП: 52), «подобные шалашам строеньица из хвои» (КП: 63), «строеньица их хвои» (КП: 148), «постройки, сделанные из еловой коры с порогами»: «Имеются ли дети [чужих] созданных, на [чужой] стороне чудесного света хоть из еловой коры сделанные постройки с порогами, куда прибрести мне, уходящему жалкому стану?» (“Ollahko, kuvuamisen lapset, kuvuamien puolilla kukkahie ilmasie hoti kuušen košukšita kyhätytkynnyšvieryset, kunne kyhän kualella kyhän olkuovalla kutjalla vartuol’l’ani?” — КП: 50–51). Постоянными атрибутами воображаемого чужого дома становится хвоя, ель, маркирующая иномирное чужое пространство.
Однако в некоторых вариантах причитаний дом жениха имеет положительную оценку. Невесте сообщают, что есть у жениха «за двенадцать верст сияющие каменные палаты, <…> за шестнадцать верст светящиеся строеньица с курицами» (КП: 210). В данном случае просматривается схожесть описания «иного» мира невесты со сказочным «тридесятым царством», где есть то, чего нет в реальном мире [Пропп: 282–283]. Кроме того, подобные описания могут прогнозировать счастливую жизнь в новом для нее мире.
В карельской свадебной традиции оппозиция «свой–чужой» описывается не только со стороны невесты, но и жениха. Анализ текстов карельских ёйг позволяет обнаружить подобные примеры. Тематикой ёйг была оценка молодежи добрачного периода с точки зрения деревенского сообщества, зачастую, с точки зрения семьи, рода холостого парня. Описание дома входит в круг тем, появляющихся в текстах этого жанра. Примечательно, что свой дом жениха имеет схожие с описанием своего дома невесты характеристики. В ёйгах можно выявить устойчивые атрибутивные словосочетания типа: «наши строения на родном пригорке» (КЁ: 60), «красивый дом» (КЁ: 78), «знатный дом» (КЁ: 89). Особую функцию в подобных конструкциях выполняют эпитеты с положительной оценкой. Зачастую дом описывается через образ жениха: «стан с домашнего залива» (КЁ: 79), «красивый из нашего ряда» (ряд, порядок — улица деревни) (КЁ: 80), а невесту выбирают, чтобы она стала украшением дома (КЁ: 129). Перед приходом невесты отмывают строеньица с крыльцом (КЁ: 87), т. е. готовятся к приезду нового члена рода. Небольшое количество выявленных примеров свидетельствует о том, что описание «своего» дома жениха в фольклорных текстах не получило широкого развития, но оно имело положительные характеристики.
Наряду с этим, в текстах карельских свадебных рун обнаруживаются иллюстрации чужого дома (дома невесты) для жениха (зятя). Обращает внимание необычное описание предметов, из которых сделан дом суженой: «задняя стена из костей росомахи, боковая — из костей кузнечика, косяк из костей овечки, потолок из жил овечки» (НА КарНЦ РАН: 19/61, Вокнаволок, Калевальский р-н, 1935 г.) или «потолок из чешуи леща, пол — морская гладь» (НА КарНЦ РАН: 65/129(174), Сегозерский (Медвежьегорский) р-н, 1937 г.). Использование костей как объектов, связанных с потусторонним миром, демонстрирует причастность такого жилища к «чужому» пространству.
В некоторых вариантах поэтический образ дома тещи аккумулирует признаки нескольких чужих миров: подземного, подводного, лесного и т. д.:
“Oviseinä on asunnon luista, Peräseina petran luista, Karsina kalevan luista. Laki — lahnan suomuloista”. (НА КарНЦ РАН: 20/39, Ухта, Калевальский р-н, 1937–1938 гг.) | «Дверной проем из костей жителей дома (предков), Задняя стена — из костей оленя, Подполье — из костей Калевы. Потолок из чешуи леща». |
Приезд зятя меняет не только убранство дома тещи / тестя, но и преображает самого прибывшего: «Потолок золотой заблестел / Поверх золотых кудрей зятя. / Пол железный загремел / Под медной пяткой зятя» (НА КарНЦ РАН: 49/12, Кимасозеро, Ругозерский (Муезерский) р-н, 1938 г.).
Номинация подворья также наделяется необычной цветовой символикой: «Напоите жеребца зятя / У золотого прогона, / У серебряной дороги» (НА КарНЦ РАН: 62/34, Кузнаволок, Сегозерский Медвежьегорский) р-н, 1938 г.). Центральным определением становится золотая окраска, которая, согласно выводам В. Я. Проппа, является печатью иного мира, другого царства [Пропп: 284–285]. Отметим попутно, что в основе карельского фольклора лежат древние дохристианские воззрения, на которые наложилось более позднее христианское влияние. Поэтому будут ли это золотые купола в духовных стихах или золотая солонка, принесенная похищенной девушкой из мифологического лесного царства, золото является символом не только иномирности, но и благополучия и бесценности. Неслучайно у карелов есть поговорка: “oma kodi on kuldaine” — свой дом золотой, т. е. родной дом дороже всего для человека [Федотова: 95].
Семантика эпитета золотой при описании зятя, с одной стороны, может реализовываться в значении «чужой». С другой стороны, как известно, у многих фольклорных героев золотом покрываются «наиболее значимые функционально, активные или пограничные участки тела» и на них оно воздействует благотворно [Новичкова: 180]. Так в карельских сказках у молодой девушки (например, у красавицы Насто) руки по локоть в золоте, ноги по колено в серебре. В карельских духовных стихах так маркируются святые; в свадебных рунах у желанного зятя «золотые кудри» (НА КарНЦ РАН: 49/12, Кимасозеро, Ругозерский (Муезерский) р-н, 1938 г.).
В доме тещи происходит обряд приобщения зятя к дому невесты: «Посадили моего зятя / Задом к синей стене, / Рядом с крещеным народом» (“Ištuutettu on vävystäni / Siniseinän sellin, / Da rinnal ristin rahvahašen” — НА КарНЦ РАН: 62/34, Кузнаволок, Сегозерский Медвежьегорский р-н, 1938 г.). Как правило, его угощали, как большого гостя, тем самым знакомя с родовыми устоями дома невесты, покровителями семьи:
«Положи лосося на тарелку, / Добавь свинины / Для нового зятя» (“Pane nyt lohta lautasella, / Sipase sian ihua / Uuven vävyn syötäse” — НА КарНЦ РАН: 35/96, Венозеро, Беломорский р-н, 1937 г.). «Пиво бежало из потолочной полки, / Мед из гвоздей вешалки / Для нового зятя» (“Olut juoksi orren piästä, / Mesi vuarnahan perästä, / Uuven vävyn juomiseksi” — НА КарНЦ РАН: 19/61, Вокнаволок, Калевальский р-н, 1935 г.).
Как демонстрируют примеры из волшебных сказок, еда, кормление становилось средством приобщения к своему миру [Пропп: 67]. Таким образом, зять, отведавший угощений за столом тещи / тестя, мог считаться полноправным членом новой для него семьи.
Через описание дома в текстах свадебных рун нашел отражение образ желанного жениха, «хорошего зятя», входящего в дом невесты и будущей тещи:
“Tuohan nyt vävyni tupahan Oviseinän ottamatta, Šivuseinän šiirtämättä, Kamoman kohottamatta”. (НА КарНЦ РАН: 19/61, Вокна- волок, Калевальский р-н, 1935 г.) | «Приведи ты зятя в дом, Не снимая задней стены, Не двигая стену боковую, Не поднимая косяков». |
Однако зять может и не поместиться в дом, тогда для желанного гостя снимают двери, поднимают косяки и двигают стены, т. е. убирают все возможные преграды.
“Ei mahu vävy tubah, Oven ottamatta, Kaman korrottamatta, Oččaseinän ollottamatta, Sivuseinän sirdämättä”. (НА КарНЦ РАН: 65/129 (174), Сегозерский (Медвежьегорский) р-н, 1937 г.) | «Не помещается зять в дом, Если не снять дверь, Не поднять косяки, Переднюю стену не подвинув, Боковую не переместив». |
Настоящий мотив репрезентирует процесс освоения нового дома и приобщения зятя к «чужому» для него роду невесты. В противовес этому, как известно, среди карелов также были распространены случаи, когда зять по каким-то причинам был вынужден остаться жить у своих тещи / тестя. Он становился примаком (кар. kodavävy, букв. — зять из хижины):
«В хижину пришел, примака берут в хижину» (“Kodah on tullun, kodavävy otetah kodah” — KKS 2: 349).
К такому зятю карелы относились уничижительно. Многочисленные примеры паремий и лексических выражений являются подтверждением этого. К примеру, в Реболах говорили: «Примак худший из мужчин» (“Kodavävy miehistä pahin” — KKS 2: 349). Тверские карелы подчеркивали: «Примак — плохой мужчина, хороший не пойдет в примаки» (“Kodavävy paha mužikka, hyvä mužikka ei tule kodavävyksi” — KKS 2: 349). В Рыпушкалице примака открыто называли «нахлебником, поедающим дом»: «О примаке говорят: поедающий готовый дом» (“Kodavävyy sanotah: valmehen koin syöjy” — KKS 2: 349).
Итак, дом, наряду со своими исконными функциями, приобретает в карельской свадебной лирике следующие основные значения: свой и чужой. Свой дом невесты — место взросления и проведения девичества. При описании своего дома используются эпитеты с положительной оценкой, изображение своего пространства происходит через характеристику своих родителей. Дом, двор, красный угол, оконца, конец двух лавок, крыльцо — места утраты «белой волюшки». Ворота, окно — границы «своего» и «чужого» пространства. Свой дом жениха — место взросления и холостяжничания. Дом и род мужа для невесты — чужое место, где с опаской и недоверием молодую жену встречают не родные для нее люди. Дом тещи для зятя — место, где с радостью встречают желанного зятя; в доме происходит приобщение зятя к духам-покровителям рода невесты. Дом родителей после замужества дочери — холодно встречают в доме родителей. Дом тещи для примака — уничижительное отношение к такому зятю.
Итак, представленный анализ наглядно демонстрирует, что концепт дома в традиционной культуре карелов не ограничивается собственно жилищем, а включает в себя и освоенное человеком пространство, и восприятие семейно-родовой общиной окружающего мира.
Выявленный лексический материал исчерпывающе раскрывает различные стороны семантики этого понятия. Язык, являясь отражением народной ментальности, несет в себе информацию как о материальной, так о духовной культуре. В языковой картине мира карелов дом — это, с одной стороны, микромодель всей вселенной, с другой — микромир, безопасный для человека и защищенный от внешнего воздействия злых сил. При этом для карельского крестьянина важно было не только возвести жилую постройку и обустроить ее, но и окультурить, обжить и окружающее пространство двора, и обработанных земель. Таким образом, весь этот локус становился своим, в отличие от локуса «лесного царства», в котором человек даже в рыбацкой или охотничьей избушке строго должен был соблюдать все иномирные правила, законы и запреты, установленные, по его мнению, хозяевами иного / чужого / опасного мира.
Дом становится одним из основных центров семейно-бытовой обрядности: широкий круг ритуалов напрямую или опосредованно связаны с жилищем, двором и т. д. Особое место занимает свадебная обрядность, действие которой проходит в двух противоположных пространствах, своем / освоенном и далеком / чужом. Дом становится и свадебным топосом, наполненным различными ритуалами, и поэтическим образом, иллюстрирующим обряды перехода и приобщения к «чужому» роду. Отдельные локусы (красный угол, окно, дверь) выступают сакральными знаками, характеризующими пространство как с точки зрения невесты, так и с точки зрения жениха. Дом невесты является местом сосредоточения девичьей воли в ее различных ипостасях. Причем с позиции невесты разделение на «свой–чужой» дом совпадает с обрядом «перехода» и с дальнейшим освоением нового пространства. Поэтические формулы, описывающие свой дом, как правило, практически всегда наделяются положительными характеристиками, тогда как репрезентация чужого зачастую имеет негативную окраску или в ней присутствуют элементы иного / иномирного пространства.
Список сокращений
НА КарНЦ РАН — Научный архив Карельского научного центра Российской академии наук.
ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН — Фонограммархив Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук.
Список источников
КП — Карельские причитания / изд. подгот. А. С. Степанова, Т. А. Коски; науч. ред. У. С. Конкка, предисл. А. С. Степановой. Петрозаводск: Карелия, 1976. 534 с.
КЁ — Карельские ёйги / изд. подгот. Н. А. Лавонен, А. С. Степанова, К. Х. Раутио; науч. ред. П. М. Зайков. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1993. 239 с.
УПТК — Устная поэзия тунгудских карел / изд. подгот. А. С. Степанова. Петрозаводск: Периодика, 2000. 383 с.
ТСЯКП — Толковый словарь языка карельских причитаний / изд. подгот. А. С. Степанова. Петрозаводск: Периодика, 2004. 304 с. KS — Karjalaisia sananpolvia. Toim. L. Mietinen, P. Leino. Helsinki:
Suomalaisen kirjallisuuden Seura, 1971. 640 s.
KKS 2 — Karjalan kielen sanakirja. Osa 2. Helsinki: Suomalaisugrilainen seura, 1974. 591 s.
KKS 3 — Karjalan kielen sanakirja. Osa 3. Helsinki: Suomalaisugrilainen seura, 1983. 584 s.
KKS 6 — Karjalan kielen sanakirja. Osa 6. Helsinki: Suomalaisugrilainen seura, 2005. 782 s.
SSA — Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. O. 3. Helsinki: Kotimaisen kielten tukimuskeskus ja Suomalaisen kirjallisuuden Seura, 2000. 505 s.
About the authors
Valentina P. Mironova
Karelian Research Centre, The Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: tutkija@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6310-5561
PhD (Philology), Senior Researcher, The Institute of Language, Literature and History
Russian Federation, ul. Pushkinskaya 11, Petrozavodsk, 185910, Republic of KareliaLyudmila I. Ivanova
Karelian Research Centre, The Russian Academy of Sciences
Email: ljuchiki@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9549-2674
PhD (Philology), Associate Researcher, The Institute of Language, Literature and History
Russian Federation, ul. Pushkinskaya 11, Petrozavodsk, 185910, Republic of KareliaReferences
- Bayburin A. K. Zhilishche v obryadakh i predstavleniyakh vostochnykh slavyan [Dwelling in Rites and Representations of Eastern Slavs]. Moscow, Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ., 2005. 224 p. (In Russ.)
- Bankova T. B. Dictionary of Siberian Rituals: to the Formulation of the Problem (on the Basis of Family Rituals). In: Aktual’nye problemy derivatologii, motivologii, leksikografii [Actual Problems of Derivatology, Motivology, Lexicography]. Tomsk, Tomsk State University Publ., 1998. 238 p. (In Russ.)
- Bidermann G. Entsiklopediya simvolov [Encyclopedia of Symbols]. Moscow, Respublika Publ., 1996. 335 p. (In Russ.)
- Bykovskaya T. V. Poetics of Home: Icons of Internal Space of the Person. In: Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern Problems of Science and Education], 2013, no. 4. Аvailable at: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9819 (accessed on December 1, 2021). (In Russ.)
- Ivanov Vyach. Vs., Toporov V. N. Slavyanskie yazykovye modeliruyushchie semioticheskie sistemy (drevniy period) [Slavic Language Modeling Semiotic Systems (Ancient Period)]. Moscow, Nauka Publ., 1965. 246 p. (In Russ.)
- Ivanova L. I. Personazhi karel’skoy mifologicheskoy prozy: issledovaniya i teksty bylichek, byval’shchin, poveriy i verovaniy karelov [Characters from Karelian Mythological Prose: Research and Texts of Stories, Legends, Superstitions and Beliefs of the Karelians]. Moscow, The University of Dmitry Pozharsky Publ., 2012, part 1. 557 p. (In Russ.)
- Konkka U. S. Poeziya pechali: karel’skie obryadovye plachi [Poetry of Sorrow: Karelian Ritual Laments]. Petrozavodsk, Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences Publ., 1992. 295 p. (In Russ.)
- Krasheninnikova Yu. A. A House and Notions of It in Russian Folk Wedding Speeches. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics], 2021, vol. 19, no. 3, pp. 7–34. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1633631294.pdf (accessed on December 1, 2021). DOI: 10.15393/ j9.art.2021.9344 (In Russ.)
- Krinichnaya N. A. The Window of a Peasant Dwelling: Toward the Ideas of the Borders and the Contact Zone Between the Worlds in Northern Russian Mythology. In: Granitsy i kontaktnye zony v istorii i kul’ture Karelii i sopredel’nykh rayonov. Gumanitarnye issledovaniya [Borders and Contact Zones in the History and Culture of Karelia and Adjacent Regions. Humanitarian Researches]. Petrozavodsk, Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences Publ., 2008, pp. 131–141. (In Russ.)
- Lotman Yu. M. Dolls in the System of Culture. In: Izbrannye stat’i: v 3 tomakh [Selected Articles: in 3 Vols]. Tallinn, Aleksandra Publ., 1992, vol. 1, pp. 377–380. (In Russ.)
- Nikitina S. E., Kukushkina E. Yu. Dom v svadebnykh prichitaniyakh i dukhovnykh stikhakh: opyt tezaurusnogo opisaniya [The House in Wedding Lamentations and Spiritual Verses: the Experience of Thesaurus Description]. Moscow, The Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences Publ., 2000. 215 p. (In Russ.)
- Novichkova T. A. Epos i mif [Epos and Myth]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2001. 253 p. (In Russ.)
- Poturaeva E. A. Metaphorical Designations of Concept “House” in Russian Language Picture of the World. In: Yazyk i kul’tura [Language and Culture], 2010, issue 1 (9), pp. 58–73. (In Russ.)
- Propp V. Ya. Istoricheskie korni volshebnoy skazki [The Historical Roots of the Fairy Tale]. Leningrad, Leningrad State University Publ., 1986. 365 p. (In Russ.)
- Surkhasko Yu. Yu. Karel’skaya svadebnaya obryadnost’ (konets XIX — nachalo XX v.) [Karelian Wedding Ceremony (Late 19th — Early 20th Century)]. Leningrad, Nauka Publ., 1977. 273 p. (In Russ.)
- Fedotova V. P. Frazeologicheskiy slovar’ karel’skogo yazyka [Phraseological Dictionary of the Karelian Language]. Petrozavodsk, Kareliya Publ., 2000. 260 p. (In Russ.)
- Silvonen V. Apeus Arkistoäänitteellä. Äänellä itkeminen performanssina ja affektiivisena käytäntönä Aunuksen Karjalassa [Affectivity and Emotion in the Archival Tapes: Lamenting as Performance and Affective Practice in Olonets Karelia]. Helsinki, The University of Helsinki Publ., 2022. 202 p. (In Finnish)
- Stepanova E. Seesjärveläisten itkijöiden rekisterit. Tutkimus äänellä itkimisen käytänteistä, teemoista ja käsitteistä [Registers of Seesjärvi Lamenters: Study of Practices, Themes and Concepts of Lamenting]. Joensuu, Finnish Society for Folklore Research Publ., 2014. 324 p. (In Finnish)
- Virtaranta P. Vienan kansa muistelee [The People of White Sea Karelia Recall]. Porvoo-Helsinki, Werner Söderström Ltd Publ., 1958. 804 p. (In Finnish)
Supplementary files