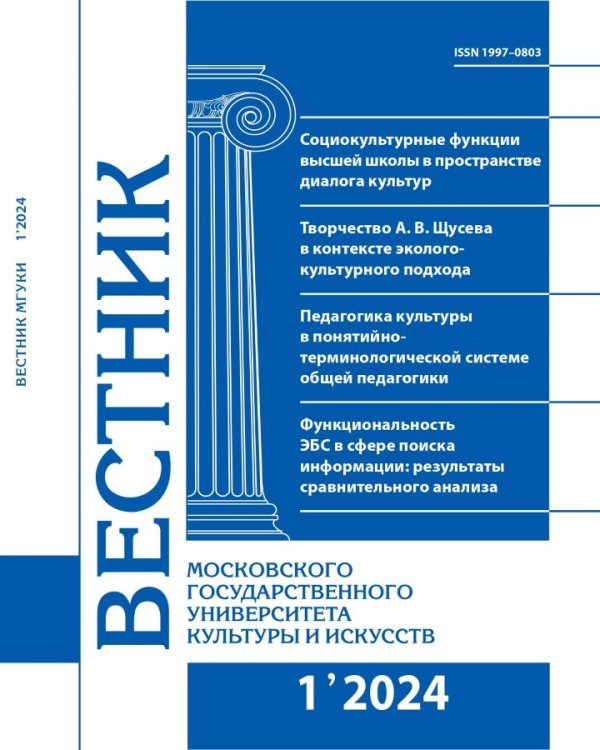Перспективы аналитического функционирования антропопрактики в музыкально-исполнительском образовании
- Авторы: Серегин Н.В.1
-
Учреждения:
- Алтайский государственный институт культуры
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 125-130
- Раздел: ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
- URL: https://journal-vniispk.ru/1997-0803/article/view/267768
- DOI: https://doi.org/10.24412/1997-0803-2024-1117-125-130
- ID: 267768
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлен опыт анализа и типологизации антропопрактики музыкального образования и воспитания. Раскрываются инновационные возможности включения в процесс подготовки музыканта элементов личностного моделирования ценностно-смысловой основы музыкального искусства, исходящие из гуманитарно-антропологической методологии музыкальной психологии, педагогики, музыкознания и исполнительского искусства. Предложены перспективы воспитания аналитического мышления в процессе работы над музыкальным произведением на основе анализа реальных событий профессиональной музыкальной деятельности, выявления, сопоставления антропологических оснований музыкально-исполнительского искусства и опыта построения учебного процесса. Определены перспективы корреляции текущих вариантов анализа и интерпретации музыкального материала, отражающего разные эпохи, стили, формы с современными изысканиями исследователей, исполнителей, преподавателей, а также – с востребуемыми практикой традициями и доказавшими свою жизнеспособность культурно-ценностными ориентирами, возникающими в процессе работы с идеальными представлениями, описанными в антропопрактике образно-интонационного, пластического, художественно-творческого потенциала исполнительского искусства.
Ключевые слова
Полный текст
Интуитивные и научно обоснованные накопления антропопрактик в искусстве и культуре основываются на воспитательном потенциале художественной деятельности человека. Начиная с XIX века, профессиональное музыкальное образование исходит из опыта развития интеллектуально-творческого потенциала обучающегося, соответствующего профилю профессии и уровню его художественного воспитания. На этом пути поисков и достижений происходило понимание сущностных характеристик оптимальной модели музыканта-исполнителя, основывающейся на стремлении глубже понять культуру музыкального искусства, закономерности художественного образования и воспитания музыканта. Всесторонний анализ проблем помогал выстроить перспективы их решений в тех направлениях, где он проводился по всей совокупности дисциплин, изучающих человека и становление личности в искусстве. Именно на этом опыте накапливались и расширялись исследовательские знания, которые позволяют сегодня проследить антропологические основания музыкального искусства, образования и воспитания, помогающие найти способы преодоления препятствий дальнейшего развития, которые не замечены или недостаточно полно и эффективно использованы нашими предшественниками [6].
Отечественная педагогика и музыкально-исполнительское искусство на всём протяжении своего развития поддерживали устремления к высшим идеалам. Музыкально-образовательный процесс развивался сообразно истории, теории и практики мирового исполнительского искусств, включая в контекст воспитания профессионала механизмы последовательного восхождения обучающихся от минимальных к оптимальным вариантам программ, использующих наиболее эффективные приёмы воздействия многовариантного звукомузыкального спектра. Для передачи этого профессионального инструментария формируются умения и навыки исполнительского аппарата музыканта, отражающего пластическими средствами нотный материал, а также – диагностические технологии, определяющие лучшие варианты построения образовательно-воспитательного процесса [9].
Оптимально развивающееся музыкально-исполнительское образование опирается на гуманитарно-антропологическую методологию педагогики и психологии художественного творчества. Анализируя «процесс профессиональной подготовки специалистов в системе классического музыкального образования в целостном проявлении всех его функций и комплексной реализации всех структурных элементов» [2, с. 7], исследователи обосновывают точки эффективной систематизации и возрождения лучших традиций, подтверждая возможности инновационного прорыва на основе перспективных условий, разработки и внедрения новых средств и современных технологий. Это дает возможность выявить основные воспитывающие и активизирующие ценностно-личностные потенциалы эффективных музыкально-образовательных преобразований. Реальные события профессиональной музыкальной деятельности востребуют традиции и доказавшие свою жизнеспособность культурно-ценностные ориентиры, коррелируют их с текущими и возникающими идеалами образно-интонационного и пластического художественного потенциала всех видов искусства, корректируя образовательно-воспитательную ситуацию, трансформируя условия актуализации традиционных антропопрактик, варианты их моделирования в текущем процессе воспитания и создания инновационных исполнительских технологий.
Приступая к музыкальному образованию, мы, прежде всего, определяем воспитательные возможности и перспективы занятий с конкретным музыкальным материалом, имеющим миметические и энергетические эмоции, эмоциональные процессы [10, с. 16], а это значит, что содержание учебного процесса начинается с музыкального содержания, работы с репертуаром [11, с. 13–15]. Уже в начальный период обучения, при воспитании элементарных теоретических основ музыкальной культуры, традиционно включается нотный материал, опирающийся на образно-интонационные, ритмические, ладовые и другие аналогии в соответствии с жизненным опытом обучающихся. Параллельно проводится работа по освоению этого опыта на соответствующем профилю инструментарии. И здесь, в соответствии с репертуаром, формируются навыки антропологического анализа и интерпретации музыкального материала, отражающего разные эпохи, стили, формы. Востребуются соответствующие задатки, анализируется генезис способностей, воплощающих музыкально-звуковые представления сознания, варианты преодоления проблем в процессе изучения, интерпретации и музыкального исполнения. Этот по сути своей антропологический анализ проблематики музыкальной культуры и психологического сознания индивида, его подготовленности к обучению в учебном процессе знакомит обучающегося с многовариантностью восприятия музыкального материала, позволяет типизировать совокупности интерпретаторских и исполнительских решений.
Опоры на музыкальную, социальную и психолого-педагогическую антропологию требует учебно-воспитательная и исполнительская деятельность, изучение репертуара, отражающего события и музыкальные содержания, соответствующие времени, месту, условиям его создания и исполнения. И несмотря на множественные и относительно утвердившиеся подходы к работе над музыкальным произведением, основывающиеся на его содержательном и структурном контексте, проблема интерпретации музыкального произведения остаётся актуальной [5]. Более того, эта проблема постоянно усугубляется по мере развития музыканта-исполнителя, понимания им психологии общества, отражающегося в содержании музыкального искусства и, в частности, в вопросах интерпретации музыки разных эпох и стилей.
Современные технологические и психолого-педагогические исследования предоставляют инновационные варианты организации учебно-воспитательного процесса [2, 4, 7 и др.]. Эти исследования основываются на концептуальных выводах Б. В. Асафьева, А. Н. Сохора, Л. А. Мазеля, В. В. Медушевского и многих других учёных, сформировавших для нас музыкально-образные подходы, эмоционально-художественные перспективы построения объектно-субъектных и рационально-эмоциональных соотношений действительности с эмоциональным переживанием исполнителя в процессе построения музыкальной композиции. Антропопрактика эстетического, искусствоведческого, психологического, педагогического и культурологического подходов к образованию утверждает когнитивно-эмоциональное основание музыкально-исполнительского образования, обосновывает построение образовательного процесса на воспитании памяти, интеллекта, совокупности представлений, способствующих формированию эмоциональных оценок, переживаний, эмоциональных предпочтений и самовыражений посредством соответствующих технических решений.
Основной движущей силой творческой деятельности в искусстве Л. С. Выготский считал взаимодействие воображаемого и эмоционально осмысливаемого [3]. Б. В. Асафьев в подтверждение этого факта доказал возможность достижения художественного образа в результате построения убедительной для психики человека художественной формы [1]. Психолого-педагогические исследования в области музыкально-исполнительской деятельности и образования обращают внимание на важность музыкальных эмоций и порождающего эмоциональность воображения. В соответствии с этим воспитание музыкальности включает развитие всей эмоциональной сферы и, в частности, эмоциональной отзывчивости на музыку. В антропологии психологического искусствоведения прослеживается ведущая роль художественного формообразования в воспитании художественных оснований эмоций, чувств, мыслей, желаний, интересов, поведенческих действий и воображений [2, с. 33].
Музыкально-исполнительская эмоциональность основывается на антропологии исследований художественно-психологической эмоциональности. Разумеется, виртуальная музыкальная эмоция отличается от реальной, взятой из жизни. Музыкальное произведение представляет модельный ряд витальных сущностей, элементы которого требуют интерпретации средствами музыкального языка и исполнительского искусства. Исследователи, основываясь на фактах несоответствия реальных жизненных эмоций с музыкальными, выявляют специфичность последних [2, с. 34, 7, с. 15–16 и др.]. Научные разработки в этом направлении типологизируют интонации и музыкальные лады по степени эмоциональности, изобразительности, жанровости, стилистике, композиционности, а также систематизируют их по различным характерным особенностям эмоционального воплощения, выражения, возбуждения. Типологизация и систематизация позволяет вести дальнейший анализ принципов функционирования эмоциональных средств музыкального интонирования. Использование данных исследований в учебном процессе, включение аналитической работы воспитывает исполнителя, расширяет его потенциал как носителя эмоциональных возможностей музыкального произведения. К примеру, конкретизация принципа множественности и концентрации воздействия при работе над музыкальным произведением, раскрывает перед исполнителем перспективы достижения важнейших целей развития и формообразования интонируемого им материала. На основании антропологии эстетических категорий эмоции в музыкально-исполнительском искусстве приобретают смысл художественной формы в исполнении музыканта-интерпретатора. Антропологическая диагностика интонационного смысла музыкального материала, интонационно-исполнительских возможностей музыканта, включая пластические, формирует перспективные инновационные внедрения в музыкальном образовании. Художественное формообразование активизирует исполнительские возможности музыканта на расширение смысловых оттенков и маркеров их различения у творца, и при этом воспитываются и раскрываются интерпретативные возможности музыканта [5, с. 7]. Безусловно, нельзя забывать и о возможностях образовательно-аналитической антропологии в воспитании восприятия. Не секрет, что для большинства обучающихся сегодня музыкантов сложная музыка является проблемой. При всей потенциальной доступности она многообразна, что усложняет её понимание. А для этого необходимо постоянно исследовать и изучать язык музыки, её антропологию. При создании соответствующей образовательно-воспитательной среды такая работа формирует возможность приобретения потенциального ключа к музыкальному искусству.
На всех этапах оптимально выстроенной работы музыканта-исполнителя моделируется корреляционный процесс взаимодействия восприятия и интерпретационной переработки мотивов, фраз, предложений, разделов и формирования музыкальной формы. Психофизическое интонирование композиторской мысли, услышанных исполнительских вариантов и собственных технических решений, во всём своём противоречии систематизируются индивидуальной интонационно-слуховой культурой и мышлением.
Антропоцентричное воспитание исполнителя учитывает важность постоянного мониторинга и развития у музыканта перцептивно-поисковой деятельности. Для этого создаются многоуровневые учебно-воспитательные условия, включая вербализационные, формирующие стратегические и тактические векторы и технологии взаимодействия исполнительской и педагогической деятельности [5, с. 43]. При этом особую роль играет профессиональная этика, психологическая оснащённость, соотношение идеального и реального в работе с учеником, реализуемые в классе и на сцене. Такая организация выводит на весьма важные аспекты в модели антрополого-ориентированного построения заключительного этапа, где интерпретационно-аналитическая работа включает всю совокупность моторных действий исполнителя, а зачастую во многом поглощается ею. Именно здесь концентрируются результаты психолого-педагогической и психофизической работы музыканта, вбирания всей совокупности культурно-исторических событий, которые он запечатлел и включил в свою музыкально-исполнительскую деятельность. Здесь вскрываются и корректируются штампы, формируются перспективные линии дальнейшего развития музыканта, его интерпретаторских качеств, требующих поиска новых анализаторов, гармонизирующих интонационные, ритмические, формообразующие построения музыкального материала и традиционного потенциала музыкознания. Но происходит это лишь в случае объективной антрополого-ориентированной работы.
Об авторах
Николай Васильевич Серегин
Алтайский государственный институт культуры
Автор, ответственный за переписку.
Email: SereginNV@yandex.ru
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой народных инструментов и оркестрового дирижирования, заслуженный работник культуры Российской Федерации
Россия, БарнаулСписок литературы
- Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1–2. Ленинград: Музгиз, 1963. 378 с.
- Барашкова Е. В., Дробышева-Разумовская Л. И., Дорфман Л. Я. Эмоции в музыке и музыкально-исполнительской деятельности как субъектный фактор музыкального образования // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. 2022 Т. 10 № 2 С. 29–45.
- Выготский Л. С. Психология искусства. Москва: АСТ, 2018. 480 с.
- Литова З. А. Сущность понятия «технология» на современном этапе // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета 2019. №2(50). С. 164–172.
- Малинковская А. В. Педагогические аспекты исполнительской интерпретации музыкального произведения // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. 2021. Т. 9. № 3. С. 29–47.
- Николаева Е.В. Музыкальное образование в России: историко-теоретический и педагогический аспекты: автореф. дис. … доктора пед. наук. Москва. 2000. 62 с.
- Cавельев В. В. Восприятие эмоционального компонента музыкального лада // Психологические исследования эмоций, 2012, № 6 С. 107–117.
- Сизова Е. Р. Профессиональная подготовка специалистов в системе классического музыкального образования: автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2008. 43 с.
- Торопова А. В. Психолого-педагогическая концепция изучения и развития музыкального сознания личности / Э. Б. Абдуллин и др. // Методология педагогики музыкального образования: учебник, под ред. Э. Б. Абдуллина. Москва: Гном, 2011. С. 346–357.
- Холопова В. Н. Методика анализа музыкальных эмоций: Учебное пособие для музыкальных вузов. Москва: Московская консерватория, 2018. 36 с.
- Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 2-е изд., испр. Санкт-Петербург: Лань, 2001. 496 с.
Дополнительные файлы