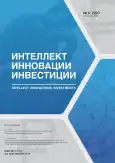Критерии научности и их эволюция как проблема философии науки
- Авторы: Бряник Н.В.1
-
Учреждения:
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
- Выпуск: № 6 (2023)
- Страницы: 126-133
- Раздел: Философские науки
- URL: https://journal-vniispk.ru/2077-7175/article/view/287414
- DOI: https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-6-126
- ID: 287414
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Актуальность исследования критериев научности обостряется с каждым новым этапом в развитии науки, и подобная ситуация сопровождает науку с того времени, когда она обрела статус эпицентра новоевропейской культуры. Ориентация науки на получение достоверного знания, обладающего универсальностью и общезначимостью, применимого ко всем сферам человеческой деятельности (что особо отмечал В. И. Вернадский), становится привлекательной не только для подлинных исследователей, но и для всех тех, кто хотел бы говорить от имени науки, не имея на то никаких оснований. Цель статьи – показать сложность процесса формирования критериев научности на основных этапах развития европейской науки, а также представить поиск в рамках философии науки общенаучного критерия научности. Учитывая доминирующую методологическую тенденцию в современной философии науки – обращение к истории науки, автор проводит сравнительный анализ критериев научности, сложившихся в Античности, Средневековье и Новом времени. Этот метод исследования дополняется обращением к внутренним и внешним факторам, влияющим как на формирование критериев научности, так и на их подмену лженаучными идеями и построениями. В результате проведенного исследования мы приходим к следующим выводам, обладающим новизной. Во-первых, критерий научности носит исторический и системный характер, поэтому точнее было бы говорить о критериях научности. Во-вторых, единственным признаком, объединяющим исторические формы критериев научности, являются особенности научного отношения к миру. И, в-третьих, возможность нарушения критериев научности заложена в относительном характере научных знаний, но действительностью эта возможность становится при определенных социально-политических обстоятельствах. Практическое значение проведенного исследования видится в том, что оно создает методологическую базу для оценки на научность/лженаучность гипотетических построений в случаях спорных для научного сообщества ситуаций.
Полный текст
Введение
Объектом рассмотрения философии науки является наука, но чтобы разобраться в том, что она собой представляет, необходимо сопоставить и сравнить ее с тем, что таковой не является (т. е. с ненаукой), включая крайний вариант в форме антипода науки, – антинаукой, лженаукой, псевдонаукой и т. п. Причем надо иметь в виду, что это не только чисто теоретический вопрос (в обобщенном виде представленный именно в философии науки), но и социально значимая проблема, обретающая тем более сильное напряжение, чем большую роль начинает играть наука в жизни общества, когда на современной стадии она становится решающим фактором существования и развития современной цивилизации.
Можно приводить разные аргументы в пользу подобного, по сути, избранного статуса науки в современном социуме, но, в конечном счете, они сводятся к тому, который мы находим у В. И. Вернадского, когда он пишет: «… научное мировоззрение могущественно влияет на все формы жизни, мысли и чувства человека и заключает в себе единственные проявления истины, которые для всех времен и для всех людей являются бесспорными» [3, с. 69]. Современное человечество пришло к признанию общеобязательности, универсальности и вневременности истин науки как одной из форм жизни и духовного творчества. И тогда она (наука) вправе дистанцироваться от всех остальных форм творчества, которые по указанной причине будут стремиться со своей стороны подстроиться под нее и претендовать на несение истины о человеке и окружающем мире.
Размышляя о науке, вписанной в общественную жизнь и потому предстающей в качестве научного мировоззрения, В. И. Вернадский замечает: «…его (научное мировоззрение – Н. Б.) проникает борьба с философскими и религиозными построениями, не выдерживающими научной критики…» [3, с. 69], другими словами, не отвечающими требованиям научности. В этой связи и возникает необходимость отделения научных воззрений от ненаучных (религиозных, философских, художественных, нравственных и пр.).
Становление критериев научности в Античности и Средневековье
Когда мы обращаемся к этапам, предшествующим современному типу науки, то обнаруживаем, что в Античности наука пробивала себе путь сквозь философские умозрения и спекуляции, а в Средневековье она (вместе с философией) рассматривалась как служанка богословия, и не должна была входить в противоречие с религиозными догматами. Хотелось бы упомянуть и такой факт, что Гете, в памяти поколений связавший свое имя с поэзией, не в меньшей степени старался оставить свой след и в науке [10]. Но творческое мышление, достигшее у Гете уровня «точной фантазии», не позволило ему получить результаты, отвечающие критериям современной ему науки.
Если конкретизировать данные утверждения и проследить, какие этапные трансформации претерпевали критерии научности в истории европейской науки, то вот какие события в истории становящейся и развивающейся европейской науки представляют для нас интерес.
Согласно концепции Э. Гуссерля [5], в Античности совершается революция в культуротворящем способе существования человечества – возникает теоретико-созерцательное отношение к миру, и хотя оно было присуще образу жизни философов и ученых, тем не менее, оно становится отличительной чертой духовности европейцев. И здесь наука (вкупе с философией) противополагается по своей сути и направленности практико-религиозному отношению к миру. Теоретико-созерцательное отношение сформировало теоретико-доказательную форму знания в математике и науках о природе, которая, в свою очередь, и задала критерии научности, на основании которых тысячелетние достижения Древнего Востока отлучались от науки/философии, т.к. оценивались Гуссерлем как ненаучные и нефилософские. Приведем лишь один из его аргументов, где он рассуждает так: «...это искажение, извращение смысла, когда человек, воспитанный в духе созданного в Греции и развитого в новое время научного образа мышления, начинает говорить об индийской и китайской философии и науке (астрономия, математика), а, следовательно, по-европейски интерпретирует Индию, Вавилон, Китай» [5, с. 115]. Доведенная до логического конца европоцентристская позиция мыслителя завершается признанием того, что именно эта форма духовного творчества (наука/философия), несмотря на то, что была отличительной чертой образа жизни узкого круга лиц (философов и ученых), определила отличительные черты европейского менталитета с его критичностью и рациональностью. Согласно гуссерлевской позиции, ненаучно-нефилософский менталитет, напротив, привязан к традициям, повседневной жизни людей, где органично присутствуют и магическо-символические, и мистико-иррациональные действия и сущности.
Что касается Средневековья, то связка его с наукой большинству историков науки до сих пор кажется сомнительной (и тянется эта оценка еще с эпохи Просвещения) – сам дух средневековой Европы воспринимается как ненаучный, временами пронизанный антинаучностью к тем представлениям о мире, которые шли вразрез с христианским мировоззрением. Двусмысленный статус того, что собой представляла средневековая наука, можно продемонстрировать на отношении к наследию Аристотеля. Так, с одной стороны, как отмечает известный историк философии и науки А. Койре, в средневековых университетах «Аристотель был поистине находкой для профессоров. Аристотель учил и изучался, обсуждался и комментировался» [6, с. 56]. Это происходило потому, что «… труды Аристотеля образуют настоящую энциклопедию человеческого знания. За исключением медицины и математики, в них содержится все: логика … физика, астрономия, метафизика, естественные науки, психология, этика, политика…» [6, с. 55–56]. А с другой – в зрелое Средневековье, «…начиная с 1210 г. неоднократно запрещалось чтение курсов по натурфилософии и метафизике Аристотеля в Парижском университете, а 1277 г. запомнился знаменитым осуждением 219 тезисов преимущественно аристотелевского и аверроистского толка, что стоило карьеры некоторым парижским преподавателям» [4, с. 235]. Подчинение науки ненаучным/вненаучным формам творчества в данную эпоху нашло воплощение в срастании ее с этими формами; в качестве примера сошлемся на название одной из работ Августина Аврелия (IV в. н. э.) «Христианская наука, или Основания св. герменевтики и церковного красноречия». В. И. Вернадский считает, что в этот период наука существовала в неадекватных и даже искажающих ее суть формах (алхимия, астрология и др.). Вот одна из его оценок: «В течение всех Средних веков … все разбивалось вокруг твердыни… господствующих учений, и только приложения научного знания, лишенные обобщающей мысли, могли поддерживаться требованиями жизни» [3, с. 81]. Стихийное использование не получивших теоретического обоснования научных идей и знаний не может отождествляться собственно с научной деятельностью. Это различение науки и ее приложений средневековая культура восприняла от Античности, где наука/эпистема, постигающая мир природы (=естества), противопоставлялась технэ – тем знаниям, которые были связаны с человеческой деятельностью, созидающей искусственный мир и служащей не поиску истины, а пользе и выгоде.
Критерии научности в контексте вопросов об истине
Из изложенного мы можем заключить, что потребность в установлении критериев научности возникает и сохраняет значение при необходимости отграничить науку от того, что таковой не является. Но есть еще один значимый аспект, требующий определиться с критериями научности, который обусловлен уже не внешними, а внутренними для науки причинами; и при этом он также завязан на отношении науки к истине. Если в ранее рассмотренном аспекте наука превозносилась над остальными формами жизни как носительница общеобязательных, вневременных и универсальных истин, то что касается самих научных истин, их оценка в версии В. И. Вернадского такова: «современное научное мировоззрение – и вообще господствующее научное мировоззрение данного времени – не есть maximum раскрытия истины данной эпохи» [3, с. 67]. А вот его еще более категоричное суждение: «Научное мировоззрение не есть научно истинное представление о Вселенной – его мы не имеем» [3, с. 68].
В данных утверждениях, по сути, выражено принципиальное для эпистемологии положение, а именно: истина имеет относительный характер, а это значит, что в ней адекватное и достоверное переплетено с ложью и заблуждением. Следовательно, при определенных обстоятельствах наука, устремленная к достижению истины, способна бить мимо цели – продуцировать ложное, расходящееся с наукой, то, что наука стремится обойти и преодолеть. И отличить истину от лжи бывает весьма затруднительно, а по своему социальному статусу они даже могут меняться местами. Яркий тому пример – господство геоцентрической системы мира в античную эпоху, хотя уже в то время присутствовали и гелиоцентрические представления (например, у представителя пифагорейской школы Филолая или у Аристарха Самосского (которого историки науки не зря называют «Коперником древности»)).
Из этого атрибутивного присутствия в относительных истинах элементов несоответствия, неадекватности познаваемому и способна вызреть при определенных социальных и личностно-психологических обстоятельствах оппозиция науки и лженауки/псевдонауки. В. И. Вернадский так описывает подобные ситуации: «Отдельные мыслители, иногда группы ученых достигают более точного … познания, но не их мнения определяют ход научной мысли эпохи. Они чужды ему. Господствующее научное мировоззрение ведет борьбу с их научными взглядами, как ведет оно ее с некоторыми религиозными и философскими идеями» [3, с. 67–68].
Если задаться вопросом, когда возник антагонизм науки и лженауки, то следует признать, что в чистом виде это противостояние заявляет о себе тогда, когда наука становится доминантой культуры, и под ее критерии пытаются подстроиться те феномены, которые и близко таковыми не являются. Это происходит в европейской культуре в Новое время. И постепенно, начиная с ХVI в., со становлением науки современного типа, этот процесс становится все более заметным и набирает силу до такой степени, что в последнее столетие институционально оформляется движение «в защиту науки», оказывающее противодействие различным проявлениям псевдонауки.
Заслуживает внимания ситуация, связанная с полемикой вокруг открытия Н. Коперника. По большому счету, именно его работа «О вращении небесных сфер» (1543 г.) радикальным образом изменила картину мира и подвела к необходимости предъявления новых требований к построениям, претендующим на истину. С дистанции сегодняшнего дня особый интерес представляет позиция лютеранского богослова Осиандера, дошедшая до нас в форме феномена, получившего название «осиандеризация». Современный специалист в области астрономии так излагает суть споров, развернувшихся в истоках научной революции Нового времени: «Осиандер полагал, что "нет необходимости, чтобы гипотезы астрономов были верными или даже вероятными, достаточно только одного, чтобы они давали сходящийся с наблюдениями способ расчета". Он писал: "Астроном скорее примет ту [гипотезу], которая будет самой легкой для понимания. Философ, вероятно, потребует в большей степени похожую на истину; однако никто из них не сможет ни постичь что-нибудь истинное, ни передать это другим, если это ему не будет сообщено божественным откровением"» [12, с. 37]. В рассуждениях Осиандера, по сути, констатируется ситуация переходного периода: середина ХVI столетия – это время, когда происходит постепенный отказ от базовых посылок средневековой науки, признающей за истиной только Истину божественного откровения. Здесь уже в качестве решающего заявлен важнейший элемент научного подхода – согласование с данными наблюдений. Это становится доминантой в гипотетических построениях астрономов, что позволило, например, И. Кеплеру менее чем через сто лет открыть законы движения планет Солнечной системы. А вот что касается истины, то, согласно Осиандеру, «пусть никто не ожидает получить от астрономии чего-нибудь истинного, поскольку она не в состоянии дать что-либо подобное» [12, с. 37]. Гипотетические построения, дающие объяснения и позволяющие предсказывать, создаются на основе соглашений заинтересованного сообщества, размаха воображения ученого, социального запроса и т. п. – другими словами, они зависят от человеческого фактора и всего того, что связано с ним, а не от познаваемого объекта.
Если принять позицию Осиандера, то тогда за научную истину можно признавать все, что угодно, в т. ч. и такие взгляды, которые сознательно искажают ее, тем самым за науку может выдаваться псевдонаука/лженаука. Одно дело, когда этот подлог распространяется в соцсетях «специалистами» типа Юрия Лозы о плоской Земле; и совсем другое, когда люди, имеющие официально признанный статус ученого, выдают научному сообществу, да и обществу в целом, идеи и гипотезы, которые ставят под сомнение или попросту отрицают фундаментальные положения и факты, уже устоявшиеся в науке.
Факторы, провоцирующие лженауку и необходимость защиты науки
Если в период становления современного типа науки шла выработка критериев научности и псевдонаучные построения были ее естественным сопровождением, то в последнее столетие из-за авторитета науки, ее значимости в жизни земной цивилизации, а также благодаря многообразным скоростным средствам коммуникации возникновение и расползание лже- и псевдонаучных идей приобретает характер пандемии. Это не могло не вызвать ответной реакции со стороны научного сообщества, хотя нередко создателями псевдонаучных идей являются и его представители. И это не стоит воспринимать как некую игровую ситуацию, когда вновь появляющимся научным открытиям противополагаются (или на них паразитируют) их антиподы. В целом ряде случаев, когда лженаука провоцировалась политико-идеологическими факторами, как это было, например, в случае с «лысенковщиной» в биологии, борьба науки с псевдонаукой сопровождалась человеческими жертвами. В подтверждение приведем только название двух заголовков из «знаменитого» доклада [8] Т. Д. Лысенко на сессии ВАСХНИЛ 1948 года, где он, аргументируя противостояние генетики как «буржуазной реакционной науки» с отстаиваемой им «колхозно-совхозной агрономической науки», давал такие оценки: «История биологии – арена идеологической борьбы»; «Два мира – две идеологии в биологии».
Противостояние науки и лженауки приобретает такой масштаб, что к концу ХХ столетия в целом ряде стран возникают своеобразные организации по борьбе с указанным явлением. В странах Западной Европы и США их чаще называют «обществами скептиков». В России в 1998 г. по инициативе академика, лауреата Нобелевской премии В. Л. Гинзбурга была создана Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН, которая стала издавать бюллетень «В защиту науки». Представляет интерес трактовка лженауки, данная академиком, физиком-экспериментатором Э. П. Кругляковым, долгое время возглавлявшим эту Комиссию, когда он заявляет: «Лженаука – это то, что противоречит твердо установленным научным фактам... есть определенная логика познания любого объективного процесса… Гипотеза, по сути, предположение… Теория – это гипотеза, которая находит экспериментальное подтверждение, причем, эксперименты должны воспроизводиться другими исследователями. А представители лженауки либо откровенно подтасовывают факты, либо никаких экспериментов вообще не проводят. Они собирают некие отрывочные данные из разных источников, компонуют их по своему усмотрению и делают ни на чем не основанные утверждения» [7, с. 13]. Э. П. Кругляков не церемонится в подборе понятий для квалификации роли лженауки и ее носителей – для него это нетерпимое явление экспансии бредятины и ахинеи, это разгул жуликов и мошенников от науки, из которых хоть какое-то оправдание могут иметь душевно больные idée fixe.
В философии науки на сегодняшний день наиболее разработан эпистемологический анализ критериев научности. Так, уже в 2000-х появился ряд интересных исследований в этом направлении [См.: напр., 11, 15]. Важность его, как было ранее отмечено, заключается в том, что он позволяет оценить возможности выхода за границы научности, таящиеся в самом научном знании; тогда как социокультурные факторы могут превратить эти возможности в действительность. Если выразить суть эпистемологической проблемы, связанной с критериями научности, то ее нередко связывают с принципом демаркации (активно использовал данный принцип К. Поппер [9]), который позволил бы отыскивать такие признаки знаний, по наличию или отсутствию которых можно было бы обоснованно судить о принадлежности тех или иных феноменов к научным знаниям.
Критерии научности этапа классической науки
Как правило, проблема критериев научности решается через оценку на основе определенных признаков (а их насчитывается более двух десятков) того, что претендует на науку, а одновременно с этим ненаучных (таких, как мифы, религия, искусство, философия и др.) и лженаучных феноменов (алхимии, астрологии, магии, т.н. оккультных наук и др.).
Перечислим наиболее часто встречающиеся признаки: научное – значит знание объективное, проверяемое опытно-экспериментальным путем, истинное, основанное на фактах, имеющее дело с идеализированными объектами, раскрывающее законы, системно организованное, полученное с помощью определенных методов, рациональное, обладающее критичностью и т. д. Этот ряд признаков можно было бы продолжить, но при этом надо иметь в виду, что, если брать каждый из перечисленных признаков по отдельности, то всегда можно привести контраргументы и примеры, ставящие тот или иной признак под сомнение. И это происходит с каждым из указанных, даже, казалось бы, самых значимых признаков. Так, признание в качестве критерия научности объективности знания подходит только к классической науке, поскольку неклассическая наука вынуждает признать т. н. «неустранимую примесь субъективности» [1, с. 127] применительно ко всем основным подсистемам науки [2].
Эта ситуация подводит к необходимости признания системности и историчности критериев научности. Данная идея вполне недвусмысленно выражена В.И. Вернадским, когда он заявляет, что «…нельзя говорить об одном научном миросозерцании: исторический процесс заключается в его постоянном изменении» [3, с. 69]. Это не случайно оброненная идея, а именно позиция, которую он обстоятельно аргументирует и на основе которой, по сути, он выстраивает свою версию истории науки. Согласно его позиции, «неустойчивость и изменчивость научного мировоззрения чрезвычайны; научное мировоззрение нашего времени мало имеет общего с мировоззрением средних веков...» [3, с. 69]. Тогда каждый самостоятельный этап в развитии науки (будь то: античная или средневековая, а также наука современного типа) отвечает своим критериям научности. Что понимать под этим? Данный тезис можно продемонстрировать на одном из существенно значимых этапов в развитии науки, заложившего основы науки современного типа, – на классической науке. Мы попытаемся сформулировать критерии научности, которым должна была удовлетворять классическая наука, привлекая преимущественно оценки М. Хайдеггера. Дело в том, что у него можно найти одно из самых философичных представлений классической науки [13; 14]. При этом М. Хайдеггер считал, что раскрыть метафизическую (читай – философскую) сущность науки Нового времени означает понять саму суть Нового времени. Если систематизировать признаки знания, то в своей совокупности они предстанут следующим образом:
- научное знание имеет предметный характер и стремится с помощью идеализаций представить изучаемое (не только неорганическую и органическую природу, но и человеческий мир во всем многообразии его проявлений) как мир предметов, как они есть сами по себе. Что возможно при опоре, в конечном счете, на факты, добываемые опытно-экспериментальным путем, поэтому они непосредственно связывают нас с действительностью;
- именно по этому признаку знание классической науки отличается от вненаучного и ненаучного знания и может быть воплощено в предметной/практической деятельности человека;
- предметные соотношения и зависимости предстают в науке как причинно-следственные связи: ничто в мире не происходит без причины, и все приводит к каким-либо следствиям. В научных знаниях представлены не единичные и не уникальные причинно-следственные зависимости, а повторяющиеся, общие или универсальные, поэтому классическая наука дает знание на уровне законов;
- знание на уровне законов позволяет с помощью обнаруженных закономерностей рассчитывать протекание событий в будущем или их состояние в прошлом. Эта особенность научного знания может быть названа проективностью;
- объективность – существенное требование к знаниям классической науки, не совпадающее с предметностью. Объективность научных знаний – это требование независимости их содержания от ценностных установок (моральных, эстетических, политико-идеологических и пр.) познающего субъекта;
- стремление избавиться от всего субъективного позволяет выделить еще одну составляющую в критериях научности – ценностную нейтральность науки в отличие от всех остальных проявлений духовной жизни;
- в классической науке исследование основано и организовано по правилам метода, что позволяет признать технологичность научных знаний и возможность воспроизводить то или иное исследование всякому, овладевшему технологией метода. И в этом выражается еще одно требование к научности – социальный характер научного знания;
- на основе естественного языка классическая наука выработала адекватный содержанию и эффективный в функционировании язык, где особая роль принадлежит языку математики. Научность языка выражается в однозначности и точности основных понятий, прозрачности и непротиворечивости логической структуре, а также в наличии искусственных терминов (типа химической или математической символики).
Итак, критериями научности на этапе классической науки являются: предметность, объективность, ценностная нейтральность, воспроизведение причинно-следственных зависимостей на уровне законов, проективность, технологичность, социальность и выраженность в особом языке.
К проблеме общенаучного критерия научности
Признание и конкретизация историчности критериев научности все же не снимают вопроса о том, возможно ли несмотря на это существование некоего общего признака для всех тех этапов, которые прошла в своем развитии европейская наука с ее меняющимися от этапа к этапу критериями научности? Как ни странно, позитивный ответ и на подобный вопрос мы находим у В. И. Вернадского, когда он пишет: «А между тем можно проследить, как одно произошло из другого, и в течение всего этого процесса, в течение всех долгих веков было нечто общее, оставшееся неизменным и отличавшее научное мировоззрение как средних веков, так и нашей эпохи от каких бы то ни было философских или религиозных мировоззрений» [3, с. 69]. И в этом нет никакой непоследовательности в позиции мыслителя. Ведь в этом вопросе степень обобщения доходит до выяснения того, что позволяет античную, средневековую, новоевропейскую науку причислять именно к науке, а не к каким-то другим формам духовного творчества, а древневосточные достижения, согласно этой логике, большинством историков науки квалифицируются как преднаука.
Если обратиться к аргументам В. И. Вернадского, то вот его рассуждение на этот счет: «…это общее и неизменное есть научный метод искания, есть научное отношение к окружающему. Хотя они также подвергались изменению во времени, но в общих чертах они остались неизменными; основы их не тронуты, изменения коснулись приемов работы, новых проявлений скрытого целого» [3, с. 69–70]. Обратим внимание на вторую половину приведенного тезиса, где подчеркивается, что научное отношение к миру как нечто глубинное, сущностное и поэтому скрытое, находит выражение вовне, т. е. проявляется и обнаруживает себя в форме конкретной технологии научной деятельности. В данном случае, когда речь идет о «научном методе искания», метод отождествляется с научным отношением, как чем-то глубинным, раскрывающим саму природу науки. А изменчивый характер носят как раз проявления научного отношения, которые имеют своеобразие на каждом данном этапе развития. В подтверждение продолжим приведенную выше цитату: «…в истории научного мировоззрения, – пишет В. И. Вернадский, – история методов искания, научного отношения к предмету, как в смысле техники ума, так и техники приборов или приемов, занимает видное место по своему значению и должна подлежать самому внимательному изучению» [3, с. 70]. Здесь уже акцент сделан на проявлениях научного отношения – на «технике ума», «технике приборов», «технике приемов». Слово «техника» в данном случае надо понимать не буквально, а именно как способы проявления природы/сущности науки. Ведь сложно, например, представить себе технику теоретико-созерцательного (= умозрительного) поиска первоначал Космоса античной науки или технику сверхчувственного и сверхрационального постижения божественной сущности мира. В строгом смысле слова понятие метода как техники и технологии исследования приложимо только к новоевропейской науке (об этом шла речь выше) и выросшей на ней науке современного типа.
Заключение
В таком случае проблема критериев научности должна быть рассмотрена в аспекте самой природы науки. А эта постановка вопроса обращает нас к философии – именно ей по статусу предоставлена возможность раскрыть природу науки. Обращение к философскому подходу к науке, по сути, соединяет критерии научности с критериями философичности. И здесь мы должны в явном виде выразить то, что скрытым образом присутствовало в ходе проведенного анализа. Философский подход к науке, претендующий на раскрытие природы науки, содержит в себе по меньшей мере три аспекта, а именно: эпистемологический, раскрывающий науку через призму знания (в нашем случае это связано с вопросом об истине), социально-философский, рассматривающий особенности социального бытия науки (в нашем случае речь шла о внешних факторах, провоцирующих лженаучные построения и поиск средств защиты науки), а также культурно-исторический, вписывающий науку в ту или иную культурную эпоху (в нашем случае это заявлено как культурно-исторические формы критериев научности).
Об авторах
Надежда Васильевна Бряник
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Автор, ответственный за переписку.
Email: n.v.brianik@urfu.ru
доктор философских наук, профессор, профессор кафедры онтологии и теории познания
Россия, ЕкатеринбургСписок литературы
- Борн М. Моя жизнь и взгляды. – М.: Прогресс, 1973. – 176 с.
- Бряник Н. В. От классики к постнеклассике: этапы развития науки современного типа (Философский анализ классической, неклассической и постнеклассической науки). – М.: Академический проект, 2021. – 373 с. – EDN: VDYBDA.
- Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. – М.: Наука, 1981. – 359 с.
- Горинский А. С. Средневековый университет // Общие проблемы философии науки: Словарь для аспирантов и соискателей / сост. и общ. ред. Н. В. Бряник, отв. ред. О. Н. Дьячкова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. – С. 235–237.
- Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Философия как строгая наука. – Новочеркасск: Сагуна, 1994.– С. 101–126.
- Койре А. Аристотелизм и платонизм в средневековой философии // Очерки истории философской мысли. – М.: Прогресс, 1985. – С. 51–71.
- Кругляков Э. П. Вечный движитель лженауки/ вели интервью В. Сараев и Т. Сафарова // В защиту науки: бюллетень. – М.: Наука, 2012. – № 10. – С. 12–17; Эксперт. – 2011. – № 29 (25 июля).
- О положении в биологической науке. Стенографический отчет Сессии Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. 31 июля – 7 августа 1948 г. – М.: Сельхозгиз, 1948. – 536 с.
- Поппер К. Логика и рост научного знания: избранные работы. – М.: Прогресс, 1983. – 605 с.
- Свасьян К. А. Иоганн Вольфганг Гете. – М.: Мысль, 1989. – 191 с.
- Сторожук А. Ю. Методологические аспекты разработки критериев научности: дис. ... канд. филос. наук. – Новосибирск, 2003. – 179 с.
- Толчельникова-Мурри С. А. Коперник и восприятие его идей в XX в. // Клио: Журнал для ученых. – 1999. – № 1. – С. 8–17; перепечатано в Известия Уральского государственного университета – 2000. – № 15. – С. 24–41.
- Хайдеггер М. Время картины мира // Новая технократическая волна на Западе/ отв. ред. П. С. Гуревич. – М.: Прогресс, 1986. – С. 93–118.
- Хайдеггер М. Наука и осмысление // Новая технократическая волна на Западе / отв. ред. П. С. Гуревич. – М.: Прогресс, 1986. – С. 67–84.
- Черникова И.В. Природа науки и критерии научности// Гуманитарный вектор. – 2012. – № 3 (31). – С. 89–97. – EDN: OZPOGP.
Дополнительные файлы