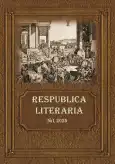Impact of Innovative Technologies on the System of Objects of Civil Rights
- Authors: Kamornyj V.S.1, Chernus N.Y.2
-
Affiliations:
- Novosibirsk State University
- Institute of Philosophy and Law SB RAS
- Issue: Vol 6, No 1 (2025)
- Pages: 134-144
- Section: LAW
- URL: https://journal-vniispk.ru/2713-3125/article/view/305651
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2024.6.1.134-144
- ID: 305651
Cite item
Full Text
Abstract
The article discusses the issues of the modern development of the system of objects of civil rights under the influence of innovative technologies. The article studies the question of the meaning of definition and the list of objects of civil rights. The author reasons the understanding of the object of civil rights as goods. The article analyses changes to the list of objects of civil rights in connection with the exclusion of information from it and the inclusion of intellectual property and “white” digital objects. The article sequentially analyses the current situation of objects that could potentially become objects of civil rights in the future – “gray” digital objects, personal data and objects of somatic rights.
Full Text
Гражданские правоотношения представляют собой юридическую форму существования товарооборота и связанных с ним социальных взаимодействий. Экономические связи, обличенные в юридическую форму, наделяются такими качествами, как устойчивость, непротиворечивость и сбалансированность, именно благодаря их правовому регулированию. Правовое регулирование гражданских отношений, таким образом, выступает в роли механизма, способствующего развитию рыночной экономики, одновременно сдерживая, ограничивая проявления таких ее свойств, которые имеют негативные последствия, неблагоприятно воздействуют на социальные и экономические отношения, что обусловлено необходимостью соблюдения баланса интересов всех участников рынка.
Правовое регулирование осуществляется через установление условий для возникновения гражданских правоотношений. Эти условия можно охарактеризовать как юридический состав, который включает в себя требования к субъектам, объекту и значимым обстоятельствам, связанным с данными отношениями. Отсутствие требуемых условий исключает такое отношение из сферы гражданско-правового регулирования.
Следует отметить, что негативное правовое регулирование, проявляющееся в запрете на возникновение определенных отношений, не исключает эти отношения из области гражданско-правового регулирования. Запрещенные социальные отношения подлежат осуждению со стороны права, которое стремится их прекратить и восстановить первоначальное состояние. К неурегулированным же отношениям право проявляет нейтралитет – оно не стремится их прекратить, но и не предоставляет для них защиты. Неурегулированные отношения не обеспечены правовой поддержкой, по отношению к ним не могут использоваться механизмы юридической защиты.
В гражданском праве, в отличие от других отраслей, проблема неурегулированных отношений стоит наиболее остро, поскольку гражданское право исходит из общедозволительного (или диспозитивного) принципа правового регулирования – «разрешено все, что не запрещено». Данный принцип, в отличие от общезапретительного (или императивного) принципа, предполагает наличие безграничного множества вариантов отношений, только некоторые из которых – наиболее частые и «ценные» – получают достаточное правовое регулирование.
Вместе с тем, общественные отношения постоянно находятся в динамике и подчиняются тенденциям общественного развития. Время от времени они проходят через качественные изменения. В таких случаях структура системы общественных отношений изменяется – одни отношения устаревают и появляются реже, другие приходят им на смену и используются более интенсивно. Такие изменения на уровне элементов отношений могут происходить в субъектном составе (общество в целом признало права социальной группы внутри него), в объекте (появление потребности в обороте объекта нетипичной природы) или содержании (изменение представления общества о должном поведении).
Поэтому гражданское право вынуждено быть динамичной отраслью, подверженной изменениям, корреспондирующим динамике общества. И задачей исследователей на каждом этапе развития цивилистики является анализ системы общественных отношений и выявление новых общественных отношений, требующих правового регулирования. В настоящей статье мы рассмотрим объектный аспект изменения общественных отношений за последнее время, корреспондирующие изменения в гражданском праве и вектор его развития.
Итак, одним из условий возникновения гражданского правоотношения является соблюдение требований к объекту отношения – он должен быть объектом гражданских прав.
Определение объекта гражданских прав, которое содержало бы его признаки, отсутствует в законодательстве. В доктрине нет однозначного подхода к данному определению [Беспалов, 2019, с. 7-8]. Нет единства и в том, может ли у данного понятия быть единое определение. Так, представители договорного права отстаивают точку зрения о двойственности этого понятия [Брагинский, Витрянский, 1999, с. 278]. Мы же оставим этот вопрос за рамками настоящей статьи, но условимся, что объект гражданских прав един.
В доктрине объект гражданских прав определяется через благо (Г. Ф. Шершеневич, О. А. Красавчиков, С. С. Алексеев), через поведение (О. С. Иоффе, Е. А. Суханов, Ю. К. Толстой, А. П. Сергеев) и через иные категории. Мы будем придерживаться первой позиции, отраженной в Гражданском кодексе РФ (ст. 128).
Рассмотрим смежное понятие. В гражданском праве понятия «объект гражданских прав» и «объект гражданского правоотношения» не равнозначны, но в большинстве случаев взаимозаменяемы. Различие их заключается в том, что в объем понятия «объект гражданских прав» включаются все и любые объекты, по которым потенциально могут возникнуть гражданские правоотношения. Объектами гражданских правоотношений же выступают те объекты гражданских прав, на которые такие гражданские права возникли. Другими словами, объект гражданских прав может находиться в обороте, а объект гражданских правоотношений уже находится в обороте.
В рамках цивилистической доктрины, целесообразно проанализировать детерминирующие факторы, обусловливающие квалификацию объекта гражданских прав как блага. С функциональной перспективы, объект гражданских прав выступает в качестве аксиальной точки правоотношения, аккумулирующей права и обязанности субъектов гражданского оборота. Он представляет собой предмет оборотоспособности, характеризующийся динамикой прав и обязанностей в процессе реализации правоотношения. Детерминантой оборотоспособности выступает объективная потребность в гражданском обороте рассматриваемого предмета, обусловленная его полезностью. Под полезностью понимается способность объекта удовлетворять определенную потребность, что позволяет квалифицировать его как «благо». Различные блага обладают потенциалом удовлетворения разнородных потребностей, в связи с чем, субъекты гражданского оборота, в процессе рыночного взаимодействия, осуществляют селекцию, определяя приоритетность благ. Иными словами, благо является ключевой категорией гражданского оборота. Само гражданское отношение возникает по поводу блага и регулируется в соответствии с признаками такого блага.
Поведение при этом может само выступать благом. Если лицо вступило в отношения исключительно для поведения другого лица без очевидного предоставления каких-либо благ со стороны другого лица, то само его поведение выступило для первого лица благом.
Сторонники «поведенческого» подхода к объекту гражданских прав указывают, что правовое регулирование как таковое может воздействовать только на поведение, а не на блага [Суханов, 2019, с. 335]. Соответственно, они приравнивают объект правового регулирования к объекту гражданских прав и наоборот, что представляется нам необоснованным. Правовое регулирование и его механизм не имеет практически ничего общего с механизмом правоотношения. Объектом правового регулирования являются общественные отношения в целом, содержанием которых является поведение субъектов. Гражданское правоотношение представляет собой общественное отношение, урегулированное правом. Оно имеет собственную структуру.
И последнее замечание к этому вопросу. Гражданское правоотношение является, как мы уже указывали выше, юридической формой товарооборота. Если в качестве объекта гражданских прав выступает поведение, то связь между юридической формой и экономическим содержанием разрывается, поскольку «оборот поведения» абсурден. Поведение, которое является желаемым или достигнутым результатом отношений, опосредует оборот и служит ему. Поэтому создание мысленной «прослойки» между правоотношением и товарооборотом представляется нам непрактичным.
Возвратимся теперь к определению объекта гражданских прав. По нашему мнению, таким объектом является (1) благо, которое (2) оборотоспособно объективно и (3) формально.
О первом признаке – объекте как благе – шла речь выше. Второй признак устанавливает, что благо должно быть объективно оборотоспособно, т. е. оно должно существовать в соответствующей форме, которая позволяет благу быть определенным, ограниченным, будь то физически (относительно материальных благ) или мысленно (относительно нематериальных благ). Это благо также должно быть достаточно устойчивым (т. е. существовать не краткосрочно). Так, например, воздух не является ограниченным сам по себе, но его можно ограничить герметичными контейнерами, и тогда он станет физически оборотоспособным.
Третий признак – формальная оборотоспособность – отделяет объекты в целом от объектов гражданских прав. Этот признак устанавливает, что объект должен быть признан правом, т. е. если объект не назван в законе в качестве объекта прав, то по поводу его оборота не могут возникать правоотношения, т. к. на его оборот не распространяется правовое регулирование.
Эта формальная оборотоспособность выражена в статье 128 ГК РФ. Законодатель прямо перечисляет виды объектов гражданских прав. Однако перечисление всех видов объектов не может быть полным, если такое перечисление не является дихотомическим, т. е. с использованием противопоставления. Например, так законодатель упустил из сферы правового регулирования неличные неимущественные отношения, установив разделение гражданских отношений на имущественные и личные неимущественные (если, конечно, читатель разделяет наше убеждение о существовании неличных неимущественных отношений, т. е. отношений, напрямую не связанных с материальным миром и личностью).
Таким образом, определение того, что является либо не является объектом гражданских прав, включает объект в юридическую реальность или исключает из нее. В одних случаях неурегулированность правом отношений не имеет негативного влияния на них. Отношения, которые в достаточной степени урегулированы другими социальными нормами, не требуют правового регулирования. Такими являются, к примеру, межличностные, бытовые, религиозные и другие отношения. К тому же такие отношения могут все же частично подпадать под сферу гражданско-правового регулирования через призму гражданско-правовых принципов. Однако такая точка зрения не лишена изъянов – непонятно, как гражданское право может регулировать отношение, которое хоть и имеет признаки гражданского (равенство, автономия воли и имущественная самостоятельность сторон), но возникло по поводу объекта, неизвестного гражданскому праву.
В других случаях неурегулированность правом отношений имеет негативные последствия. Так, например, организационные отношения, которые имеют своим объектом порядок или упорядоченность отношений сторон без имущественной составляющей, являются жизненно необходимыми для гражданского оборота. Но такой объект не признается объектом гражданских прав в ГК РФ. Следовательно, на организационные отношения распространяются только общие принципы гражданского права и в том числе принцип возмещения убытков. Но поскольку объект организационных отношений в виде неличного нематериального блага не может непосредственно влиять на имущественную сферу сторон, то неисполнение обязанностей по организационному договору может вызвать имущественные потери у другой стороны лишь косвенно, соответственно возмещение убытков в качестве способа защиты в большинстве случаев неприменимо. Единственный правовой механизм, который может стимулировать должника по организационному отношению, таким образом, это присуждение к исполнению обязательства в натуре. Но его применение не лишено своих вопросов за пределами настоящей работы.
Рассмотрим теперь изменения в системе объектов гражданских прав. За последнее время система объектов гражданских прав изменяется в основном вследствие влияния инновационных технологий на общественные отношения. И ответ правового регулирования на такие изменения может быть трех видов: расширение (отношение ранее не регулировалось, теперь регулируется), сужение (отношение ранее регулировалось, теперь не регулируется) и преобразование (отношение ранее регулировалось, но регулирование изменилось).
На текущий момент наблюдается тенденция к экспансии сферы объектов гражданских прав. С появлением новых общественных отношений по поводу новых благ законодатель стремится урегулировать наиболее «ценные» из них.
За последнее время произошли изменения относительно следующих объектов:
- информация и интеллектуальная собственность;
- «белые» цифровые объекты – цифровые права, цифровой рубль.
В настоящее время требуется правовое регулирование в отношении следующих объектов:
- «серые» цифровые объекты – аккаунт, домен, игровые предметы, токены, «лиды»;
- персональные данные;
- объекты соматических прав – тело, органы, ткани.
Рассмотрим каждый из указанных случаев.
- Информация и интеллектуальная собственность. Мы убеждены, что исключение из статьи 128 ГК РФ информации как объекта гражданских прав в связи с введением части четвертой ГК РФ было негативным сужением сферы правового регулирования. Внешне изменение схоже с преобразованием – на место информации пришла интеллектуальная собственность, хотя, полагаем, что это не совсем так.
На практике признание информации объектом гражданских прав было временной законодательной фикцией и отсылкой на разрозненное законодательство в сфере интеллектуальной собственности [Рожкова, 2019]. Природа интеллектуальной собственности не была на тот момент до конца ясна законодателю и потому вместо ее прямого включения в статью 128 ГК РФ при создании части первой ГК РФ было указано понятие, в содержание которого вся интеллектуальная собственность точно попадает.
Нам представляется верным, что информация без привязки к интеллектуальной собственности может в полной мере быть объектом гражданских прав. Информация представляет собой благо, поскольку имеет ценность – удовлетворяет потребность лиц в знании об определенных обстоятельствах, влияющих на принятие такими лицами решений. Информация оборотоспособна, поскольку является идеей, ограниченной определенным объемом и воплощаемой на определенном материальном носителе. Прекратился ли оборот информации как товара после исключения информации из статьи 128 ГК РФ? Нет. В юридической практике, напротив, появились соглашения о конфиденциальности (NDA). Как в случае с другими организационными договорами их правовое регулирование ограничивается общими принципами гражданского права и нормами об обязательствах.
Основными инновационными технологиями, которые изменили структуру общественных отношений и вызвали необходимость в товарообороте информации, были интернет, оптоволокно, спутники, мобильная связь и сами инновации как таковые. Указанные технологии не только повысили ценность информации, но и обеспечили ее высокую оборотоспособность.
- «Белые» цифровые объекты. К ним относятся те цифровые объекты, которые уже получили достаточное юридическое закрепление, хотя в правоприменительной практике они все еще являются незнакомыми явлениями. Это цифровые права и цифровой рубль.
По существу, «белые» цифровые объекты представляют собой субъективное право в цифровой форме, т. е. у такого права есть «информационный» носитель – цифровой код, а у «информационного» носителя есть материальный носитель. В таком случае можно говорить о существовании сразу трех связанных прав – права на материальный носитель, права на код и права из кода – по аналогии с концепцией ценных бумаг. Сегодня оборот таких цифровых объектов в полной мере урегулирован гражданским законодательством и законодательством о цифровых финансовых активах.
Добавление цифровых объектов в перечень объектов гражданских прав является очевидным расширением регулирования. Основными инновационными технологиями, способствовавшими этим изменениям, выступили интернет, хэширование, децентрализация, разработка нового ПО в сфере передачи данных. Указанные технологии обеспечили физическую оборотоспособность цифровых объектов, а социум придал им ценность.
- «Серые» цифровые объекты. Те же инновационные технологии привели к появлению «серых» цифровых объектов. К таким объектам относятся те цифровые объекты, оборот которых уже получил распространение и которые уже имеют возрастающую ценность вследствие развития технологий, но которые еще не регулируются гражданским правом. Среди таких можно назвать аккаунт, домен, игровые предметы, токены, «лиды».
Оборот аккаунтов на текущий момент полностью зависит от содержания пользовательского соглашения пользователя и сервиса. Возможность такого оборота чаще всего отрицается и при выявлении признаков оборота аккаунт блокируется. Устанавливая такие ограничения, сервисы руководствуются, в основном, этическими соображениями, а также ссылаются на требования федерального закона «О персональных данных». На практике это ограничивает возможность коммерциализации «раскрутки» аккаунта (развития аккаунта на начальном этапе, привлечения первой аудитории), что является все более распространенной практикой. Это также ограничивает возможность передачи аккаунта по наследству. В Германии такой спор имел место в 2018 г. и решение Федерального верховного суда ФРГ о возможности наследования нематериальных активов, даже напрямую связанных с личностью, полностью изменило правоприменительную практику (BGH, 12.07.2018).
Оборот доменных имен в России происходит по правилам, устанавливаемым Администратором национального домена в России – АНО «Координационный центр доменов.RU/РФ» – на основании соглашения с ICANN и Минкомсвязи России, а также операторами доменных имен, основным из которых является ООО «РЕГ.РУ». В данном случае можно говорить о делегированном правотворчестве, вызванном спецификой объекта регулирования. Являются ли в таком случае отношения по поводу доменов урегулированными? На наш взгляд, нет. Система актов администратора национального домена и оператора доменных имен существует практически независимо от гражданского права. Они пересекаются лишь в части регулирования гражданским правом обязательств. Однако иные институты гражданского права не могут быть с уверенностью применены к доменам. Так, например, на домены не распространяются положения о наследовании. Передача прав на домен правопреемнику происходит только на основании «соглашения о переходе прав администрирования доменного имени в случае смерти администратора». В случае его отсутствия регистрация домена аннулируется после смерти владельца на основании того, что договор оказания услуг, заключенный с ним, имел личный характер, и права по нему не переходят наследникам.
Оборот игровых предметов осуществляется по правилам торговых площадок и не регулируется законом напрямую. Поэтому правила торговых площадок имеют договорную природу, как и в случае с аккаунтом. Но в данном случае игровой предмет не является чем-то абсолютно незнакомым для права. По своей сути оборот игровых предметов идентичен обороту товаров в исключительно электронной форме. Однако в случае нарушения прав на игровые предметы российские суды чаще всего прибегают к применению статьи 1062 ГК РФ и лишают такие отношения защиты, что представляется нам негативной практикой. В этом вопросе мы согласны с М. А. Рожковой, что «этот сущностный признак [элемент выигрыша, зависящий от действий пользователя] является значимым только для внутриигровых отношений и отношений по поводу лутбоксов, тогда как в остальных случаях он не имеет ровным счетом никакого значения» [Рожкова, 2021]. Поскольку отношения, возникающие при обороте игровых предметов, чаще всего выходят за рамки внутриигровых отношений (являются отношениями на метаигровой торговой площадке), то у судов не должно быть оснований лишать их правовой защиты. Нам представляется правильным, что применять данный принцип следует только к отношениям, в которых есть элемент азартности (связанности с риском, случайностью). И в отношениях купли-продажи игровых предметов такого элемента мы не наблюдаем.
Токены (взаимозаменяемые (fungible) и невзаимозаменяемые (non-fungible)) являются наиболее новыми объектами в данном перечне. Они представляют собой определенную криптографическую запись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке. Токены появились в результате развития технологии блокчейн – способа шифрования транзакции, в результате которого каждый последующий блок кода содержит информацию о предыдущем. Токены используются в самых разных качествах в связи с их основным свойством – они подтверждают определенную транзакцию. В совокупности со знанием о смарт-контракте (автоматически исполняемом коде, размещенном в той же блокчейн-сети) значение каждого токена может быть расшифровано в человеко-читаемый вид. Особую популярность получили такие виды токенов, как криптовалюта (взаимозаменяемые токены децентрализованного реестра) и NFT (невзаимозаменяемые токены). Оборот токенов регулируется несколькими видами источников. С одной стороны, он регулируется общими правилами блокчейн-сети, в которой эмитирован. С другой стороны, переход прав на токены происходит по правилам, устанавливаемым эмитентом в смарт-контракте, который по своей природе походит на договор присоединения с содержанием купли-продажи, мены, дарения и др.
«Лиды» – это основное понятие, вокруг которого строится договор лидогенерации. Договор лидогенерации – это договор, по которому лидогенератор по заказу рекламодателя размещает в Интернете определенные рекламно-информационные материалы с гиперссылкой на ресурс рекламодателя, а рекламодатель оплачивает такое размещение, исходя из количества «лидов». Под «лидом» понимается целевое действие, которое должен совершить пользователь. Это может быть переход по такой гиперссылке, регистрация на ресурсе рекламодателя или приобретение его продукта. Техническая реализация лидогенерации возможна благодаря технологии cookie-файлов. Это файлы, хранящие информацию о взаимодействиях пользователя, о его сеансе и прочую статистическую информацию. В таком файле хранится, в том числе, информация о том, «откуда» пользователь перешел на текущий ресурс. Владелец ресурса (чаще всего – рекламодатель) собирает информацию из этих файлов и формирует статистику. Договор лидогенерации не имеет аналогов в гражданском праве. Конструкция оплаты услуг в зависимости от действий третьих лиц имеет риск противоречить положениям гражданского законодательства об исполнении обязательств. Несмотря на то, что в ГК РФ была включена статья 327.1 об обусловленном исполнении обязательства, она не говорит напрямую о третьих лицах. Нам представляется обоснованным полагать, что поскольку законодатель позволяет обусловить исполнение обязательства наступлением каких-либо обстоятельств, в том числе зависящих от воли одной из сторон, то и действия третьих лиц могут служить таким допустимым условием. Однако стоит помнить о позиции Конституционного Суда РФ о недопустимости «гонорара успеха», т. е. зависимости оплаты услуг от обстоятельств, не зависящих напрямую от воли исполнителя. «По смыслу пункта 1 статьи 423 ГК РФ плата <...> по всякому возмездному договору, производится за исполнение своих обязанностей» (Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П). Вопросы в лидогенерации возникают и в порядке подсчета «лидов». Общего правила о том, кто ведет статистику – рекламодатель или лидогенератор – нет. На практике, если такое условие не было согласовано сторонами в договоре, правовой механизм разрешения такого спора отсутствует, что дестабилизирует отношения по лидогенерации.
- Персональные данные. С развитием технологий больших данных, машинного обучения и ИИ возрастает ценность самих данных, особенно персональных данных. Персональные данные являются разновидностью информации с особым правовым режимом. На операторов персональных данных законом и актами Роскомнадзора возложен значительный объем обязанностей по сохранению конфиденциальности таких данных. Такой правовой режим обусловлен повышенной степенью «чувствительности» персональных данных для их субъектов. Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу. С помощью таких данных можно узнать обстоятельства частной жизни лица, что нарушает конституционный принцип неприкосновенности частной жизни, а также личной и семейной тайны.
Однако это не исключает оборот персональных данных. Персональные данные передаются от субъекта оператору, а оператор может передать их по поручению на обработку другому лицу. Такое поручение имеет природу договора в силу прямого указания закона (пункт 3 статьи 6 федерального закона «О персональных данных»). Соответственно, возникает ситуация, при которой основы оборота персональных данных регулируются общими положениями об обязательствах, а специфика этого оборота – публичным правом.
Для дальнейшего развития технологий в сфере ИИ рано или поздно потребуются базы персональных данных. Но в то же время даже текущий строгий режим защиты персональных данных уже не способен предотвращать их утечки, которые возникают регулярно. Соответственно, законодателю придется принять решение – существенно ограничить перечень персональных данных или же обеспечить непрерывную разработку новых мер их защиты и ужесточить регулирование.
- Объекты соматических прав. Соматические права сегодня находятся на грани права и этики. Многие ученые называют их четвертым поколением прав человека. Однако позиции, как в доктрине, так и в практике далеки от консенсуса [Нестерова, 2011]. Идея соматических прав человека происходит из юридической и философской логики и находит свое выражение в естественном праве человека на свое тело. Такое право предполагает возможность человека распоряжаться частями и органами своего тела, удалять и изменять их, модифицировать свой геном, прекращать свою жизнь. К таким возможностям нас приблизили новые медицинские технологии, криоконсервация, генетическая инженерия, технологии в области хирургии. Эти инновационные технологии обеспечили достаточную физическую оборотоспособность органов и тканей человека. Однако целью их развития были не соматические права, а лечение. И законодатель твердо признает, что единственным допустимым случаем оборота органов и тканей человека является донорство с целью излечения другого человека. Возмездность в таком случае исключается, хотя донору выплачивается компенсация. Такой подход законодателя обусловлен опасением, что свободный оборот органов и тканей человека приведет к эксплуатации людей и вынужденной (чем-то или кем-то) продаже органов. Кроме того, модифицирование генома без цели лечения влияет не только на лицо, геном которого модифицируется, но и на его потомков. А их права на жизнь и здоровье также необходимо учитывать и обеспечивать, поскольку искусственное изменение генома родителя может привести к неблагоприятным мутациям у потомков.
Вместе с этим, потребность в правовом определении соматических прав становится все более очевидной. Нам представляется, что их закрепление неминуемо, хоть и находится в далеком будущем. Большинство споров относительно соматических прав должны разрешиться с нахождением правового баланса, который представляет собой разумное соотношение предоставляемых государством соматических прав и их ограничений. Следовательно, чтобы приблизиться к закреплению соматических прав, необходимо определить их ограничения. Это уже было предметом нашего рассмотрения ранее [Каморный, 2022].
Вывод. К системе объектов гражданских прав необходим системный подход в части перечня таких объектов. Изменение этой системы должно в полной мере отвечать изменениям структуры общественных отношений. На текущий момент наблюдается тенденция к экспансии сферы объектов гражданских прав. За последнее время произошли изменения относительно информации и интеллектуальной собственности, «белых» цифровых объектов (цифровые права, цифровой рубль). Пришло время определить правовой режим так называемых «серых» цифровых объектов (аккаунт, домен, игровые предметы, токены, «лиды»), персональных данных и объектов соматических прав (тело, органы, ткани).
About the authors
V. S. Kamornyj
Novosibirsk State University
Author for correspondence.
Email: vs.kamor@bk.ru
Master's student of the Department of Civil Law Novosibirsk, Pirogova St., 1
N. Y. Chernus
Institute of Philosophy and Law SB RAS
Email: preiudicia@yandex.ru
Candidate of Law Sciences, Senior Researcher Novosibirsk, Nikolaeva Str., 8
References
- Bespalov, U. F. (2019). Objects of Civil and Family Rights: the Concept, Social and Legal Value, Some Trends to Improve the Legislation of the Russian Federation. In Objects of civil and family rights under the legislation of the Russian Federation. Bespalov, U. F. (ed.). Moscow. Pp. 6-17. (In Russ.)
- Braginskij, M. I., Vitrjanskij, V. V. (1999). Contract Law. Book One. General Provisions. Moscow. (In Russ.)
- Kamornyj, V. S. (2022). Limitations of exercise of somatic rights. Aspect of Science. Vol. 1. No. 2. Pp. 50-57. (In Russ.)
- Nesterova, E. M. (2011). Definition and Legal and Social Essence of Human Somatic Rights. Socio-Economic Phenomena and Processes. No. 7 (29). Pp. 222-226. (In Russ.)
- Rozhkova, M. A. (2019). Information as the object of civil rights. In III Siberian Legal Reading. Collection of Scientific Articles. Tyumen. Pp. 42-47. (In Russ.)
- Rozhkova, M. A. (2021). On Application of Article 1062 of the Civil Code of the Russian Federation to the Relations out of Multiplayer Online Games. Economy and Law. No. 1 (528). Pp. 99-108. (In Russ.)
- Sukhanov, E. A. (2019). The Concept and Types of Objects of Civil Law Relations. In Sukhanov, E. A. (ed.). Civil Law. Student Book. Vol. 1. General part. Moscow. Pp. 335-341. (In Russ.)
Supplementary files