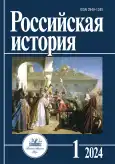A thought-provoking study
- Авторлар: Volobuev O.
- Шығарылым: № 1 (2024)
- Беттер: 221-226
- Бөлім: Reviews
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/257294
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24010214
- EDN: https://elibrary.ru/BYKWBT
- ID: 257294
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Толық мәтін
Монография, которая наводит на размышления*1
Название рецензируемой коллективной монографии сразу же вызывает вопросы. Прежде всего, была ли советская федерация отрицанием империи как типа государственности? Ведь со времён перестройки термины «СССР» и «советская империя» употребляются как синонимы. Далее, всегда ли империя это прошлое, обречённое прогрессом на слом, или может существовать «модерная империя»? Наконец, что авторы понимают под модерностью? Большевики строили социализм, это одно и то же или разное историческое творчество? Вообще проблема терминологии в данном случае – одна из основных. Авторы используют ряд терминов, которые в советской, да и постсоветской историографии не употреблялись. Они заимствованы в первую очередь из современных этнологии и политологии: нациестроительство, этнонациональная политика, конструирование модерных наций и др. Расширение и обновление понятийного аппарата – естественное состояние науки. Но, к примеру, Л. Н. Гумилёв, создавая концепцию этнической истории, выходил к читателю с книгами, оснащёнными словарём. Не мешало бы и авторам иногда пояснять, как они интерпретируют те или иные понятия.
Монография очень объёмна, в ней семь глав. Первые две (автор – Т. Ю. Красовицкая) посвящены проблемам федерализма в этнополитических исканиях, проектах и решениях дореволюционного и революционного времени. В третьей (также Красовицкая) анализируется «природа Советского федерализма» с момента образования СССР: с одной стороны, «самостийности», с другой – идей и планов автономизации и федерализации. Внимание в четвёртой (Д. А. Аманжолова, К. С. Дроздов) сосредоточено на управлении культурным многообразием. В фокусе следующей главы (те же авторы) – попытки обустроить национальные меньшинства, не имевшие «своих» автономий или компактно жившие за их пределами (этнонациональные сёла и районы). Шестая глава (Г. В. Костырченко) исследует неудачный опыт привязки части еврейской диаспоры путём землеустройства к новой, выделенной государством территории («белорусский» и «крымский» проекты). Наконец, седьмая глава (Аманжолова) затрагивает дискуссионную проблему складывания полиэтнической общности – «советского народа».
Таким образом, первые три раздела книги носят преимущественно теоретический характер, а три оставшиеся освещают практику нациестроительства. В этой структуре просматривается замысел авторского коллектива, который продолжен и подчёркнут в заглавии недавно вышедшей монографии Т. Ю. Красовицкой2.
Проблемное построение исследования ставит вопрос о периодизации исследуемого процесса. Первый его период – с 1917 до конца 1922 г. Возникает вопрос: выделяют ли авторы 1923–1929 гг. (или начало 1930-х гг.) в отдельный этап, или 1920-е и 1930-е гг., вплоть до 1941 г., – это единый временной отрезок? Имеет ли рубежное значение Конституция 1936 г.? Содержание книги показывает, что наиболее логичная переломная точка – 1929 г. (что, кстати, обосновано в уже упомянутой монографии Красовицкой).
Не стану затрагивать вводящую в проблематику федерализма главу об истории этой идеи в российской дореволюционной партийно-политической мысли. Начну с приоритетов нациестроительства. В исследовании раскрывается вся сложность одновременной реализации двух задач: строительство социалистического государства (доминанта – идеология и конкретизирующая её партийная программа) и нациестроительство с последующим формированием советской политической нации (приоритет – симбиоз социалистического интернационализма с этническим самосознанием). В свете этого образование СССР явилось модернизационным шагом. Поэтому уместно говорить о новом типе нациестроительства, в основе которого – совмещение социалистического и национального начал.
Интересно появление нового названия страны – Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Оно оказалось навязано всем ходом революции 1917 г., приведшей к стихийному созданию суверенных и автономных этнообразований. Брест-Литовские переговоры привели к столкновению большевистского централизма с многоголовым сепаратизмом регионов. Новая власть оказалась перед дилеммой: чей суверенитет признать, а с кем – договариваться, уступая по ряду спорных вопросов. Безусловно, авторы выбрали удачный, пользуясь их выражением, взгляд на «советский федерализм в оптике Бреста».
Уже этот материал демонстрирует достоинство монографии – умение дистанцироваться от односторонних оценок исторических ситуаций и политических деятелей. Красовицкая права, когда упрекает историков в том, что они не обращают достаточного внимания на роль переговоров в утверждении советского федерализма. А ведь РСФСР уже в самом начале столкнулась с твёрдой позицией Центральной Рады, требовавшей участия украинской делегации в обсуждении всех вопросов, и с позицией представителей Германии, которые заявили о своём праве вести переговоры от имени населения оккупированных ею территорий. С этого момента началось поспешное принятие большевистским руководством декларации федеративности России. Таковое, однако, уже не могло предотвратить fiasco.
Брестский мир стал вторым Рубиконом после разгона Учредительного собрания – таков вердикт авторов. Этнические элиты (не все и не полностью) по результатам переговоров решили, что большевики должны делить с ними власть на местах проживания их народов. В свою очередь В. И. Ленин выдвинул тезис, что федерация не противоречит демократическому централизму, увидев в нём эффективное средство удержания территории и населения, расширения сферы революционного творчества. Кроме того, «опыт Бреста, “национальных угроз”, необходимость соответствовать принципам федерализма оставил след в сознании Сталина» (с. 160). В отношении стихийного нациетворчества представляет интерес параграф «Антисоветские конкуренты советского федерализма», в котором рассмотрены отношение к федерализму «белых» правительств и иностранные проекты.
В третьей главе проанализированы природа советского федерализма и попытки реализации этой идеи на местах. Её понимание определялось ленинской установкой на приоритет политических интересов, которую в основном разделяло большевистское руководство. Во главе угла стояло строительство социалистического общества, соответственно взаимодействие с этнонациональными элитами шло именно под этим углом. Позиция же этноэлит проявлялась посредством идеологии становления государства, социальной интеграции, антиколониализма или этнически мотивированного сепаратизма.
В качестве одного из наиболее ярких примеров рассмотрен конфликт центра с Башревкомом и его председателем А.-З.А. Валидовым. Тот мечтал объединить Башкирию с Казахстаном и Туркестаном (Средней Азией) в единое автономное территориальное пространство. Но в мае 1920 г. ЦК РКП(б) отверг предложение об объединении Башкирии и Казахстана (тогда именовавшегося Киргизской республикой), а декрет ВЦИК и СНК «О государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики» урезал её права. Башревком с этим не согласился. В результате Валидов порвал с большевистской властью и в дальнейшем стал одним из руководителей басмаческого движения.
Борьба Башревкома с Башобкомом, поддержанным центром, закончилась победой большевистского «демократического централизма» над тенденцией усиления роли этнонациональных элит. Тем же результатом завершались аналогичные конфликты в других частях страны. Ленин и Сталин занимали при этом сходные позиции до начала споров вокруг образования нового государства – СССР. Тактическая линия заключалась в постепенном вытеснении прежних этноэлит и замене их новыми ответственными работниками из числа преданных партийным установкам.
Авторы выделяют болевую точку дискуссий и практик нациестроительства – «необходимость делиться властью». Акцентированы мнение Ленина и убеждение Сталина в том, что федерализм – помеха для перехода к более высокому уровню общественных отношений. Тем не менее «географический федерализм» типа североамериканского и швейцарского не принимался. Следовало бы увязать «политические миражи» интернационализма с федералистскими побуждениями местных элит и одновременно учесть конкретный культурно-исторический уровень готовности народов к жизни в союзном общежитии. Однако подготовка к созданию союзного государства выявила немалые трудности и сформировала у многих большевистских руководителей высокого ранга коллективную позицию, которая отрабатывалась в Наркомате национальностей и известна под названием «сталинский план автономизации».
Накал политических страстей по вопросу о статусе республик оказался высок, причём сила сопротивления политике центра оказывалась тем сильнее, чем сильнее была компартия республики (Украина, Грузия). Партийная линия с её установками входила в противоречие с интересами республиканских элит, которых волновала не столько идея мировой революции, сколько настроение рядовых коммунистов и населения республик. Затем плану автономизации неожиданно оказал сопротивление Ленин, который – и здесь нельзя не согласиться с Красовицкой – больше всего боялся раскола коммунистической элиты. Он выдвинул альтернативный план государства, основанного на равноправии заключивших договор социалистических республик, а его воля и авторитет сломили упрямство Сталина.
В течение всех 1920-х гг. шла «пересборка государства», создание структурно разноуровневого Союза. Она оказалась тернистым путём от четырёх союзных республик к одиннадцати, а также к десяткам автономий с республиканским и областным статусом и даже национальным округам. Реализация проекта требовала проведения комплексных преобразований в культуре и просвещении, экономике и традиционном укладе жизни, целенаправленной и финансируемой государством политики выравнивания уровней развития. Главными «камнями преткновения» оказались вопросы статуса и границ союзных республик и автономий. С последними возникли особенные затруднения. Например, считать ли границы между союзными республиками равноценными границам с другими странами или рассматривать их как внутригосударственные административные линии, какими государственными актами закреплять внутрифедеративное размежевание.
Соображения как при учреждении республик, так и при установлении границ между ними были неодинаковы, поэтому, опираясь на обширный материал монографии, можно выделить основы нациестроительства. Это, прежде всего, этничность или этнографические границы. Яркий пример здесь – выделение туркменских земель из Туркестана, Бухарской и Хорезмской народных республик в 1924 г. Далее, экономическая целесообразность. Так, конфликт Чувашской и Марийской автономий за левобережную часть Чебоксарского уезда с этнически смешанным населением, которая в итоге перешла Марийской из хозяйственных соображений. При столкновении этнического принципа с экономическим районированием центр обычно поддерживал последний, объясняя это заинтересованностью всех народов в развитии общесоюзного народного хозяйства. Показательно, что даже при передаче Крыма из РСФСР в состав УССР волюнтаристское решение Н. С. Хрущёва прикрывалось формальным декларированием экономической целесообразности. Такая мотивация казалась верхам убедительнее других «придумок» и всё же имела хоть какие-то аргументы.
Третья основа – внутриполитическая целесообразность. Примером может служить судьба Донбасса, причерноморских и приазовских территорий с их преимущественно русскоязычным населением. Эти земли в условиях Гражданской войны оказались в сфере влияния киевских режимов, а затем во имя «пролетарского братства» народов были переданы Украине. Соображения внешнеполитические продиктовали преобразование в 1940 г. Карельской и Молдавской АССР в Карело-Финскую и Молдавскую СССР. Наконец, требования рационализации управления проявились, например, в образовании в 1937 г. бурятских национальных округов – Усть-Ордынского (Иркутская обл.) и Агинского (Читинская обл.).
Пристальное внимание уделено политике коренизации и судьбе низовых административно-территориальных образований для нацменьшинств. Их массовое создание пришлось на 1925–1933 гг., а с середины 1930-х гг. началась ликвидация, что совпало со взлётом и затуханием коренизации. Авторы использовали статистику из союзных и автономных республик, краёв и областей, уже известные в историографии факты и результаты собственных архивных поисков. Поэтому можно проследить две взаимоисключающие тенденции. Первая – тяга к бюрократической централизации (упрощению управления), сопровождавшаяся насаждением русского языка в делопроизводстве, образовании и т. д. Вторая – трансформация коренизации в дискриминацию по отношению к русским жителям и нарастание сепаратистских настроений.
Об издержках и негативных последствиях проводившегося курса оставлено достаточно свидетельств в мемуарной литературе, их можно было бы привлечь в иллюстративных целях. Для примера процитирую бывшего заместителя наркома финансов Бурят-Монгольской АССР: «После проведения более или менее полной “коренизации” правительственного аппарата не только чиновники из туземцев, но и всё туземное население в общем почувствовали себя господами положения и стали смотреть на представителей остальных народов, проживающих в пределах туземных республик и областей, а в первую очередь на русских, свысока»3. Одновременно с этнических окраин доносились жалобы на игнорирование партийно-советским аппаратом территориальных и культурно-исторических «требований» народов. Недовольство вызывало и атеистическое неистовство партийцев и комсомольцев. Однако постепенно происходила замена лидеров и группировок «старых» этнократических элит, связанных с массами и ощущавших их настроения, новыми советскими, преимущественно бюрократического формирования.
Венчает исследование глава «Советский народ: к дискуссии о гражданской консолидации общества». На первый план к концу 1930-х гг. вышла концепция «дружбы народов», их единой семьи во главе с русским народом. Широко развёрнутая пропаганда советского патриотизма оправдала себя уже тем, что в годы Великой Отечественной войны, несмотря на нередкий коллаборационизм под разными национальными лозунгами, подавляющее большинство населения поднялось на защиту страны. Интернационализм оказался эффективным средством надэтнической мобилизации, стал одной из основ гражданской солидарности. К примеру, для моего поколения, учившегося в послевоенных школах, в том числе на оккупированных территориях, стандартом поведения было не придавать значения этническому происхождению соучеников.
В главе изложены оценки и мнения отечественных и зарубежных авторов по данному вопросу (хотя порой за их обилием ускользает нить логических рассуждений). Автор использует понятие «текучая модерность» (с. 768), очень удачное для обозначения меняющейся исторической реальности, когда под влиянием перемен в обществе может перестраиваться иерархия идентификаций. Удачно и суждение о том, что образ советской родины включал не только политическое и географическое пространство, не только мощь и величие державы, но и этнокультурное разнообразие её населения.
Разумеется, в рецензии невозможно затронуть все изложенные в монографии сюжеты. Например, заслуживает отдельного рассмотрения становление и развитие этнических культур. Авторам стоило бы обратить внимание на более чёткое выделение выводов (новизны) в заключениях к главам, а также на необходимость наличия не только именного указателя, но и географического. Последний гораздо ценнее для такого издания, нежели именной, ведь читатель прежде всего будет обращать внимание на локализацию событий и процессов.
Подводя итоги, подчеркну, что представленный труд – тематически обобщающий, историографически ценный и конкретно-исследовательский. Первый аспект, полагаю, объяснять не стоит. Касаясь второго, отмечу не просто выявление достижений советской, постсоветской и зарубежной историографии, но и постоянные обращения к имеющимся оценкам и точкам зрения. Можно сказать, что историография в данном издании имеет самостоятельное значение. Наконец, продемонстрировано «исследовательское лицо» каждого из авторов: доскональное знание источников, в том числе архивных, и фактологии, а главное – понимание и умение разграничить декларируемую и действительную стороны избранной проблематики нациестроительства.
Примечания
1 Аманжолова Д.А., Дроздов К. С., Костырченко Г. В., Красовицкая Т. Ю. Советская федерация: от империи к модерности. 1917–1941 гг. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. 832 с.
2 Красовицкая Т. Ю. Идеи и практики федерализма в советской национально-культурной политике (1918–1929). М., 2023.
3 Лавров И.А. В стране экспериментов. Харбин, 1934. С. 193.
Авторлар туралы
Oleg Volobuev
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: info@rcsi.science
доктор исторических наук
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
Қосымша файлдар