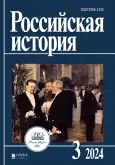«Our immutable symbol “Tsar and freedom”»: Old Believers in the First Russian Revolution
- Авторлар: Kerov V.V.1
-
Мекемелер:
- Russian Presidential Academy of National Economic and Public Administration
- Шығарылым: № 3 (2024)
- Беттер: 94-114
- Бөлім: Ideas and images
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-124X/article/view/264338
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24030096
- EDN: https://elibrary.ru/GDKEAH
- ID: 264338
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
The article is devoted to the political views of the Old Believers of various consents during the First Russian Revolution. The source base of the study was made up of materials from Old Believer congresses, councils and meetings of 1905-1907, as well as Old Believer periodicals. The analysis showed that the clergy showed the greatest conservatism among the Old Believers, the scholars (were more liberal than others, the Old Believer peasants turned out to be even more radical, demanding the forced confiscation of part of the landowner lands. Old Believer entrepreneurs mainly focused on the Octobrists. But, despite criticism of the "police-bureaucratic regime," all strata and groups of Old Believers adhered to monarchical views. Even liberal scholars, hoping for the Duma, retained faith in the king. At the same time, all consents and social strata condemned violence and rejected cooperation with both the "red" and "black" parties. In general, the political position of the Old Believers at that time was expressed in the slogan: "Long live the tsar! Long live freedom!"
Толық мәтін
В течение более чем двух с половиной веков гонения на старообрядцев аргументировались тем, что они будто бы враждебны государству. Однако усилия революционеров привлечь их на свою сторону оказались тщетны 1. Но несмотря на это, в последние десятилетия в историографии воссоздан миф об оппозиционности ревнителей древнего благочестия царской власти. Так, О. Л. Шахназаров утверждал, что в дни декабрьского восстания в Москве в 1905 г. «большие дружины» фабрикантов-старообрядцев, а также некая «дружина рабочих-старообрядцев из Шуи» вместе со «150 федосеевцами» мануфактуры Прохоровых, связанных «родством с несколькими старообрядческими кланами», защищали баррикады 2. При этом автор сослался только на газетную статью о том, что рабочие тушили крышу склада Прохоровской мануфактуры, подожжённую снарядом. А. В. Пыжиков полагал, что именно фабриканты-старообрядцы якобы внесли «определяющий вклад» в подготовку московского восстания 1905 г. – организовывали забастовки, формировали дружины, раздавали «винтовки и револьверы» и т. п., а затем и вовсе стали «наиболее активными деятелями» социалистической революции, и даже И. В. Сталин «утверждался в рамках “фирменной” беспоповской староверческой психологии, обретшей новый, теперь уже государственный, формат» 3.
Каковы же в действительности были политические взгляды старообрядцев? Имели ли они отношение к событиям 1905 г. и последующему революционному движению?
Староверы всегда предпочитали добиваться удовлетворения своих нужд просьбами. Так, при Александре I федосеевец Е. И. Грачёв «выплакал» через кн. Б. А. Куракина статус богаделенного дома для Преображенского анклава в Москве 4. 19 апреля 1874 г., также после старообрядческих ходатайств, Александр II утвердил «Правила о метрической записи браков, рождения и смерти раскольников», впервые разрешившие регистрировать их в полицейских или волостных управлениях 5. На съезде выборных Рогожской общины в 1875 г. избрали комиссию для доведения до чиновников нужд и пожеланий «во благо всего старообрядчества», и она немало содействовала появлению в 1883 г. закона «О даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по отправлению духовных треб» 6.
В конце XIX – начале ХХ в. старообрядцы продолжали ходатайствовать о предоставлении им тех или иных гражданских и религиозных прав. Для этого созывались их первые нелегальные всероссийские съезды. В то время обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев и московский генерал-губернатор вел. кн. Сергей Александрович убеждали Николая II отменить закон 1883 г.7 И задача первого съезда староверов, прошедшего 14 сентября 1900 г., «сводилась главным образом к единственному вопросу: подать государю императору прошение от всего старообрядчества и просить в нём его величество об отмене стеснений в вере, свободы пастырей и неприкосновенности общественных богомолений» 8. Утверждённый делегатами текст подписали 49 753 старообрядца 9, и в декабре 1900 г. их депутация передала его через вел. кн. Александра Михайловича царю, который дал «милостивое соизволение: оставить закон» 10. Сами староверы высоко оценивали это обращение, видя в нём «историческое событие», «первый шаг сплочённого старообрядчества» и «первое наше слово» 11.
Открывая второй съезд, епископ Уральский Арсений (Швецов) отметил, что цель собравшихся – «выяснять нужды старообрядцев и вырабатывать способы и меры для удовлетворения этих нужд» при помощи многочисленных ходатайств перед «надлежащей властью» – губернаторами, министрами и императором 12. В принятом третьим съездом в 1902 г. Положении о Всероссийских старообрядческих съездах им поручалось «входить с ходатайствами на высочайшее его императорского величества и их императорских высочеств имя, в министерства и во все другие правительственные учреждения и к должностным лицам, для чего выбирать из среды себя депутацию» 13.
В начале февраля 1903 г. председатель нижегородской старообрядческой общины Белокриницкого согласия (именовавшегося тогда Древлеправославная церковь Христова (ДПЦХ), ныне – Русская православная старообрядческая церковь) Д. В. Сироткин встретился с министром внутренних дел Д. С. Сипягиным, после чего направил ему очередное прошение, подписанное также руководителем петербургского старообрядческого общества Д. А. Вышегородцевым 14. Учитывая подобные ходатайства, царь в Манифесте 26 февраля 1903 г. потребовал «укрепить неуклонное соблюдение властями, с делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости… которые… предоставляют всем подданным нашим инославных и иноверных исповеданий свободное отправление их веры и богослужения по обрядам оной» 15.
Сами ревнители древнего благочестия не сомневались в действенности просьб об облегчении их «затруднённого и стеснительного положения» 16. Конечно, далеко не все они удовлетворялись. Так, например, в декабре 1901 г. император отказался признать старообрядческую иерархию, повелев поступившее соответствующее «прошение москвичей оставить без последствий»17. Тем не менее, как отмечали староверы в августе 1904 г., Сипягин «исходатайствовал» у царя прекращение преследования их епископов, а В. К. Плеве разрешил «наши съезды» 18. В результате после трёх нелегальных четвёртый и пятый проходили уже «с негласного разрешения министров, добытого неустанными и смелыми ходатайствам совета, выбранного 3-м съездом» 19. Прошение, поданное министру внутренних дел кн. П. Д. Святополк-Мирскому, повлияло на его программный доклад, представленный императору 24 ноября 1904 г. и намечавший, в частности, «расширение прав старообрядцев» 20. По словам С. Е. Крыжановского, затем эту «политическую программу… у него вырвал из рук граф С. Ю. Витте, осуществивший часть её в укороченном виде, в форме указов 12 декабря того же года» 21.
Указ 12 декабря 1904 г., по словам старообрядцев, «повеял весной свободы вероисповедания». И уже 29 декабря чрезвычайный съезд Всероссийского общественного старообрядческого попечительства при участии беглопоповцев одобрил обширную «Памятную записку», переданную 31 декабря С. Ю. Витте. Обещания председателя Комитета министров убедили старообрядцев в том, что они стоят «теперь на краю поднимающейся зари евангельской свободы веры». Чрезвычайный съезд в феврале 1905 г. «на случай обнародования высочайшей милости о даровании религиозной свободы старообрядчеству» заранее избрал депутацию для принесения «всеподданнейшей благодарности» царю и Витте «как ближайшему ходатаю за наше старообрядчество» 22.
Сравнивая «Памятную записку» с указом «Об укреплении основ веротерпимости», подписанным в день Пасхи 17 апреля 1905 г. и предоставлявшим каждому подданному «свободу верования и молитв по велению его совести» 23, ревнители древнего благочестия констатировали, что «скромная петиция старообрядцев была принята во внимание» 24. Витте, вспоминая позднее о том, как в Комитете министров готовили этот «знаменательный указ», не без гордости заявлял, что его, как и Манифест 17 октября 1905 г., «уничтожить никто не может», поскольку «они как бы выгравированы в сердцах и умах громадного большинства населения, составляющего великую Россию» 25.
После указа 17 апреля староверы «повсеместно служили благодарственные молебны, посылали телеграммы государю и друг другу, это был настоящий старообрядческий праздник»: «Как молния в тёмную глухую полночь среди раскатов грома, пронеслась в настоящее военное и смутное время по России радостная весть о даровании почти полной религиозной свободы» 26. Наставник сызранской поморской общины констатировал, что «драконовский закон уже заменён евангельским» 27. В журнале белокриницкого согласия писали: «В исторический отныне день пала та бюрократическая стена, которая отделяла царя от своего народа… Имя Николая II Александровича не забудется, пока жив будет хоть один русский старообрядец» 28.
Подобные настроения лишь усилились осенью 1905 г., когда «раздалось мощное царское слово, и вековая тяжесть запрета… рухнула в вечность… Сила высочайшего Манифеста 17 октября разрешила скованные уста населения России, и по нужде молчавшее старообрядчество после долгого периода… впервые говорит свободно»29. Один из поморцев, признавая указ 17 апреля «только началом евангельской свободы веротерпимости в России», заявлял, что тогда «утренний рассвет озарил человечество лучами духовного блага… Свет зари превратился в день высочайшего Манифеста 17 октября, и сразу разогнал всю тьму чиновничью, царившую в земле русской в течение двух с половиной столетий» 30.
Между тем государство по-прежнему не признавало старообрядческие общины. Их устав был разработан на Шестом съезде после того, как Сироткин добился от председателя Особого совещания по вопросам веротерпимости гр. А. П. Игнатьева разрешения направлять ему проекты, касавшиеся устройства «нашей церковно-общественной жизни» 31. В январе 1906 г. Второй чрезвычайный съезд постановил обратиться к Витте «с почтительнейшей просьбой об издании временных правил на почве вышеуказанных манифестов и об утверждении представляемого при сём проекта устава наших приходов» 32.
7 февраля 1906 г. 36 поморцев посетили Царское Село, где вручили императору несколько адресов из различных регионов страны 33. А две недели спустя Николай II принял в Царскосельском дворце объединённую делегацию из 120 поповцев, поморцев и представителей других согласий, передавших благодарственные адресы с выражением «любви и преданности старообрядческого населения». Под ними стояли 74 тыс. подписей старообрядцев. Возглавлявший делегацию Сироткин обратился к царю со словами: «Великий государь! Нашей заветной мечтой было видеть тебя, чтобы передать тебе чувство безграничной любви и благодарности старообрядческого населения за те великие незыблемые начала религиозной и гражданской свободы, которые тебе угодно было даровать русскому народу», и поэтому старообрядцы, «более других стеснённые в гражданских и религиозных правах», ждут «скорейшего осуществления твоей воли – созыва Государственной думы и готовы принять участие в созидательной работе» 34. Участвовавшие в приёме «старообрядцы ликовали, что удостоились лично поблагодарить государя за “дарованные” милости» 35. Царь ответил им прочувствованной речью: «В вашей любви и преданности я всегда находил утешение, и в это тяжёлое время, переживаемое Россией» 36.
Однако уже 14 марта последовало ужесточение уголовного законодательства, и теперь виновных «в произнесении или чтении, публично, проповеди, или речи, или сочинения или в распространении или публичном выставлении сочинения или изображения, возбуждающих к переходу православных в иное вероисповедание», а также в устройстве без разрешения скита, в венчании «с лицом заведомо православного исповедания» и т. д., надлежало наказывать штрафами и тюремным заключением до трёх лет 37.
В апреле 1906 г. Освященный собор поручил совету Всероссийского съезда старообрядцев ходатайствовать перед правительством «о расширении религиозных льгот в законодательном порядке», и прежде всего – «о разрешении нашим священнослужителям именоваться по их сану священного рукоположения» 38. Участники Седьмого всероссийского съезда в августе того же года сетовали на то, что хотя дарованные 17 апреля и 17 октября свободы и права открыли старообрядчеству путь «из угнетённого состояния», но они «доселе ещё не проведены в жизнь», «приходы старообрядческие ещё не признаны правительством», и поэтому «нет возможности старообрядцам развить приходскую жизнь, устроить приходские школы, библиотеки, читальни, благотворительные учреждения, завести законные метрические записи, духовенство выписать из прежних сословий и т. п.» 39.
Помня о том, что проект закона о приходских общинах староверов 40 давно передан правительству, которое «держит его под сукном», съезд единогласно решил телеграфировать П. А. Столыпину «об утверждении означенного Положения» 41. Тот сразу же ответил телеграммой: «Передайте съезду, что Совет министров самым внимательным и тщательным образом рассмотрит вопросы, волнующие старообрядческое население, разрешение которых признаю неотложным» 42. В сентябре Сироткин, посетив руководителей МВД и Министерства народного просвещения, получил от них обещание, что долгожданное положение «на днях будет утверждено» 43. Но в начале октября совет Всероссийского съезда старообрядцев снова просил главу правительства «ускорить утверждение законопроекта о старообрядцах» 44. 17 октября 1906 г. царь подписал указ «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин» 45.
Впрочем, одного «священного царского слова, провозгласившего в нашем родном отечестве гражданскую и религиозную свободу», для прекращения дискриминации было мало. Древлеправославные продолжали жаловаться на проявления «чиновничьего произвола и гнёта», особенно со стороны местных властей – от губернатора до урядника 46. Запрещались их крестные ходы, производились обыски, арестовывались духовные лидеры и проч . 47 Но несмотря на это староверы твёрдо занимали верноподданническую позицию, повсеместно молились за царя и особ Императорской фамилии 48, направляли им сотни поздравлений и адресов по случаю различных праздников и памятных дат 49. Когда на Втором чрезвычайном съезде зашла речь о том, можно ли после Манифеста 17 октября называть царя «самодержцем», П. П. Рябушинский напомнил, что титул «самодержавный» существует со времён Иоанна III, и «такое присвоение, по исследованию учёных, было установлено ввиду независимости русских государей от других государей, соседей» 50.
При этом все слои старообрядцев отвергали революционные действия. События января 1905 г. их журнал называл «страшным бунтом» 51, почти повсеместные «бунты, волнения, разрушения, поджоги, грабежи, убийства» казались им «безотрадны и страшны» 52. Они не скрывали готовности «деятельно ответить на призывы государя о помощи к прекращению смуты», доказав, что «старообрядцы верят в осуществление реформ 17 октября, презирают насилие» 53. Поморцы «от имени русского народа» благодарили петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова за его «энергию и… умение успокоить возмущённых революционеров» 54. «Наш долг пред родиной – искать возможного счастья для нашего Отечества, тишины в стране, мира в населении, – говорилось в докладе постоянного Совета съездов на Втором чрезвычайном съезде в январе 1906 г., – а главное, прекращения пролития безвинной русской крови… Мы должны… пойти к престолу царя и мирным путём, без оружия и пролития братской крови, стремиться достигнуть скорейшего проведения в жизнь высочайшего Манифеста 17-го октября» 55.
В ноябре 1905 г. старообрядцы организовали в Ковенской, Витебской и Черниговской губерниях несколько «мирных манифестаций как вполне довольные обещанными реформами». Другие и это осуждали, предпочитая «избегать устройства шествий, а действовать на народ чрез объяснение бесцельности и вреда проповедуемых некоторыми насильственных действий» 56.
В то же время все староверы единодушно поддерживали созыв народного представительства. Им казалось, что Дума «может и должна помочь государю многое исправить, искоренить произвол властей, удовлетворить нуждающихся в облегчениях и т. п.» 57. Поэтому они постоянно напоминали о том, насколько «желательно… чтобы была созвана Государственная дума как можно поскорее» 58. Одновременно Совет съездов в 1905 г. «чрез своих уполномоченных, ездивших по приходам, и чрез рассылку воззваний разъяснял населению значение высочайших манифестов и выборов в Государственную думу» 59.
На Втором чрезвычайном съезде в январе 1906 г. П. П. Рябушинский заявил о «чрезвычайной важности» голосования и настаивал на необходимости «посвятить этому делу свои силы и старания, чтобы избрать достойных депутатов в Государственную думу, которые бы отвечали интересам России вообще и нашим, старообрядческим, в частности». М. И. Бриллиантов призывал «забыть счёты» и «теперь стремиться к тому, чтобы прошло в Государственную думу больше старообрядцев… не обращая внимания на то, к какому бы согласию он не принадлежал» 60. Совет съездов сформулировал в докладе: «Наш символ: царь и свобода, разумеемые в смысле высочайшего Манифеста 17-го октября, пойдём к царю нашему и скажем ему своё сыновнее слово: “Отец – не медли, но созови скорей возвещённую тобой Государственную думу”» 61.
Тогда же собравшиеся выработали единую общественно-политическую программу, наметив круг вопросов, «которые следует провести в Государственную думу». После выступлений «о наделении малоземельных и безземельных крестьян землёй путём правильного отчуждения» делегаты передали дальнейшее обсуждение данной проблемы в «комиссию из крестьян». Затем они единогласно обязали будущих депутатов заботиться «о единстве и целости России»; «о сохранении в государстве царской власти, опирающейся на решения Государственной думы»; «об отмене сословных преимуществ, установлении в государстве правопорядка, обеспечивающего свободное проявление труда, торговли, просвещения, свободного исповедания веры и установления законной защиты и неприкосновенности личности»; «об изменении старого чиновничьего правления и замене его другим, народным – доступными для населения учреждениями»; «о введении всеобщего бесплатного обучения, по исключении из него слова “обязательного”»; «о быте рабочих и об исполнении справедливых их желаний применительно к порядкам, существующим в других государствах с развитой промышленной жизнью»; «о правильном распределении налогов в зависимости от доходов» 62. В целом, такие пожелания находились где-то между лозунгами кадетов и октябристов 63.
В день открытия заседаний Думы съезд беглопоповцев направил её председателю телеграмму, сообщив, что «приветствует первых народных представителей и просит не забывать интересов истинно-русского старообрядчества, вынесшего на своих плечах всю тяготу отживающего режима». В конце следовали восклицания: «Да здравствует религиозная свобода! Да здравствуют народные избранники на славу и счастье России!». О том же С. А. Муромцеву телеграфировали и уральские староверы. В Москве и других городах в тот день в старообрядческих храмах совершалось «при большом стечении молящихся благодарственное молебствие с провозглашением многолетия государю императору» 64.
Неудивительно, что на роспуск I Думы журнал «Старообрядец», внимательно следивший за её работой 65, реагировал болезненно. На его страницах утверждалось, что народ «оценит по достоинству это событие, уничтожившее все его мечты и надежды». В редакции ожидали, что правительство растеряет всех своих сторонников, поскольку, «судя по настроению народа», не только правые партии, но и кадеты «едва ли могут рассчитывать на успех в новой избирательной кампании» 66. Видимо, разочарование сказалось и на активности старообрядцев, и если в первой Думе их насчитывалось четверо, то во вторую прошёл только один 67.
К тому же старообрядчество не было единым. Среди его последователей выделялись различные социальные группы (крупные предприниматели – попечители общин, священство или наставники у беспоповцев и начётчики), позиции которых при многих схожих чертах имели свою специфику.
Старообрядческое духовенство, особенно белокриницкого согласия, в целом вело себя наиболее сдержанно, демонстрировало лояльность самодержавию и дистанцировалось от политических процессов. В июле 1902 г. Собор «оставил» созыв съездов, призванных обсуждать «церковно-общественные нужды», на попечительство (с конца 1905 г. – Совет съездов), но «не дозволил» участвовать в них духовным лицам 68. Тем не менее в 1905–1907 гг. это решение, по сути, не соблюдалось. В частности, из 208 делегатов Шестого съезда в августе 1905 г. 12 являлись священниками или дьяконами, а на заседаниях впервые присутствовал архиерей – архиепископ Московский и всея Руси Иоанн (Картушин) 69.
Прошедший в том же месяце Освященный собор постановил, чтобы священники «ежегодно в день 17 апреля, в память дарованной нам свободы вероисповедания, служили божественную литургию и благодарственный о здравии его величества молебен, а равно и в другие царские дни» 70. Архиепископ Иоанн (Картушин) поучал верующих: «Бог и государь даровали нам милостей чуть ли не больше того, что мы ждали. Теперь мы в долгу перед Богом и перед государем». И поэтому обязанность каждого, по словам иерарха, «состоит в послушании царским велениям, особенно в нынешнее смутное время, когда почти повсеместно происходит брожение умов, возмущение в народе… Мы должны помнить заповедь: Бога бойтесь, царя чтите» 71.
Открывая Второй чрезвычайный съезд в январе 1906 г., московский архиепископ отслужил молебен с многолетием императору и произнёс речь, в которой указывал: «Понятия наши о реформах в государстве спокойные и даже не требовательные, а просительные… Мы, старообрядцы, довольны были законом 17 апреля и 6 августа 72. Манифест 17 октября признаём как высшую меру успокоения. А посему приглашаем всех истинно-русских людей совершенно успокоиться и в братской любви ожидать проведения его в жизнь, содействуя правительству всеми законными и возможными для нас средствами» 73.
После 17 апреля старообрядческое духовенство несколько активизировалось. На епархиальных съездах, как выражались в печати, «святая правда вышла на путь свободы» 74, создавались братства, ставившие «своей целью объединение всех старообрядцев на почве просвещения» 75. Однако на освященных соборах и епархиальных съездах о политике не говорили. Так, в сентябре 1906 г. собор епископов обсудил доклад «о разврате юношества и принятии мер», но, судя по дневниковым записям Е. П. Мельникова, участников заседания гораздо больше интересовало то, что касалось «свечного дохода», устройства гостиницы при архиепископии, возможности расторжения брака с женой, сошедшей с ума, и венчания с другой, и т.п. 76
Весьма осторожно духовенство отнеслось и к попытке реорганизовать московскую архиепископию ДПЦХ в митрополию. В 1905 г. споры о «возведении в Русской области митрополита», равного белокриницкому, отложили, дабы не лишиться полученных льгот 77, а в апреле 1906 г. собор не стал высказываться по существу дела, «предложив обществам: обсудить этот вопрос всесторонне и, объединившись, представить свои мнения на рассмотрение и каноническое решение будущего Освященного собора» 78. Наконец, после широкой дискуссии на августовском съезде Освященный собор в сентябре 1906 г. постановил: «Приняв во внимание положение в России старообрядческой Церкви и определение предыдущего Собора, а также единодушное желание граждан… возвести господина Иоанна, московского архиепископа, в сан митрополита Российской старообрядческой области… упросить г. архиепископа Иоанна принять звание митрополита» 79. На этом настаивал и собор 1907 г. 80, но архиерей, как писал Ф. Е. Мельников, «решительно отказывался от этой чести, то по смирению, то по нерешительности, боясь, как бы не сделать этим неприятное правительству» 81.
При этом выступления старообрядческих священников не могли не принять оттенок, связанный с переживаемым временем. 21 октября 1905 г. архиепископ Иоанн (Картушин), направив телеграмму Николаю II, закончил её словами: «Да здравствует царь! Да здравствует свобода» 82. Однако лишь отдельные старообрядческие пастыри пытались более активно участвовать и в общественно-политических процессах. Так, епископ Уральский и Оренбургский Арсений (Швецов) принимал, по его признанию, «весьма деятельное участие» в организации всероссийский съездов 83. Первые два, по сути, были «собраны» им, а третий, состоявшийся после соборного постановления, готовился с его «архипастырским благословлением», но по «передоверию» 84. Вышедший из начётчиков епископ Нижегородский Иннокентий (Усов) издавал журналы «Старообрядческий вестник» (1904–1905) и «Старообрядец» (1906–1907) 85.
В решениях съездов, как правило, отражались взгляды крупных предпринимателей от И. А. Пуговкина до Д. В. Сироткина, П. П. Рябушинского и Г. Н. Грачёва, в 1905 г. рассчитывавших на сотрудничество с властью. Так, председательствовавший на Шестом съезде Сироткин не допустил дискуссии «о положении старообрядчества в связи с общим положением в России». Иначе он поступить не мог, поскольку перед этим «дал администрации слово, что на съезде не будут возбуждаться политические вопросы». В случае несогласия делегатам следовало «приискать другое помещение для заседаний» и заменить председателя 86.
Гораздо радикальнее высказывались начётчики. На Шестом съезде они не стали возражать Сироткину, однако сразу же после его окончания их либерально настроенные представители (Ф.Е. и В. Е. Мельниковы, Н. Д. Зенин, В. Е. Макаров, И. К. Перетрухин и др.) провели частное совещание, вернувшись к «кардинальному вопросу программы», который был снят «по требованию нижегородского губернатора» 87. Размышляя на этой встрече о том, «обеспечивает ли существующий государственный строй (самодержавие) права старообрядцев, закреплённые в указе 17 апреля 1905 г.?», В. Е. Мельников утверждал, что «передние ряды царских врагов и супостатов занимает наше самодержавное правительство», и староверы должны подняться на защиту «попираемого царского слова». Поясняя свою позицию, начётчик добавил: «Я поэтому стою за упразднение ныне существующего государственного строя». Его брат Ф. Е. Мельников тогда же констатировал, что «существующий полицейско-бюрократический строй не обеспечивает прочности указов и законов в России и прав человека-христианина и гражданина». Их поддержал Перетрухин. Все они видели выход в созыве Думы «с решающим голосом», которая гарантирует «сохранение в силе указа 17 апреля» 88. В итоговом заявлении собравшиеся провозгласили: «Старообрядчество – сила, с которой правительству пришлось считаться и уступить». По мнению начётчиков, этому способствовали «наша организованность, солидарность и единение». И они не сомневались в том, что, «идя этим путём, мы наконец, добьёмся не “милости”, а своего неотъемлемого права на безусловную свободу веры, совести и личности. Да будет нашим лозунгом: “Старообрядцы всех согласий, объединяйтесь на борьбу за право и свободу совести!”» 89.
В других публикациях представители этой группы жаловались на то, что власти не следуют духу и букве указа 17 апреля. «Скорее бы, скорее Государственную думу! – торопил события Ф. Е. Мельников. – Тогда не было бы необходимости во временных правилах, тогда не было бы и правовольных чиновничьих распоряжений, которые и после высочайших указов и манифестов стесняют нашу религиозную свободу и гнетут нашу совесть» 90. После ужесточения уголовных законов в марте 1906 г. он с недоумением отметил: «Такого ли положения добивались старообрядцы?… Наши надежды ныне возлагаются единственно на царя и Государственную думу» 91. Столь же категорично начётчики выступали против сословных привилегий. Макаров обличал дворянство, которое характеризовалось им как «паразитическая каста», «трутни-белоручки», и заявлял: «Поэтому мы, старообрядцы, благодарим Провидение, что среди нас нет ни одного дворянина» 92.
Особой решительностью отличался Зенин, которого неоднократно арестовывала полиция 93. Сам он, впрочем, полагал, что трудился «на благо семьи и государства, хотя и преследуемый от него в лице низших агентов» 94. В ноябре 1905 г. Зенин написал, отпечатал и начал распространять листовку с обращением «к брату любимому во Христе». В ней говорилось, что «по смыслу содержимого вероучения» старообрядцы «не должны ввязываться в какую-бы то ни было политику, но стоны избиваемых с обеих сторон политических партий, плач и сиротство жён, детей и матерей убитых, разорение страны и с христианской точки зрения обязывает нас выступить активными деятелями на общегосударственную ниву». Идти на это следовало именно потому, что «мы все горячо любим свою Мать-Родину… чтим Царя, как помазанника Божия, которым грозит страшная опасность: первой распадение и обнищание с перспективой анархии, а второму всякое незаслуженное унижение и низвержение». В итоге начётчик приходил к выводу: «“Свободы” нам нужны, но не свободы избивать бомбами и дрекольями кого-бы то ни было… Нужно возможно быстрое проведение в жизнь реформ, возвещённых Манифестом 17 октября с[его] г[ода], но без пролития крови и всяких забастовок» 95. Таким образом, даже самые либеральные старообрядцы сохраняли веру в царя и Думу, осуждая революционное насилие. От большинства участников съездов они отличались преимущественно своей риторикой.
Вместе с тем основную массу староверов (до 90% 96) составляли крестьяне, которые довольно скромно были представлены на съездах. При этом, ясно осознавая их значение в староверии, Сироткин признавал, что «главенствующий наш класс – крестьянство» 97, а Мельников утверждал, что «самым насущным и живейшим вопросом должен считаться вопрос крестьянский – земельный» 98.
В 1905 г. часть крестьян-старообрядцев активно участвовала в аграрных беспорядках. Мельников с сожалением писал про такие их действия, как «захват помещичьих имений, порубка лесов, сожжение усадеб». Но начётчик уверял, что на это их толкнули «или страшная нужда – голод и холод, или пришлые подстрекатели, которые возбудили крестьян заведомо ложными толками о земле или обещанием золотых гор» 99. Другие и вовсе не придавали значения сравнительно небольшому числу подобных эксцессов и настаивали на том, что в 1905 г. «руки старообрядцев… к делу пожаров и разрушения не прилагались» 100.
Через месяц после Второго чрезвычайного съезда, на котором «продолжительные прения» о земле вызвали столкновение «разноречивых мнений», Сироткин и П. П. Рябушинский «с разрешения правительства» устроили в Москве съезд крестьян-старообрядцев, собрав 350 человек из 43 губерний и областей. Сами староверы называли его «подлинно крестьянским» 101. Совет всероссийского съезда заранее разослал им перечень вопросов, которые предстояло рассмотреть 102. В результате дискуссий появилась резолюция, требовавшая принудительно «отчуждать земли казённые, удельные, мещанские, купеческие, монастырские, церковные и крупновладельческие (!. – В.К.)… пахотные, луговые и лесовые», прежде всего – «неиспользуемые владельцами». За отчуждённую частную собственность полагалась плата «справедливая, умеренная и необременительная для крестьян», определявшаяся «оценочной комиссией», которая должна была состоять наполовину из «крестьян данной местности». Выплаты проводились бы «не через банк, а на счёт государства» 103.
При этом крестьян-старообрядцев волновало не только увеличение своих наделов, но и устройство органов местной власти. Тут им казалось «желательно, чтобы были всесословная волость и всесословный суд», тогда как институт земских начальников предполагалось упразднить. В земскую управу следовало избирать по два крестьянина от каждой волости, без участия которых «никакие бы постановления… не определялись» 104.
Как справедливо писал С. П. Мельгунов, старообрядческий крестьянский съезд «своими радикальными постановлениями отделился демаркационной линией от всех так называемых умеренно-прогрессивных, т. е. правых политических партий», в том числе и от «Союза 17 октября» 105. Впрочем, отличались они и от намерений социалистических партий. Отчуждённую землю крестьяне-староверы собирались сделать «их неотъемлемой собственностью» 106, а вовсе не передать в «собственность всенародную», как планировали во Всероссийском крестьянском союзе 107.
В результате именно крестьяне оказались наиболее радикальным слоем старообрядцев, составлявшим к тому же подавляющее большинство ревнителей древнего благочестия. Кроме того, для них отнюдь не была характерна политическая пассивность. Не случайно трое из четверых депутатов-староверов, избранных в I Думу, являлись крестьянами 108.
Со своей стороны, Совет съездов ДПЦХ в условиях революции призывал избегать крайностей. В его докладе на Втором чрезвычайном съезде отмечалось: «Наше отечество в опасности. Непонятая свобода привела Россию к внутреннему разделению и образовала из русских людей две противоположных партии, окрещённых печатью красной и чёрной… Крайняя красная с оружием и бомбами стремится достигнуть установления в Русской стране республики, крича под красным флагом – долой царя, да здравствует республика! А крайне чёрная с дрекольем в руках, прикрываясь флагом национальным, под девизом самодержавия, защищает старый чиновничий строй, доведший русскую землю до настоящего несчастного её положения… Стремления красной и чёрной ведут к гибели нашу страну. Мы должны быть чужды таких проявлений» 109. С этим соглашались и поморцы 110.
Однако все учитывали, что старообрядчество, объединённое «единством веры, церковных таинств, преданий и обрядов», «как религиозное общество не может во всей своей совокупности принадлежать к той или иной политической партии», и взгляды его представителей «могут быть различны» 111. Съезды не пытались «по существу своей деятельности навязывать населению те или другие политические убеждения», исходя из того, что староверы, «участвующие в государственной деятельности своей страны, могут лично чрез политические партии проводить свои взгляды» 112. Как рассуждал начётчик Макаров, «каждая группа или класс людей имеет свои особые экономические интересы… естественно, что всякий из нас в отдельности, не как старообрядец, а как… купец, крестьянин или рабочий, идёт в ту партию, которая обещает отстаивать его экономические интересы» 113. И действительно, в период подъёма политического движения некоторые ревнители древнего благочестия и даже отдельные руководители старообрядчества занялись партийной деятельностью.
В разгар революции и после неё староверов стремились привлечь к себе черносотенцы. Русское собрание провозглашало, что «любовью своей обнимает и тех истинно русских людей, которые с семнадцатого века, разошедшись с нами в букве, не отступили, однако, от Животворящего Слова» 114. Союз русского народа заявлял, что «признаёт веру православную… основою русской жизни, господствующею в России, не делая в православии никакого различия между последователями старого и нового обряда» 115. Иные региональные правомонархические организации предлагали «полное уравнение в правах старообрядцев с остальными русскими» при главенстве синодальной Церкви 116.
В. А. Грингмут опубликовал в «Московских ведомостях» сообщение о создании отставным подполковником Ф. Е. Колонтаевым, тесно связанным с московским градоначальником А. А. Рейнботом, Союза старообрядцев 117, куда вошли «люди крепкие… не отступающие ни на йоту от исконного христианского учения, а потому и преданные и сердцем, и умом помазаннику Божию, русскому царю» 118. В своём воззвании Союз призывал «выполнить свой долг перед Родиной, помочь прекращению неслыханной смуты». Его организаторы вразумляли читателя: «Не потакай изменникам… они, изменники, отравили русскую молодёжь ложным учением, и, развратив её, выманили на улицу для бесчинства и безобразия… разорили всю страну твою и все твои сословия… натравляют тебя на чужое добро, крестьян на помещиков, работников на хозяина, государя же царя они совсем не признают» 119.
Однако староверы резко отмежевались от данной организации. Особенно их возмутило то, что воззвание появилось в «Московских ведомостях», известных «клеветами, доносами на старообрядцев, печатающих всякую заведомую чушь, какую угодно брань против ненавидимых ими старообрядцев!» 120. Макаров указывал на то, что, «надеясь перетянуть старообрядцев на сторону реакции, эти люди недавно ещё заискивали перед старообрядцами, льстили их духовным руководителям», тогда как на самом деле им нужно «сохранение старого режима с его деспотизмом и гонениями на веру, слово и мысль», и с этой целью они «рассылали кипы черносотенно-хулиганских и погромных прокламаций, например, от имени несуществующего “союза старообрядцев”» 121. 27 ноября 1905 г. на специально созванном по этому поводу частном собрании московских староверов с участием священнослужителей Союз признали «провокаторским и вредным для старообрядчества» 122, пытающимся его опорочить распространением слухов о том, будто его приверженцы «действительно сочувствуют программе Грингмута и готовы принять участие в черносотенных организациях» 123. Хотя «Московские ведомости» сообщали, что в этой организации объединились «последователи Рогожского и Преображенского толков» 124, сами представители белокриницкого согласия были уверены, что Колонтаев пользовался поддержкой лишь некоторых сторонников старообрядческого епископа Иова, наиболее радикальной ветви неокружников, отколовшихся от ДПЦХ 125.
Старообрядцы сотрудничали с «союзниками» в основном в провинции. Депутат Думы старовер Д. П. Гулькин сначала возглавил один из отделов Союза русского народа в Бессарабии, но затем, разочаровавшись, вышел из него 126. Покровитель нижегородских беглопоповцев Н. А. Бугров, по словам лидера местных кадетов, в 1909 г. финансировал черносотенную газету «Минин» и баллотировался в Думу от СРН 127. Однако в 1905 г. сам Бугров, излагая свои убеждения, заявил: «Ни к какой политической партии я до настоящего времени не примыкал, но, желая скорейшего, по возможности, успокоения родной страны… я всегда буду противником насилия и произвола, безразлично, в какой бы форме и под каким флагом, белым или красным, они не проявлялись» 128.
На Урале в рядах СРН оказались не менее шести последователей часовенного и белокриницкого согласий, а одним из отделов первые два года руководил купец-старовер 129. Уфимское Царско-народное русское общество, а затем и губернский отдел союзников возглавлял предприниматель из поморцев К. А. Лаптев 130. В Иваново-Вознесенской самодержавно-монархической партии председательствовал купец-старовер Н. И. Куражев 131. В Сибири товарищем председателя городского отдела СРН в Новониколаевске был купец К. А. Поляков, стоявший во главе церковного совета Новониколаевской белокриницкой общины 132, а членом барнаульского отдела – купец И. Поляков 133.
Наибольшим влиянием среди староверов СРН пользовался в Белоруссии. 11 декабря 1905 г. председатель Союза А. И. Дубровин приехал к военному министру А. Ф. Редигеру и «предложил привезти из Витебска 20 тысяч старообрядцев», которые, будучи вооружены и расположены вокруг Петербурга, могли бы «навести порядок в районе заводов и не дать рабочим двинуться на Царское Село». Генерал «его поблагодарил и обещал иметь его предложение в виду, на случай крайности» 134. Правда, больше они не встречались. Вероятно, число староверов-черносотенцев в разговоре было серьёзно завышено, но они действительно руководили отделами в Гомеле и в Режицком уезде Витебской губ. 135 Пост председателя Гомельского отдела СРН занимал старообрядец А. Х. Давыдов, один из ближайших сподвижников Дубровина. На III Всероссийском съезде русских людей в Киеве в октябре 1906 г. он «от имени 46 тыс. старообрядцев» говорил про «преданность старообрядцев царю и Родине, их ненависть к революции и стремление бороться с крамолой» 136. Депутат III Думы, председатель одной из деревенских старообрядческих общин Двинского уезда М. К. Ермолаев выступил учредителем и председателем отдела СРН в с. Мапиновское 137. В Витебске возникла также правомонархическая организация «Общество старообрядцев и правых» 138.
И всё же массового притока старообрядцев в черносотенные организации не наблюдалось. Во многом это объяснялось видной ролью, которую играло в СРН синодальное духовенство 139. Некоторые архиереи резко возражали против включения старообрядцев в Союз. Архиепископ Владимирский Николай (Налимов) даже жаловался в Святейший Синод на то, что Устав СРН противоречит «постановлениям о раскольниках Православной Российской Церкви» 140. И если в первой редакции программы СРН декларировалось равенство «в православии» приверженцев старого и нового обрядов, то вскоре «союзники» потребовали «не попускать… возрастающее дерзостное стремление» староверов забрать «себе права и преимущества господствующей Церкви и занять её место». Также не одобрялось использование ими «наименований, принадлежащих православной вере и иерархии» 141. Соответственно, на страницах старообрядческих периодических изданий черносотенное движение, и прежде всего СРН, подвергались постоянной критике 142. Староверы сделали вывод: «Такие “друзья” нам не нужны. Мы знаем – кто вы и чего вы жаждете. Прочь от нас! Прочь!» 143.
С Союзом 17 октября древлеправославные предприниматели поддерживали гораздо более тесные связи. Да и программа их съездов в значительной мере была созвучна идеям октябристов. Братья П. П. и В. П. Рябушинские в конце 1905 г. стали членами московского ЦК Союза 17 октября, где заняли позиции на левом фланге. В ноябре 1905 г. они также выступили организаторами Умеренно-прогрессивной партии (УПП), вскоре свернувшей свою деятельность, и вместе с крупными предпринимателями-старообрядцами И. А. Пуговкиным, И. А. Морозовым, поморцами Е.В. и И. В. Морозовыми и др. участвовали в создании Торгово-промышленной партии (ТПП). На выборах в I Думу УПП и ТПП блокировались с Союзом 17 октября, а в ноябре 1906 г. ТПП вошла в его состав 144. Между тем ещё в октябре из-за разногласий с А. И. Гучковым, поддерживавшим столыпинскую политику, П. П. Рябушинский покинул ряды октябристов и присоединился к Партии мирного обновления. В апреле 1907 г. его в административном порядке выслали из Москвы (формально в связи с «противоправительственным направлением» издававшейся им газеты «Утро») 145. В то же время он оставался одним из руководителей старообрядчества: принимал активное участие во всероссийских съездах и в работе их Совета, а также в обсуждении проекта закона о старообрядческих общинах, финансировал «Народную газету» с приложением «Голос старообрядца», был включён в объединённую делегацию, посетившую 21 февраля 1906 г. Николая II. По словам Ф. Е. Мельникова, Рябушинский «явил собою новый тип старообрядца с высокой светской культурой» 146.
В Казани, где среди местного купечества довольно высока была доля староверов, октябристы 147 включили в свою программу требования: «Изъятие всех вероисповеданий из-под опеки правительственной власти. Устранение всех законоположений, стеснительных для того или другого вероисповедания. Восстановление всех попранных религиозных прав, в том числе и права на собственность. Предоставление каждому вероисповеданию права на полную свободу отправления богослужений и духовное самоуправление на началах религиозных норм каждого вероучения. Предоставление каждой религиозной общине прав юридических лиц в самостоятельном распоряжении своим имуществом» 148.
Немало древлеправославных (в основном из купцов) оказалось в руководстве казанского и чистопольского отделов Союза 17 октября, а также в местной ТПП, которую в Казани возглавлял председатель совета общины ДПЦХ купец М. Л. Свечников (кроме того, в её комитете числилось около 20 старообрядцев, преимущественно предпринимателей). В Чистополе лидером октябристов стал купец-старовер Н. В. Маланьичев. Предвыборные собрания казанского городского отдела Союза проводились часто в старообрядческой моленной или в часовне, а один из его комитетов размещался в 1905–1906 гг. в здании, принадлежавшем общине староверов 149. Газета «Обновление», орган казанских октябристов 150, периодически публиковала статьи старообрядцев (в частности, священника А. И. Калягина) и освещала интересовавшие их события, включая Второй чрезвычайный съезд. Неудивительно, что на выборах в I Думу многие казанские староверы поддержали Союз 17 октября. После её роспуска они заметно охладели к политической деятельности, но всё же присутствовали и среди выборщиков во II Думу 151.
По словам Мельгунова, некоторые «интеллигентные старообрядцы» сочувствовали кадетам, и Конституционно-демократическая партия могла собрать среди них «богатую жатву» 152. «Русские ведомости» писали о кадетских взглядах Сироткина, но кандидатом в I Думу он пошёл по списку октябристов 153. Екатеринбургский купец Г. Н. Грачёв, участник старообрядческих съездов, в 1905–1907 гг. публиковал в местной печати статьи о свободе совести и «принял энергичное участие» в выборах, примкнув к кадетам. После роспуска I Думы он распространял «Выборгское воззвание», из-за чего его дом подвергся обыску, в ходе которого полиция обнаружила три гектографа и запрещённую литературу, отправив Грачёва на три месяца в тюрьму 154. Однако выявленные исследователями случаи сотрудничества староверов и Партии Народной свободы сравнительно редки, причём известно в основном об их контактах уже после 1907 г.155
Среди революционеров, по мнению современных историков, ревнителей древнего благочестия в 1905–1907 гг. не наблюдалось 156. Их наставники и лидеры критиковали левых во много раз интенсивней, чем крайне правых. Так, перед выборами в I Думу эмиссары Совета съездов разъясняли «неправильность взглядов» именно «представителей крайних демократических, социальных и революционных партий» 157. Поморцы утверждали, что староверы должны отвергать призывы «проповедников революции, ложных апостолов, посланных от князя тьмы», поскольку «эти лжепророки жаждут видеть разрушение могущества тысячелетней России» 158.
Связи старообрядцев с социалистами имели скорее случайный характер или свидетельствовали об их непонимании разницы между партиями. Так, полиция признала социал-демократом зажиточного крестьянина-старовера из Ковровского уезда, владельца крупного торгового дома Ф. И. Носкова, у которого нашли листовку РСДРП и подписной список пожертвований в пользу пострадавших от политических репрессий. Но, выйдя в 1906 г. из тюрьмы, он финансировал уже кадетскую газету как «служащую революционным целям» 159. В 1905–1907 гг. не выявлено контактов староверов с левыми и на Урале 160. Помощь отдельных крупных старообрядческих предпринимателей революционерам мифологична и не имеет документального подтверждения.
Таким образом, в годы Первой российской революции старообрядчество усилило свою общественно-политическую активность, выпуская периодические издания («Старообрядческий вестник», «Старообрядец», «Голос старообрядца»), проводя частые съезды, совещания, соборы, обсуждавшие уже не только внутриконфессиональные проблемы (признание иерархии, ответственность за ведение метрических книг и проч.), но и реформаторские устремления – необходимость предоставления свободы совести и расширения гражданских прав в России, законодательные функции народного представительства. В результате в начале 1906 г. съезд принял политическую программу, которую старообрядцы желали предложить Государственной думе.
Наибольший консерватизм среди староверов демонстрировало духовенство, либеральнее других высказывались начётчики, но ещё радикальнее оказались крестьяне-старообрядцы, потребовавшие на своём съезде принудительной конфискации казённых, церковных и части помещичьих – «крупновладельческих» земель. Но, несмотря на иногда резкую риторику и критику «полицейско-бюрократического режима», все слои и группы староверов придерживались монархических взглядов. Даже либеральные начётчики, надеясь на Думу, сохраняли веру в царя. Старообрядческие предприниматели (в политических делах занимавшие, как правило, центристские позиции между священнослужителями и начётчиками) в основном ориентировались на октябристов. При этом все согласия и социальные слои ревнителей древнего благочестия, за исключением отдельных случаев, осуждали насилие и отвергали сотрудничество как с «красной», так и с «чёрной» партиями. Впрочем, в западных губерниях со значительной долей нерусского населения ограниченное сотрудничество староверов с черносотенцами всё же прослеживалось.
В целом же, общественно-политическая позиция старообрядцев в период Первой российской революции выражалась в лозунгах: «Да здравствует царь! Да здравствует свобода!» и «Да здравствуют народные избранники на славу и счастье России!».
1 Подробнее см.: Керов В. В. Русские революционеры и русские старообрядцы: от симпатии к репрессиям // История и современное мировоззрение. 2024. Т. 6. № 1. С. 13–19.
2 Шахназаров О. Л. Отношение к собственности у старообрядцев (до 1917 года) // Вопросы истории. 2004. № 4. С. 67; Шахназаров О. Л. Старообрядчество и большевизм // Вопросы истории. 2002. № 4. С. 72–98.
3 Пыжиков А. В. Грани русского раскола. Заметки о нашей истории от XVII века до 1917 года. М., 2013. С. 415–418, 644–645. Подробнее о книге см.: Керов В. В. Русская история сквозь призму старообрядческого фактора // Российская история. 2014. № 4. С. 203–213.
4 Федосеевцы. История Преображенского кладбища // Сборник правительственных сведений о раскольниках / Сост. В.[И.] Кельсиев. Вып. 1. Лондон, 1860. С. 23, 43–114.
5 ПСЗ-II. Т. 49. Отд. I. СПб., 1876. № 53391. С. 652–656; Юхименко Е. М. Старообрядческий центр за Рогожской заставою. М., 2005. С. 46.
6 Ульянова Г.Н., Юхименко Е. М. Московский предприниматель, меценат, старообрядец Козьма Терентьевич Солдатенков: новое прочтение биографии // Экономическая история: Ежегодник. 2022. М., 2023. С. 55 и др.
7 Что было в России пять лет назад // Старообрядческий вестник. Ежемесячный журнал. (Климовцы). 1905. № 3. С. 135–152.
8 Великое дело // Голос старообрядца. 1906. № 53. 23 июля.
9 Его сиятельству господину министру внутренних дел князю Петру Дмитриевичу Святополк-Мирскому старообрядцев, приемлющих белокриницкое священство, прошение // Труды Шестого всероссийского съезда старообрядцев в Нижнем Новгороде 2–5 августа 1905 г. Н. Новгород, 1905. С. 71.
10 Дела пяти первых всероссийских старообрядческих съездов // Старообрядческий вестник. 1905. № 1. Приложение. С. 26.
11 Доклад совета Всероссийского съезда старообрядцев // Труды VII всероссийского съезда старообрядцев в Нижнем Новгороде 2–5 августа 1906 г. и 2[-го] чрезвычайного съезда старообрядцев в Москве 2–3 января 1906 г. Н. Новгород, 1906. С. 198.
12 Дела пяти первых всероссийских старообрядческих съездов // Старообрядческий вестник. 1905. № 1. Приложение. С. 12–32; № 2. Приложение. С. 33–64.
13 ОР РГБ, ф. 579, д. 176, л. 29.
14 Селезнев Ф.А. «До сего времени нас не признают, а только терпят». Встреча министра внутренних дел В. К. Плеве с уполномоченными старообрядцев. 1903 г. // Исторический архив. 2013. № 3. С. 180. Крупнейший судовладелец страны, организатор старообрядческих съездов, фактически содержавший нижегородский собор и при нём епископскую кафедру, Сироткин являлся главным «ходоком» по делам староверов. По словам Ф. Е. Мельникова, именно он «добыл старообрядчеству права и свободу 1905 г.» (Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. Барнаул, 1999. С. 473).
15 ПСЗ-III. Т. 23. Отд. I. СПб., 1905. С. 114.
16 Соборы и съезды // Старообрядческий вестник. 1905. № 7. С. 367–369.
17 ОР РГБ, ф. 579, д. 176, л. 40.
18 Там же, д. 189, л. 17.
19 Ш-в. [Мельников Ф. Е.] Всероссийские съезды старообрядцев // Голос старообрядца. 1906. № 54. 30 июля.
20 Его сиятельству господину министру внутренних дел князю Петру Дмитриевичу Святополк-Мирскому… С. 70–71; Всеподданнейший доклад министра внутренних дел П. Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. / Публ. В. Л. Степанова // Река времён (книга истории и культуры). Кн. 5. М., 1996. С. 241–242.
21 Воспоминания: из бумаг С. Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи / Публ. А. В. Лихоманова. СПб., 2009. С. 173–174.
22 ОР РГБ, ф. 579, д. 171, л. 1об, 3, 5.
23 ПСЗ-III. Т. 25. Отд. I. СПб., 1908. № 26125. С. 257.
24 Его высокопревосходительству, господину председателю Комитета министров от старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию. Памятная записка о старообрядческих нуждах // Труды шестого Всероссийского съезда… С. 33–43. См. также: Мельников Ф. Е. Краткая история… С. 397; Селезнев Ф. А. Д. В. Сироткин и Всероссийские съезды старообрядцев в начале ХХ века // Отечественная история. 2005. № 5. С. 81.
25 Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания / Публ. Б. В. Ананьича, Р. Ш. Ганелина, С. В. Куликова, С. К. Лебедева, И. В. Лукоянова. Т. 1. Кн. 2. СПб., 2003. С. 675–676. Старообрядцы высоко оценивали поддержку, которую оказывал им Витте: Мельников Ф. Е. Граф Витте как церковный деятель // Церковь. Старообрядческий церковно-общественный журнал. 1915. № 13. С. 305–321.
26 Права и обязанности старообрядцев в настоящее время // Старообрядческий вестник. 1905. № 5. С. 241.
27 ОР РГБ, ф. 578, д. 257, л. 2.
28 Мысли вслух. По поводу высочайшего манифеста от 17-го апреля 1905 г. // Старообрядческий вестник. 1905. № 11–12. С. 690–691.
29 [Мельников Ф. Е.] Муки слова // Голос старообрядца. 1906. № 1. 15 января.
30 ОР РГБ, ф. 578, д. 257, л. 2, 3.
31 Труды Шестого всероссийского съезда… С. 10, 15.
32 Труды VII всероссийского съезда… С. 208.
33 Так, съезд поморцев в Вильне в 1906 г. заявлял: «Верь нам, великий государь, что по первому твоему слову мы все, старообрядцы, готовы положить у подножия трона твоего на защиту тебя и наследника престола твоего и дорогой родины всё наше достояние и саму жизнь» (ОР РГБ, ф. 578, д. 257, л. 22, 27). Другой поморец утверждал, что в условиях «смуты и предательских воззваний» старообрядцы «встали лицом и душою… к отцу своему царю освободителю» (Там же, л. 15 об.). Подробнее см. составленную сызранским духовным наставником П. М. Безводиным рукопись: «Депутация от старообрядцев поморцев, представлявшаяся его величеству государю императору 7 февраля 1906 году в числе 36 человек. Адреса и речи государю и съезды старообрядцев» (Там же, л. 31–36).
34 Старообрядческая депутация у царя // Старообрядец. Ежемесячный журнал. (Нижний Новгород). 1906. № 3. С. 358–359.
35 Новые «милости» старообрядцам // Старообрядец. 1906. № 5. С. I [597].
36 Старообрядческая депутация у царя // Старообрядец. 1906. № 3. С. 359.
37 ПСЗ-III. Т. 25. Отд. I. СПб., 1908. № 27560. С. 261–266.
38 Освященного собора старообрядческих епископов совету Всероссийского съезда старообрядцев поручение. 23 апреля 1906 г. // Старообрядец. 1906. № 5. С. 582.
39 Труды VII всероссийского съезда… С. 2, 44.
40 Проект «Правил о старообрядческих и сектантских общинах». Критика проекта, представленного совещанием гр. Игнатьева, «Заявление об изменении и дополнении» // Голос старообрядца. 1906. № 33. 14 мая; Свобода совести // Там же. № 35. 21 мая.
41 Труды VII всероссийского съезда… С. 2.
42 VII всероссийский съезд старообрядцев // Голос старообрядца. 1906. № 56. 6 августа. По свидетельству Крыжановского, соответствующий проект Столыпин «нашёл на своём письменном столе при вступлении в управление Министерством внутренних дел» (Воспоминания: из бумаг С. Е. Крыжановского… С. 174).
43 Голос старообрядца. 1906. № 68. 17 сентября.
44 Телеграмма совета Всероссийского съезда старообрядцев // Голос старообрядца. 1906. № 73. 5 октября.
45 ПСЗ-III. Т. 26. Отд. I. СПб., 1909. № 28424. С. 904–914. Подробнее см.: Селезнев Ф. А. Судьба законопроекта о старообрядческих общинах (1905–1914) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. История. 2008. № 1. С. 130.
46 Когда же конец? // Голос старообрядца. 1906. № 7. 5 февраля.
47 Подробнее см.: Керов В. В. Правовой статус старообрядцев в Российской империи: нормативное закрепление и особенности обеспечения в 1907–1914 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 4. С. 31–38.
48 Голос старообрядца. 1906. № 25. 13 апреля; № 28. 23 апреля; № 32. 11 мая; № 68. 17 сентября; и др.; Труды Шестого всероссийского съезда… С. 28.
49 ОР РГБ, ф. 246, к. 4, д. 3, л. 1–568.
50 Труды VII всероссийского съезда… С. 183.
51 По поводу январских событий // Старообрядческий вестник. 1905. № 2. С. 74.
52 По поводу современных смятений (Слово одного из старообрядческих епископов, сказанное в один из двунадесятых праздников) // Старообрядческий вестник. 1905. № 10. С. 607.
53 Волоколамский И. Заметки русского старообрядца // Старообрядец. 1906. № 1. С. 107.
54 Труды о Съезде старообрядцев всего Северо-Западного, Привислянского и Прибалтийского краёв и других городов Российской империи, состоявшемся в гор. Вильне 25–27 января 1906 года. Вильна, 1906. С. 49.
55 Труды VII всероссийского съезда… С. 199.
56 Волоколамский И. Заметки русского старообрядца. С. 104, 106.
57 Там же. С. 104. Поморцы даже собирались идти к царю, дабы убедить его созвать депутатов (ОР РГБ, ф. 578, д. 257, л. 16–16 об.).
58 Первая в России старообрядческая газета // Старообрядец. 1906. № 2. С. 216.
59 Труды VII Всероссийского съезда… С. 6; Голос старообрядца. 1906. № 10. 16 февраля.
60 Труды VII всероссийского съезда… С. 181, 183.
61 Там же. С. 199, 207.
62 Там же. С. 181–182.
63 Мельгунов С.[П.] Старообрядчество и освободительное движение. М., 1906. С. 14.
64 Голос старообрядца. 1906. № 32. 11 мая.
65 Старообрядческий вопрос в Государственной Думе // Голос старообрядца. 1906. № 14. 2 марта; и др.
66 Роспуск Государственной думы // Старообрядец. 1906. № 8. С. 847.
67 Члены Государственной думы. Портреты и биографии. Первый созыв. 1906–1911 / Сост. М. М. Боиович. СПб., 1906. С. 201, 211, 234, 278; Наши депутаты. Биографии и портреты членов Государственной думы 2-го созыва / Сост. М. М. Боиович. СПб., 1907. С. 234.
68 ОР РГБ, ф. 579, д. 176, л. 6–6 об.
69 Подсчитано по: Труды Шестого всероссийского съезда… С. V–X, 4.
70 Освященного собора старообрядческих епископов Российской области (август 1905 г.) постановления, извещения, послания и определения // [Приплетено к:] Труды VII всероссийского съезда… С. 246.
71 Захаров И. Старообрядческая Русь (из путевых заметок) // Старообрядец. 1906. № 1. С. 95.
72 Согласно манифесту, подписанному царём 6 августа 1905 г., Дума создавалась как «особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение Росписи государственных доходов и расходов» (ПСЗ-III. Т. 25. Отд. I. № 26656. С. 637). В тот же день Николай II утвердил соответствующее «Учреждение Государственной думы» (Там же. № 26661. С. 640–645).
73 Труды VII всероссийского съезда… С. 180, 192.
74 Светлые минуты старообрядчества // Голос старообрядца. 1906. № 48. 6 июля.
75 Протоколы астраханского и саратовского братства (и епархиального съезда Саратовско-Астраханской епархии) // Старообрядец. 1906. № 9. С. 1061; Старообрядческий съезд // Голос старообрядца. 1906. № 48. 6 июля.
76 ОР РГБ, ф. 164, к. 16, д. 16, л. 3–5 об.
77 Собор старообрядческих епископов // Старообрядец. 1906. № 5. С. 579.
78 Постановления Освященного собора 1906 года в апреле месяце (в Москве) // Постановления освященных соборов старообрядческих епископов 1898–1912 гг. М., 1913. С. 53.
79 Постановления Освященного собора 1906 года в сентябре месяце (в Москве) // Там же. С. 65–66.
80 Постановления Освященного собора 1907 года в июне месяце (в Москве) // Там же. С. 81.
81 Мельников Ф. Е. Краткая история… С. 416.
82 Первое архиерейское служение на старообрядческом Рогожском кладбище. (По поводу истекающей годовщины распечатания алтарей названного кладбища) // Старообрядец. 1906. № 4. С. 446.
83 Съезд старообрядцев в Нижнем Новгороде // Старообрядец. 1907. № 7–8. С. 943.
84 ОР РГБ, ф. 579, д. 176, л. 6–6 об.
85 Агеева Е.А., Боченков В. В. Иннокентий (Усов Иван Григорьевич) // Православная энциклопедия. Т. 23. М., 2010. С. 26–30; Мельников Ф. Е. Краткая история… С. 470.
86 Труды Шестого всероссийского съезда… С. 2.
87 Протоколы частного собрания старообрядцев после VI Всероссийского съезда старообрядцев 2–5 августа 1905 г. [6–10 августа] в Н. Новгороде // Старообрядец. 1906. № 6. С. 694.
88 Там же. С. 698–700, 704, 715–716.
89 Протоколы частного собрания старообрядцев после VI Всероссийского съезда старообрядцев 2–5 августа 1905 г. [6–10 августа] в Н[ижнем] Новгороде. Приложения // Старообрядец. 1906. № 7. С. 834.
90 [Мельников Ф. Е.] Скорее Думу // Голос старообрядца. 1906. № 6. 2 февраля.
91 Ш-в. [Мельников Ф. Е.] Новый закон // Голос старообрядца. 1906. № 27. 20 апреля.
92 Вольский [Макаров] В.Е. О «благородном сословии» // Старообрядец. 1906. № 9. С. 1016, 1017.
93 ОР РГБ, ф. 164, к. 22, д. 16, л. 1.
94 Зенин Н. Д. Государственная дума и старообрядцы // Старообрядческая мысль. 1912. № 7. С. 665.
95 ОР РГБ, ф. 164, к. 22, д. 16, л. 3.
96 Кириллов И. А. Статистика старообрядчества. М., 1913. С. 16.
97 Сироткин Д. В. Речь на Всероссийском съезде старообрядцев // Слово Церкви. 1917. № 24. С. 448.
98 [Мельников Ф. Е.] Открытое письмо старообрядческим крестьянам // Голос старообрядца. 1906. № 2. 19 января.
99 Там же.
100 Церковь: старообрядческий церковно-общественный журнал. 1910. № 44. С. 1087.
101 Съезд крестьян-старообрядцев // Старообрядец. 1906. № 3. С. 360; Крестьянский съезд старообрядцев // Голос старообрядца. 1906. № 5. 29 января.
102 ОР РГБ, ф. 164, к. 27, д. 2, л. 2.
103 Материалы по вопросам земельному и крестьянскому. Всероссийский съезд крестьян-старообрядцев в Москве. 22–25 февраля 1906 года. М., 1906. С. 74–75; Съезд крестьян-старообрядцев // Старообрядец. 1906. № 3. С. 359.
104 Материалы по вопросам земельному и крестьянскому… С. 88.
105 Мельгунов С.[П.] Аграрный вопрос на старообрядческом съезде // Старообрядчество и освободительное движение. С. 32.
106 Материалы по вопросам земельному и крестьянскому… С. 75.
107 Шестаков А.[В.] Всероссийский крестьянский союз // Историк-марксист. 1927. № 5. С. 94–123.
108 Члены Государственной думы. Портреты и биографии. Первый созыв. С. 201, 211, 234, 278.
109 Труды VII всероссийского съезда… С. 199.
110 ОР РГБ, ф. 578, д. 257, л. 10 об., 13 об.
111 Не ведят-бо, что творят // Голос старообрядца. 1906. № 71. 28 сентября.
112 Труды VII Всероссийского съезда… С. 6.
113 Вольский В.Е. О поползновении некоторых партий на старообрядчество // Старообрядец. 1906. № 10. С. 1163.
114 [Разъяснение] от Русского собрания. [26 ноября 1906 г.] // Правые партии. 1905–1917 гг. Документы и материалы. В 2 т. / Сост. Ю. И. Кирьянов. Т. 1. М., 1998. С. 173. См. также: [Обращение] Русского собрания к русскому народу. Вторая половина 1906 г. // Правые партии… Т. 1. С. 274.
115 Избирательная программа (в связи с выборами в Государственную думу), принятая I Всероссийским съездом уполномоченных отделов С[оюза] р[усского] н[арода] и обязательная для всех отделов. 2 сентября 1906 г. // Правые партии… Т. 1. С. 190. См. также: Степанов А. Д. Союз русских людей // Чёрная сотня. Историческая энциклопедия. 1900–1917 / Отв. ред. О. А. Платонов. М., 2008. С. 504.
116 Михайлова Е. М. Астраханская народно-монархическая партия (АНМП) // Чёрная сотня. Историческая энциклопедия… С. 46, 47.
117 Иовцы в руках Колонтаева // Старообрядец. 1907. № 2. С. 193–199.
118 Москва, 11 ноября. Объединение старообрядцев // Московские ведомости. 1905. № 298. С. 2.
119 За веру, царя и народность. Воззвание Союза старообрядцев. Господи благослови! Истинные христиане, коренной русский народ, старой веры российской! // Московские ведомости. 1905. № 298. С. 1.
120 Волоколамский И. Заметки русского старообрядца. С. 105–106.
121 Вольский В.Е. О поползновении некоторых партий на старообрядчество // Старообрядец. 1906. № 10. С. 1159.
122 Иовцы в руках Колонтаева. С. 197.
123 Мельгунов С.[П.] Аграрный вопрос на старообрядческом съезде. С. 5, 6.
124 Москва, 11 ноября. Объединение старообрядцев. С. 2.
125 Иовцы в руках Колонтаева. С. 197. О неокружниках см.: Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Неокружники // Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт энциклопедического словаря. М., 1996. С. 186–189.
126 3-й созыв Государственной думы. Портреты. Биографии. Автографы. СПб., 1910. С. 113.
127 Селезнев Ф. А. Старообрядческое купечество и политические партии в годы революции // Старообрядецъ. 2007. № 40.
128 Седов А. В. Кержаки. История трёх поколений купцов Бугровых. Н. Новгород, 2005. С. 139.
129 Клюкина Ю. В. Старообрядцы и политические партии (1905–1917) // Проблемы истории России. Вып. 5. Екатеринбург, 2003. С. 335–336, 345.
130 Максимов К. В. Лаптев Клементий Артемьевич // Чёрная сотня. Историческая энциклопедия… С. 281–282.
131 Балдин К. Е. Куражев Николай Иванович // Чёрная сотня. Историческая энциклопедия… С. 277.
132 Скубневский В.А., Старцев А. В., Гончаров Ю. М. Предприниматели Алтая (1861–1917). Энциклопедия предпринимательства. Барнаул, 1996. С. 80; Старцев А. В. Общественно-политическая жизнь старообрядцев в начале XX в. (на примере сибирских белокриницких общин) // Алтайский старообрядец. Старообрядческий сайт (РПСЦ): староверы Алтая (URL: https://altaistarover.ru/articles/history/512-obshchestvenno-politicheskaya-zhizn-obshchin).
133 Скубневский В.А., Старцев А. В., Гончаров Ю. М. Купечество Алтая второй половины XIX – начала ХХ в. Барнаул, 2001. С. 160.
134 Редигер А. Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. В 2 т. / Публ. Л. Я. Сает и Н. В. Ильиной. Т. 1. М., 1999. С. 516.
135 Иванов А. А. Черносотенцы и старообрядцы: несостоявшийся альянс // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. II. История. История Русской Православной Церкви. 2021. № 102. С. 53.
136 Степанов А. Д. Давыдов Аким Харлампиевич // Чёрная сотня. Историческая энциклопедия… С. 160.
137 3-й созыв Государственной думы. Портреты. Биографии. Автографы. С. 36.
138 Степанов С. А. Чёрная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992. С. 86.
139 Там же. С. 115–117; Бузмаков Е. Л. Черносотенные организации в Сибири (1905–1917 гг.). Автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2000. С. 17; Павлов И. Д. Священники и старообрядцы в монархических союзах: проблемы взаимоотношений // ХХ век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Самара, 2019. Вып. 7. С. 111 (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svyaschenniki-i-staroobryadtsy-v-monarhicheskih-soyuzah-problemy-vzaimootnosheniy/viewer).
140 Мошненко А. В. Православное духовенство и Союз русского народа // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. История. 2014. № 4(28). С. 17–18.
141 Постановление Монархического съезда русских людей // Правые партии. 1905–1917 гг. … С. 477.
142 См., например: Старообрядцы: ежемесячный журнал: орган церковно-общественной жизни старообрядчества (Нижний Новгород). 1909. № 3–4. С. 271–272; № 5–6. С. 393 и др.; Церковь. 1914. № 16. С. 390 и др.
143 «Друзья» старообрядцев // Голос старообрядца. 1906. № 58. 13 августа.
144 Партии промышленников и предпринимателей. Документы и материалы 1905–1906 гг. / Сост. В. Ю. Карнишин. М., 2004. С. 17, 135; Российские либералы: кадеты и октябристы. Документы, воспоминания, публицистика / Сост. В. В. Шелохаев, Д. Б. Павлов. М., 1996. С. 296.
145 Подробнее о политической деятельности Рябушинских см.: Петров Ю. А. Династия Рябушинских. М., 1997. С. 69–122.
146 Мельников Ф. Е. Краткая история… С. 475.
147 Казанская партия Манифеста 17 октября, влившаяся перед выборами в I Думу в казанский отдел Союза 17 октября.
148 Алексеев И. Е. Под сенью царского манифеста (умеренно-монархические организации Казанской губернии в начале XX века). Казань, 2002. С. 255. Впрочем, после объединения местных протооктябристских организаций в программе Поволжского съезда Союза 17 октября про избавление от правительственной опеки и восстановление попранных прав уже не говорилось. См.: Краткая политическая программа «Союза 17 октября», принятая на Поволжском съезде в Казани в сентябре 1906 г. Н. Новгород, 1906. С. 8.
149 Латыпов И.Р. «Десятилетие свободы» (1905–1917 гг.) для старообрядцев Казанской губернии // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2011. Вып. 2. С. 226; Алексеев И. Е. Под сенью царского манифеста… С. 84, 105–106; Алексеев И. Е. Участие старообрядцев в деятельности умеренно монархических организаций Казанской губернии в начале XX века (выступление на Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Традиции старообрядческой благотворительности», посвящённой памяти Якова Филипповича Шамова (1833–1908). Казань–Чистополь, 3–4 октября 2018 г.) (URL: https://ruskline.ru/analitika/2018/11/2018–11–19/uchastie_staroobryadcev_v_deyatelnosti_umerenno_monarhicheskih_organizacij_kazanskoj_gubernii_v_nachale_xx_veka/).
150 Казанская периодика XIX–XXI вв. Энциклопедический справочник для представителей средств массовых коммуникаций. Казань, 2018. С. 115–116.
151 Михайлов А.Ю., Седов И. О. Этноконфессиональные группы в дискурсе казанских октябристов в годы Первой русской революции // Российские исследования. 2012. Т. 2. № 3. С. 72–74, 79; Алексеев И. Е. Участие старообрядцев в деятельности…
152 Мельгунов С.[П.] Старообрядчество и освободительное движение. С. 14.
153 Селезнев Ф.А. Д. В. Сироткин и Всероссийские съезды старообрядцев… С. 83.
154 Микитюк В. П. Екатеринбургские купцы Грачёвы // Одиннадцатые Татищевские чтения. Материалы всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 2015. С. 169.
155 Клюкина Ю. В. Старообрядцы и политические партии… С. 336–337; Порватова С. В. Законопроект «о старообрядческих общинах» в Государственной думе 1906–1917 гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. II. История. История Русской Православной Церкви. 2003. № 1. С. 120–138; Керов В. В. Старообрядчество в 1917 г. // Российская история. 2018. № 1. С. 143–160; Керов В. В. «Народное освобождение совершилось ещё не окончательно»: старообрядцы и Третьеиюньская монархия // Российская история. 2023. № 4. С. 136–152.
156 Селезнев Ф. А. Старообрядческое купечество и политические партии в годы революции.
157 Голос старообрядца. 1906. № 10. 16 февраля.
158 ОР РГБ, ф. 578, д. 257, л. 10 об., 13 об.
159 Монякова О. Л. Политические предпочтения ковровских старообрядцев в думский период (1905–1917) // Старообрядчество: история, культура, современность. Т. 1. М., 2007. С. 54–58.
160 Клюкина Ю. В. Старообрядцы и политические партии… С. 336–338.
Авторлар туралы
Valeriy Kerov
Russian Presidential Academy of National Economic and Public Administration
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: otech_ist@mail.ru
Doctor of Historical Sciences, Professor
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
- Агеева Е.А., Боченков В.В. Иннокентий (Усов Иван Григорьевич) // Православная энциклопедия. Т. 23. М.: Православная энциклопедия, 2010. С. 26–30.
- Алексеев И.Е. Под сенью царского манифеста (умеренно-монархические организации Казанской губернии в начале XX века). Ка-зань: б.и., 2002. 311 с.
- Алексеев И.Е. Участие старообрядцев в деятельности умеренно мо-нархических организаций Казанской губернии в начале XX века (выступ-ление на Республиканской научно-практической конференции с междуна-родным участием «Традиции старообрядческой благотворительности», посвящённой памяти Якова Филипповича Шамова (1833–1908). Ка-зань-Чистополь, 3–4 октября 2018 г.)(URL: https://ruskline.ru/analitika/2018/11/2018-1119/uchastie_staroobryadcev_v_deyatelnosti_umerenno_monarhicheskih_organizacij_kazanskoj_gubernii_v_nachale_xx_veka/).
- Балдин К.Е. Куражев Николай Иванович // Чёрная сотня. Историче-ская энциклопедия. 1900–1917 / Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 277.
- Бузмаков Е.Л. Черносотенные организации в Сибири (1905–1917 гг.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск: ОМО ТГУ, 2000. 27 с.
- Воспоминания: из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего государ-ственного секретаря Российской империи / Публ. А.В. Лихоманова. СПб.: Изд-во РНБ, 2009. 228 с.
- Всеподданнейший доклад министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. / Публ. В.Л. Степанова // Река времён (книга истории и культуры). Кн. 5. М.: Эллис Лак, 1996. С. 221-256.
- Вургафт С.Г., Ушаков И.А. Неокружники // Старообрядчество. Ли-ца, предметы, события и символы. Опыт энциклопедического словаря. М.: Изд-во журн. «Церковь», 1996. С. 186–189.
- Иванов А.А. Черносотенцы и старообрядцы: несостоявшийся альянс // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университе-та. Сер. 2. История. История Русской Православной Церкви. 2021. № 102. С. 49-65.
- Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Рассказы в стенографической записи. Рукописные заметки: в 2 т. / Публ. Б.В. Ананьича, Р.Ш. Ганелина, С.В. Куликова, С.К. Лебедева, И.В. Лукоянова. Т. 1. Кн. 2. СПб. Дмитрий Буланин, 2003. С. 524-1053.
- Казанская периодика XIX–XXI вв. Энциклопедический справочник для представителей средств массовых коммуникаций / Сост. Р.А. Айнут-динов, З.З. Гилазев. Казань: Ин-т татарской энциклопедии и регионоведе-ния АН РТ; Татарское книжное изд-во, 2018. 197 с.
- Керов В.В. «Народное освобождение совершилось ещё не оконча-тельно»: старообрядцы и Третьеиюньская монархия // Российская история. 2023. № 4. С. 136–152.
- Керов В.В. Правовой статус старообрядцев в Российской империи: нормативное закрепление и особенности обеспечения в 1907–1914 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 4. С. 31-38.
- Керов В.В. Русская история сквозь призму старообрядческого фак-тора // Российская история. 2014. № 4. С. 203–213.
- Керов В.В. Русские революционеры и русские старообрядцы: от симпатии к репрессиям // История и современное мировоззрение. 2024. Т. 6. № 1. С. 13-19.
- Керов В.В. Старообрядчество в 1917 г. // Российская история. 2018. № 1. С. 143-160.
- Кириллов И.А. Статистика старообрядчества. М.: Журн. «Старооб-рядч. мысль», 1913. 26 с.
- Клюкина Ю.В. Старообрядцы и политические партии (1905–1917) // Проблемы истории России. Екатеринбург: Волот, 2003. Вып. 5. С. 327-349.
- Латыпов И.Р. «Десятилетие свободы» (1905–1917 гг.) для старооб-рядцев Казанской губернии // Вестник Екатеринбургской духовной семи-нарии. 2011. Вып. 2. С. 222-229.
- Максимов К.В. Лаптев Клементий Артемьевич // Чёрная сотня. Исто-рическая энциклопедия. 1900–1917 / Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Инсти-тут русской цивилизации, 2008. С. 281–282.
- Мельгунов С.[П.] Старообрядчество и освободительное движение. М.: Труд и Воля, 1906. 32 с.
- Микитюк В.П. Екатеринбургские купцы Грачёвы // Одиннадцатые Татищевские чтения. Мат-лы всеросс. научно-практич. конф. Екатерин-бург, 2015. С. 166-170.
- Михайлов А.Ю., Седов И.О. Этноконфессиональные группы в дис-курсе казанских октябристов в годы Первой русской революции // Россий-ские исследования. 2012. Т. 2. № 3. С. 71-83.
- Михайлова Е.М. Астраханская народно-монархическая партия (АНМП) // Чёрная сотня. Историческая энциклопедия. 1900–1917 / Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 46-47.
- Монякова О.Л. Политические предпочтения ковровских старообряд-цев в думский период (1905–1917) // Старообрядчество: история, культу-ра, современность. Т. 1. М.: Музей истории и культуры старообрядчества, 2007. С. 54–58.
- Мошненко А.В. Православное духовенство и Союз русского народа // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. История. 2014. № 4(28). С. 14-22.
- Павлов И.Д. Священники и старообрядцы в монархических союзах: проблемы взаимоотношений // ХХ век и Россия: общество, реформы, ре-волюции. Электронный сборник. Самара, 2019. Вып. 7. С. 99-111 (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svyaschenniki-i-staroobryadtsy-v-monarhicheskih-soyuzah-problemy-vzaimootnosheniy/viewer).
- Партии промышленников и предпринимателей. Документы и мате-риалы 1905–1906 гг. / Сост. В.Ю. Карнишин. М.: РОССПЭН, 2004. 246 с.
- Петров Ю.А. Династия Рябушинских. М. Русская книга, 1997. 200 с.
- Порватова С.В. Законопроект «о старообрядческих общинах» в Государственной думе 1906–1917 гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 2. История. История Рус-ской Православной Церкви. 2003. № 1. С. 120–138
- Правые партии. 1905–1917 гг. Документы и материалы. В 2 т. / Сост. Ю.И. Кирьянов. Т. 1. М.: РОССПЭН, 1998. 718 с.
- Пыжиков А.В. Грани русского раскола. Заметки о нашей истории от XVII века до 1917 года. М.: Древнехранилище, 2013. 646 с.
- Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного мини-стра: В 2 т. / Публ. Л.Я. Сает и Н.В. Ильиной. Т. 1. М.: Вече, 1999. 576 с.
- Российские либералы: кадеты и октябристы. Документы, воспомина-ния, публицистика / Сост. В.В. Шелохаев, Д.Б. Павлов. М.: РОССПЭН, 1996. 304 с.
- Седов А.В. Кержаки. История трёх поколений купцов Бугровых. Н. Новгород: НОВО, 2005. 216 с.
- Селезнев Ф.А. «До сего времени нас не признают, а только терпят». Встреча министра внутренних дел В.К. Плеве с уполномоченными старо-обрядцев. 1903 г. // Исторический архив. 2013. № 3. С. 179-189.
- Селезнев Ф.А. Д.В. Сироткин и Всероссийские съезды старообрядцев в начале ХХ века // Отечественная история. 2005. № 5. С. 78-90.
- Селезнев Ф.А. Старообрядческое купечество и политические партии в годы революции // Старообрядецъ. 2007. № 40.
- Селезнев Ф.А. Судьба законопроекта о старообрядческих общинах (1905–1914) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачев-ского. История. 2008. № 1. С. 130-140.
- Скубневский В.А., Старцев А.В., Гончаров Ю.М. Купечество Алтая второй половины XIX – начала ХХ в. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2001. 240 с.
- Скубневский В.А., Старцев А.В., Гончаров Ю.М. Предприниматели Алтая (1861–1917). Энциклопедия предпринимательства. Барнаул: Деми-довский фонд, 1996. 112 с.
- Старцев А.В. Общественно-политическая жизнь старообрядцев в начале XX в. (на примере сибирских белокриницких общин) // Алтайский старообрядец. Старообрядческий сайт (РПСЦ): староверы Алтая (URL https://altaistarover.ru/articles/history/512-obshchestvenno-politicheskaya-zhizn-obshchin).
- Степанов А.Д. Давыдов Аким Харлампиевич // Чёрная сотня. Исто-рическая энциклопедия. 1900–1917 / Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Инсти-тут русской цивилизации, 2008. С. 160.
- Степанов А.Д. Союз русских людей // Чёрная сотня. Историческая энциклопедия. 1900–1917 / Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 504.
- Степанов С.А. Чёрная сотня в России (1905–1914 гг.). М.: Изд-во ВЗПИ, Росвузнаука, 1992. 329 с.
- Ульянова Г.Н., Юхименко Е.М. Московский предприниматель, меце-нат, старообрядец Козьма Терентьевич Солдатенков: новое прочтение био-графии // Экономическая история: Ежегодник. 2022. М.: ИРИ РАН, 2023. С. 9-68.
- Шахназаров О.Л. Отношение к собственности у старообрядцев (до 1917 года) // Вопросы истории. 2004. № 4. С. 53-70.
- Шахназаров О.Л. Старообрядчество и большевизм // Вопросы исто-рии. 2002. № 4. С. 72–98.
- Шестаков А.[В.] Всероссийский крестьянский союз // Историк-марксист. 1927. № 5. С. 94–123.
Қосымша файлдар