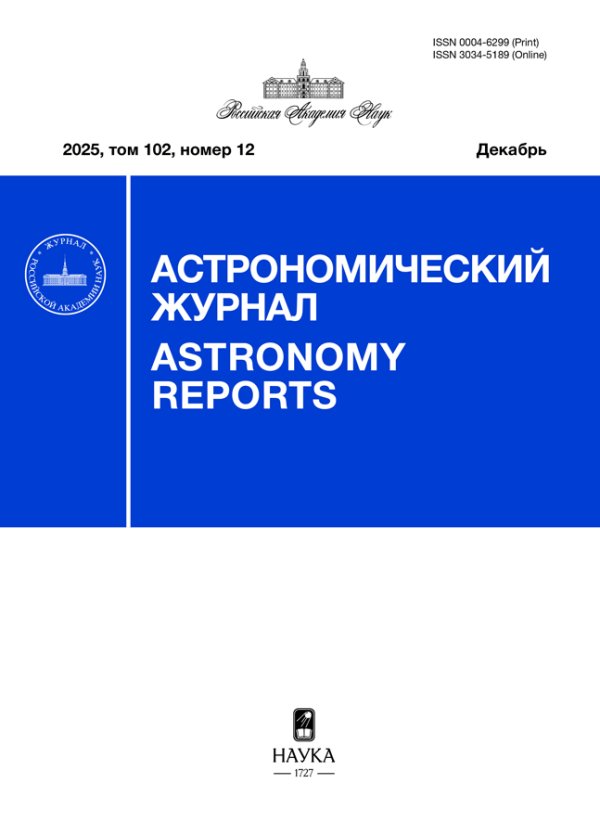Destruction of open star clusters and the radius-mass relationship
- Authors: Tutukov A.V.1, Vereshchagin S.V.1, Chupina N.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Astronomy, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 101, No 10 (2024)
- Pages: 885-902
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0004-6299/article/view/276076
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0004629924100023
- EDN: https://elibrary.ru/JMDAJJ
- ID: 276076
Cite item
Full Text
Abstract
The processes of formation and six mechanisms of disintegration of open star clusters (OSCs) are considered. Analytical estimates of the rates of OSC disintegration are made for the following mechanisms: loss of the initial gas component of OSCs, mass loss due to supernovae explosions and planetary nebula formation, pair interactions of OSC stars, acceleration of stars by binary systems of OSCs, interaction of OSC stars with stars of the Galactic disk, collisions of OSCs with giant molecular clouds (GMCs) at the front of a spiral wave. The destruction of OSCs is accompanied by the formation of a stellar stream. An analysis of the radius-mass ratio of the OSC core (RM) allowed us to conclude that it probably does not reflect the disintegration mechanism and is a product of observational selection effects. The evolution of an individual OSC in the R-M plane is determined by the initial density and external conditions.
Keywords
Full Text
1. ВВЕДЕНИЕ
Изучение физики и эволюции звездных скоплений одна из наиболее популярных тем звездной астрономии последнего столетия. Несколько причин обусловили важность и необходимость работы в этом направлении. В свое время факт существования звездных групп поставил вопрос об организации пространственного распределения звезд в нашей и других галактиках [1]. Изучение деталей диаграммы цвет-светимость звезд скоплений стало важной основой развития теории строения и эволюции звезд [2]. «Свеча» главной последовательности оказалась со временем надежным количественным индикатором эволюции звездных скоплений. Стало возможно говорить о возрасте скопления и, следовательно, входящих в его состав звезд. Функция масс звезд главной последовательности рассеянных звездных скоплений послужила «эталоном» функции масс других астрономических объектов. Изучение пространственного распределения околосолнечных звездных скоплений позволило получить первые представления о параметрах спиральной структуры Галактики [3]. Обнаружение совместно движущихся звезд около звездных скоплений позволило проследить процесс их распада [4].
История изучения звездных скоплений составляет заметную часть истории самой астрономии. Древнегреческий астроном Птолемей в Альмагесте указал на первые звездные скопления как туманности еще во втором веке нашей эры. Телескоп позволил [5, 6] еще в конце восемнадцатого века создать первые каталоги звездных скоплений Галактики. Через сто лет стало понятно, что распад звездных скоплений со временем преобразует их в звездные потоки [7]. В начале двадцатого века был предложен и оценен первый механизм их распада ускорение звезд скопления в ходе их парных гравитационных «столкновений» [8]. Характерное время распада звездных скоплений в результате таких столкновений было найдено Чандрасекаром [9]:
(1)
где v характерная скорость движения звезд в скоплении, G постоянная гравитации, ρ средняя плотность скопления, m характерная масса звезд скопления, M масса скопления, M3 масса скопления в тысячах масс Солнца. Численная оценка времени распада дана с учетом наблюдаемой корреляции масса-радиус звездных скоплений (2). Идея этого механизма проста. Распределение скоростей в ходе парных сближений звезд стремится к максвелловскому, но гравитационный потенциал РЗС слаб и быстрые звезды покидают скопление.
Детальное численное исследование физики и эволюции звездных скоплений во второй половине прошлого века было одной из ведущих тем физики звезд [1019]. Современные численные модели скоплений учитывают до 105 точек [20] и включают учет эволюции звезд. В этих работах были изучены формирование и эволюция звездного состава скоплений в рамках задачи N-тел, ядерная эволюция звезд скоплений, оценка времени жизни звезд и их скоплений, условия распада звездных скоплений. В итоге были заложены основы современных представлений о физике и эволюции звездных скоплений нашей и других галактик.
В настоящее время произошла активизация исследований РЗС, расположенных в облаках межзвездного газа и пыли. Так в работе [21] проведено моделирование динамики газа в сочетании с решением задачи N тел для звезд скопления при учете ряда механизмов обратной связи от формирующихся звезд (нагрев газа звездным ветром и ионизирующим излучением, рост областей НII, вспышки сверхновых). Для сравнения результатов с наблюдениями появились каталоги звездных скоплений, построенные на основе наблюдений Gaia, включающие более семи тысяч РЗС [22, 23]. Отметим, что наши аналитические оценки важны для первичного сравнения с данными наблюдений и, также, с результатами трудоемких численных расчетов. В данной работе мы рассматриваем лишь одно наблюдательное соотношение, представляющее собой исследование зависимости масса-радиус от возраста скопления. Многоплановое рассмотрение показало, что эта зависимость формируется начальными условиями эволюции скопления. Разнообразие начальных условий представлено в разделах этой публикации. Естественно, начальные условия включают и внешние параметры, такие как расстояние от центра Галактики.
2. ОБРАЗОВАНИЕ ЗВЕЗДНЫХ СКОПЛЕНИЙ
Звездные скопления являются продуктами гравитационного коллапса гигантских молекулярных облаков (ГМО). Для ГМО Галактики, как впервые отметил Ларсон [24], справедлива связь массы M скопления с радиусом R [25, 29]:
или R=0.1 (пк). (2)
Это соотношение справедливо и для ГМО с массами 10106 при двух-трехкратной дисперсии радиусов [26]. Близкое соотношение позднее было найдено для Большого Магелланова Облака [27, 28]. Звездные скопления «наследуют» соотношение (2), связующее их с ГМО в качестве начального [2935]. Возможное объяснение соотношения (2) эффект наблюдательной селекции при определении границы ГМО и звездного скопления по проективной плотности ρR = const или M~R2. Оценка показателя степени соотношения (2) по наблюдениям имеет точность ±0.3.
Функция масс молекулярных облаков [26, 27, 3638] практически совпадает с начальной функцией масс (НФМ) звездных скоплений [3842]:
(3)
Кроме того, НФМ скоплений совпадает и с функцией масс звезд [43]. Важно отметить, что начальная функция масс звезд при M≈M⊙ испытывает излом, меняя свой наклон с 2.35 на 1.5 [44]. Функция (3) дает возможность оценить скорость звездообразования в Галактике ~ 3M⊙/ год [45].
Для построения наблюдаемой функции масс звездных скоплений F(M) необходима информация об их начальной функции масс f(M), времени жизни T(M) и объеме пространства (V), в котором видны скопления данной массы [45]. Начальная функция масс скоплений близка к опорной функции масс астрономических объектов: df(M) ~M2dM [46]. Время жизни скопления определяется деструктивными процессами, описание которых представлено нами ниже в секции «Механизмы распада». Для испарения быстрых звезд согласно [8, 9] время распада скопления равно τ~M5/4, (1). Объем пространства, учитывая дисковую структуру системы рассеянных скоплений Галактики, и то, что их светимость пропорциональна массе (L~M), можно считать V~L~M. Таким образом, наблюдаемая функция масс скоплений может быть представлена выражением F(M)~M1/4.
Начальная функция масс звездных скоплений (и их звезд) близка к стандартной, представленной уравнением (3) [42, 43]. В ходе своей эволюции массивные звезды превращаются в конечные остатки: черные дыры, нейтронные звезды и вырожденные карлики. Звезды с массами, меньшими солнечной, как показывает численное исследование, в силу ряда процессов покидают родительское скопление, меняя наклон функции масс звезд, входящих в состав скопления, от 2 до +1 [47, 48]. Причина такого изменения состоит в большей пространственной скорости звезд меньшей массы при равнораспределении звезд по кинетической энергии. Аналогичным образом ведет себя и функция масс звездных скоплений, время разрушения которых согласно (1) уменьшается с уменьшением их массы. Таким образом, наклон функции масс скоплений со временем уменьшается.
Минимальная приливная масса рассеянных звездных скоплений ~ 1.0M⊙ (рис. 5 ниже) определяется многими причинами, в том числе, эффектами наблюдательной селекции. Оценка максимальной массы скопления ~ 106M⊙ [49]. Величина предельной максимальной массы определяется, вероятно, скоростью расширения зоны ионизованного водорода HII молодого скопления ~106 см/с. При M~106M⊙ параболическая скорость скопления сравнивается со скоростью ударной волны зоны HII, удаляющей газовый компонент молодого скопления. То есть, газовые облака с массой выше ~ 106M⊙ превращаются в галактики, способные не только удержать исходный газ после его ионизации ОВ-звездами, но и организовать его регенерацию в процессе эволюции звезд этих галактик. Изучение наблюдаемого соотношения масса-радиус для звездных скоплений и галактик малой массы подтверждает указанное значение граничной массы ~ 106M⊙ [50]. В том случае, если размеры скоплений ограничены приливными силами со стороны родительской галактики, то размеры галактики увеличиваются за счет диффузии газового компонента в ходе их эволюции. Следствием этого расширения является почти тринадцатикратное увеличение радиуса галактики с массой ~ 106M⊙ по сравнению с радиусами звездных скоплений примерно такой же массы [49].
Эффективность процесса звездообразования представляет собой процентное количество газа, перешедшее в звезды за счет превращения газа ГМО в звезды на фронте спиральной волны. Она невелика и составляет не более 520% [5153]. Если допустить, что масса газа в Галактике ~ 3 ·109M⊙, а характерное время между последовательными прохождениями спирального рукава через избранный объем составляет ~108 лет, то темп прохождения газа через спиральные рукава Галактики ~ 30M⊙/год. С другой стороны, скорость звездообразования согласно начальной функции масс звезд (2) ~ 3M⊙/год. Низкая эффективность трансформации газа в звезды играет определяющую роль в эволюции звездных скоплений. Потеря большей части массы газа, вовлеченного в процесс звездообразования, ведет к распаду большей части вновь образованных звездных скоплений диска нашей Галактики [15].
Звездные скопления диска Галактики образуются в ходе гравитационного коллапса и фрагментации ГМО, ведущих к образованию ОВ ассоциаций. Примером образующегося молодого звездного скопления может служить инфракрасное темное облако IRDC G14.2250.506 [54]. В области с размером около одного парсека найдено несколько десятков радио и инфракрасных источников со светимостью до нескольких сотен солнечных. Эта группа молодых формирующихся звезд может быть примером предельно молодого звездного скопления, погруженного в исходное, оптически толстое молекулярное облако. Рассеяние этого облака со временем продемонстрирует молодое звездное скопление. Другой хороший пример звездообразования в дисковых галактиках с массами, сопоставимыми с массой Галактики, представлен галактиками, видимыми с полюса [55]. Спирали этих галактик по данным наблюдений в ультрафиолете, очевидно, распадаются на компактные зоны звездообразования с размерами порядка толщины газового диска.
Итак, практически все звезды рождаются в скоплениях, которые в силу различных причин со временем распадаются, превращаясь в звездные потоки, составляющие звездную среду диска, балджа и гало Галактики (рис. 1). Число скоплений в пределах одного килопарсека от Солнца ~103 [56]. Полагая диск Галактики с радиусом ~104 пк однородным, можно оценить полное число скоплений в Галактике ~ 105. Если принять характерную массу скопления ~ 102M⊙, а время жизни ~108 лет, то можно оценить темп звездообразования в скоплениях ~ 0.1M⊙/год. Общая скорость звездообразования в Галактике ~ 3M⊙/год [45]. Эта оценка, несмотря на значительную неопределенность, подтверждает распад большей части звездных скоплений в момент их образования.
Рис. 1. Структура рассеянного звездного скопления. Схематично показаны ядро и корона скопления. Звездный поток или приливной шлейф [5759], состоящий из покинувших скопление звезд, показан штрих-пунктиром. Длина потока может достигать ~1000 пк.
Наблюдаемое распределение звездных скоплений по возрасту: dN/dt~t1 [60]. Это свидетельствует о том, что время жизни звездных скоплений конечно и, как правило, меньше Хаббловского времени.
Численное моделирование эволюции шарового скопления как изолированной системы N гравитирующих точек, показало, что со временем плотное ядро этого скопления сжимается, а разреженная оболочка расширяется. Однако ясно, что реальное скопление, погруженное и ограниченное галактическим потенциалом, будет иметь более сложную эволюцию. Обсуждению некоторых особенностей реальных скоплений и процессов взаимодействия со звездной средой, окружающей звездное скопление, посвящена эта статья.
3. МЕХАНИЗМЫ РАСПАДА ЗВЕЗДНЫХ СКОПЛЕНИЙ
Характерный возраст наблюдаемых рассеянных скоплений составляет 108109 лет, что много меньше Хаббловского времени (~1010 лет). Это обстоятельство предполагает участие эффективных механизмов их разрушения. Вопрос о разрушении скоплений активно обсуждается последние сто лет. Перечислим кратко основные пути уменьшения массы звездных скоплений, найденные за это время.
- Первым следует назвать потерю газового компонента молодым скоплением, вызванную ионизацией водорода массивными звездами скопления [15]. Таким путем могут распадаться 90% молодых звездных скоплений. Характерное время распада и при этом увеличения размера скопления приблизительно в два раза составляет ~105 лет.
- Пережившие исходную потерю газа скопления через три миллиона лет начинают терять массивные звезды с массами более ~10M⊙ [45]. Причиной потери массивных звезд являются взрывы сверхновых и сопровождающие их начальные «kick» (приращение скорости нейтронной звезды при взрыве сверхновой) остатков: нейтронных звезд и черных дыр, которые покидают объем скопления за несколько десятков тысяч лет. Время действия этого механизма ~107 лет. Кроме того, звезды с массами 1M⊙10M⊙ теряют свои оболочки, превращаясь в планетарные туманности.
- Потеря звезд, ускоренных парными взаимодействиями соседних звезд. В результате этих взаимодействий звезды скопления стремятся создать Максвелловское распределение по их пекулярным скоростям, недостижимое в силу малой, порядка 1 км/с параболической скорости скопления. Итогом парных взаимодействий звезд является потеря звезд и сжатие скопления со временем.
- Звездные скопления диска Галактики погружены в звездный фон диска Галактики. При этом характерные скорости звезд фона ~ 30 км/с заметно превосходят скорости звезд скопления (до нескольких километров в секунду). Это обстоятельство приводит к ускорению движения звезд скопления, результатом которого является потеря быстрых звезд и расширение скопления со временем.
- Практически все звезды скопления являются кратными системами [45]. Столкновения кратных систем со скоростями порядка орбитальных скоростей компонентов этих систем ведет к ускорению мало массивных компонентов, уходу их из скопления и расширению последнего со временем.
- Размеры ГМО в спиральных ветвях Галактики сравнимы с размерами рассеянных скоплений, а массы ГМО обычно превосходят массы скоплений. Поэтому близкие столкновения скоплений с ГМО, погружение скоплений в такие облака приводят к частичному или полному разрушению скоплений.
Уравнение (2) описывает зависимость радиуса ядра скопления от его массы. В ходе эволюции часть звезд скопления оказывается на высокоэллиптических орбитах, заполняя корону скопления в пределах поверхности Хилла [62], где гравитационная сила скопления превышает гравитацию Галактики (рис. 1). Размеры короны R скопления с массой M оцениваются соотношением:
(4)
при массе Галактики 1011M⊙ и расстоянии Солнца от центра Галактики 8 кпк. Из этого следует, что размеры короны почти в десять раз превышают размеры ядра скопления [61].
Звезды, ускоренные в ходе эволюции скопления до гиперболических скоростей, в итоге формируют звездный поток ([63], рис. 1). Эта структура хорошо выделяется на звездном фоне апексов звезд, ибо пространственная скорость звезд короны скопления практически совпадает со скоростью самого скопления из-за малой величины относительной пространственной скорости звезд короны. Полная структура зрелого (t107 лет) скопления представлена на рис. 1. Звезды плотных копий многих молодых скоплений сейчас наблюдаются [64].
4. СТРУКТУРА СКОПЛЕНИЯ
Рассмотрим структуру эволюционирующего рассеянного звездного скопления Галактики (рис. 1). Характерная масса молодого скопления ~ 102M⊙ радиус ядра ~ 0.3 пк [65, 66]. В ходе начальной стадии коллапса ГМО и в процессе динамической эволюции ядра скопления под влиянием парных взаимодействий звезд ядра в пределах полости Роша (поверхность Хилла) скопления образуется и поддерживается звездная корона ядра с радиусом R, определяемым массой скопления m и расстоянием до центра Галактики Rc: , где MG масса Галактики, (4). В солнечных окрестностях радиус короны скопления с массой ~102M⊙ составляет ~ 4 пс. В ходе начального коллапса ГМО и формирования скопления часть звезд приобретают гиперболические скорости [15] и теряется скоплением.
Парные взаимодействия звезд ядра в ходе эволюции приводят к ускорению звезд до гиперболических скоростей. В результате звездное скопление в течение ~108 лет приобретает звездный поток шириной ~30 пк, длина которого определяется возрастом скопления: l = 2(t/106 лет) пк. За время ~108 лет длина звездного потока достигает ~ 200 пк. Эти компоненты у близких скоплений Плеяды и Гиады наблюдаются, и сейчас хорошо изучены [67, 68].
В ходе эволюционного уменьшения массы скопления его радиус может как уменьшаться, так и расти. При этом потеря внутренней энергии движения звезд скопления на удаление из него звезд, в силу закона сохранения энергии, уменьшает его радиус, а привлечение других источников энергии, перечисленные в следующей секции, для ускорения звезд скопления увеличивает со временем размеры скопления. Парные взаимодействия, в итоге, приводят к уменьшению размера ядра скопления по мере удаления звезд, а все остальные пять вышеперечисленных путей ускорения звезд к его расширению. Разрушение звездных скоплений ведет сначала к появлению звездных корон и копий (потоков) скоплений [63], а с полным разрушением скопления звездных потоков, увеличивающихся со временем. Звездные потоки в конечном итоге составляют «хаотическую» структуру звездного диска и звездного гало Галактики. Для исследования этих структур необходимы высокоточные определения (<1 км/с) компонентов пространственных скоростей звезд.
5. ПОТЕРЯ ГАЗОВОго КОМПОНЕНТа
Молодые массивные звезды скоплений активно взаимодействуют с газовым компонентом скопления. В результате генерируется быстрый интенсивный звездный ветер, и значительная часть газа покидает скопление. Скорость расширения ионизованного газа, составляющего, как показывают наблюдения, заметную часть массы молодого скопления, 10 км/с. Эта скорость превышает параболическую скорость для звездных скоплений с массами, меньшими ~106M⊙ (2). Удаление газа на шкале времени, меньшей динамической шкалы времени скопления, приводит к распаду звездного компонента ~90% молодых скоплений [15, 69, 70, 71, 72]. Оценки показали, что потеря газа за счет зон ионизованного водорода приводит к распаду ~ 90% звездных скоплений с начальными массами менее ~106M⊙, с превращением их в звездные потоки [63, 73, 74]).
Изучение собственных движений звезд в предельно молодых звездных группах показало, что они представляют собой, как правило, гравитационно не связанные, расширяющиеся звездные скопления с возрастом в несколько миллионов лет [75, 76]. Следует признать, что многие молодые звездные скопления являются в действительности распадающимися в шкале времени порядка миллиона лет звездными скоплениями, потерявшими свой газовый компонент.
Для сохранения молодыми звездными скоплениями своего газа при расширении зоны ионизованного водорода HII со стандартной скоростью ~106 см/с их масса должна превышать ~ 106M⊙ (2). Существующие оценки граничной массы, основанные на дисперсии скоростей звезд [50] и на анализе химического состава звезд [77], подтверждают приведенную оценку.
Обычно полагается, что группа звезд, выделенных повышенной поверхностной плотностью или общим собственным движением, называемая звездным скоплением, представляет собой группу гравитационно связанных N звезд. Однако гравитационной связанности такой группы может и не быть. Каково время расширения скопления до размеров, совпадающих с радиусами их полости Роша (4) R=6· пк при характерной скорости звезд ~1 км/с? Это время для типичного скопления близко к ~107 лет, из чего следует, что ~ 90% более молодых скоплений являются распадающимися группами молодых звезд. И только скопления с возрастами, большими лет, можно считать «выжившими» и гравитационно связанными.
6. РОЛЬ СВЕРХНОВЫХ ЗВЕЗД И ПЛАНЕТАРНЫХ ТУМАННОСТЕЙ В ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЗВЕЗДНЫХ СКОПЛЕНИЙ
Газовый компонент плотных звездных скоплений может быть не удален ионизацией водорода. Тем не менее, через несколько миллионов лет в скоплении начинают взрываться сверхновые звезды с энергией кинетического движения оболочек последних до ~1051 эрг. Сравнивая эту энергию с характерной энергией связи скоплений с радиусом: (2) и эрг найдем, что скопления с массой, меньшей 105M⊙, лишаются своего газового компонента после взрыва первой сверхновой в нем. Если масса последнего была больше половины полной массы скопления, то звездный компонент будет разрушен первой же сверхновой в первые несколько миллионов лет. Оптическая толща газового компонента скопления с массой газа, сравнимой с массой его звезд при лет, останется большей единицы. То есть, в оптике явление сверхновой подобного рода может остаться не наблюдаемым до расширения газовой оболочки и разрушения молодого скопления.
В результате взрывов массивных звезд масса скопления уменьшается, а его радиус увеличивается почти в два раза за первые ~107 лет жизни скопления. Масса вырожденных карликов составляет менее половины начальных масс порождающих их звезд. Это обстоятельство приводит к дальнейшему уменьшению массы скопления за счет потери оболочек планетарных туманностей в шкале времени 108109 лет. При этом радиус скопления увеличивается. Эволюция звезд и потеря ими массы приводят к уменьшению их массы и увеличению в 34 раза радиуса скопления.
7. ПОТЕРЯ ЗВЕЗД СКОПЛЕНИЕМ ЗА СЧЕТ ИХ ПАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Гравитационное взаимодействие звезд скопления ведет к установлению и поддержанию Максвеловского распределения звезд по скоростям. Энергия связи звезд скопления ( , M, R масса и радиус скопления) мала по сравнению с энергией связи самих звезд (Gm/r, m, r масса и радиус звезды), что ведет к непрерывному удалению быстрых звезд, покидающих скопление, его «испарению» со временем. Первым, вероятно, обратил на это внимание Эддингтон [78] и сделал первую оценку времени жизни скопления, оценив его как произведение динамической шкалы времени на массу скопления в солнечных массах. Оценка роли парных взаимодействий в «испарении» звездного скопления уточнена в работах Амбарцумяна [79], Спитцера [80] и приобрела современный вид в работе Чандрасекара [81]. В итоге формула для времени испарения звездного скопления Tev приобрела современный вид:
, Tff = , (5)
где Tff время свободного падения. Логарифмический фактор учитывает роль дальних парных сближений звезд в увеличении их кинетической энергии.
Для оценки влияния сближения звезд на изменение их пространственной скорости δ можно использовать следующее простое приближение. Сила гравитационного взаимодействия двух звезд с массой m равна , время взаимодействия R/v, итоговое изменение скорости тела (δ) с массой m будет:
(5.1)
де G постоянная гравитации, M масса и v относительная скорость звезд и R минимальное расстояние пролетающего «ускорителя». Возможную причину появления соотношения для времени «испарения» можно продемонстрировать простой моделью. Пусть скопление звезд массой M имеет радиус R и составлено звездами с одинаковой массой m. Легко показать, что для изменения скорости звезд на величину характерной параболической скорости звезд скопления они должны сблизиться на расстояние . Время, необходимое для того, чтобы все звезды скопления испытали столь тесное сближение, двигаясь со скоростью v: , это время и было найдено Эддингтоном почти сто лет назад, оно также указано в (5).
Современные численные модели N точек подтвердили первые численные оценки [82, 83, 84]. Для количественной оценки времени «испарения» скопления примем его массу M, а массу одинаковых звезд m, соотношение масса-радиус скопления: M = 0.2R2. В итоге время испарения скопления (5) будет после подстановки последнего соотношения в (5):
(6)
где M3 в единицах 103 масс Солнца. Эта оценка близка к величине времени жизни скоплений, вытекающей из статистики звездных скоплений с массами 102105M⊙ в пределах 600 пк от Солнца [85], и к оценке времени жизни скоплений с массами ~ 104M⊙, выполненной по скоплениям в пределах 2 кпк от Солнца [86]. В силу малой энергии уходящих звезд полную энергию скопления в ходе испарения можно считать постоянной [87]. Поэтому R~M2, или в ходе испарения скопления со временем только из-за парных взаимодействий оно должно быстро сжиматься.
8. РОЛЬ ЗВЕЗД ПОЛЯ ДИСКА ГАЛАКТИКИ В РАЗРУШЕНИИ ЗВЕЗДНЫХ СКОПЛЕНИЙ
Звездные скопления выделены повышенной пространственной плотностью, и они погружены в звездный фон диска Галактики. Звезды фона пронизывают объем ядра скопления и его короны, активно взаимодействуют с их членами, увеличивая скорости последних. Оценка величины возмущения скорости звезды скопления дана уравнением (5.1). Характерные скорости звезд ядра скопления с радиусами согласно (3):
. (7)
Скорости звезд короны скопления с радиусами согласно (4), рис. 1:
. (8)
Ясно, что при массах скоплений, меньших ~ 106M⊙, эти скорости малы по сравнению со скоростями звезд поля в окрестности Солнца [88] ~ 30 км/с.
Для численной оценки роли звезд поля в разрушении звездных скоплений диска Галактики необходимо знать пространственную плотность последних. На основании каталога Gaia мы нашли, что в сфере радиусом 5 пк, окружающей Солнце, находится 50 звезд. Получаем плотность звезд на расстоянии Солнца от центра Галактики ~ 0.1/пк3. Близкая оценка была получена в работе [89] на основе исследования звезд Gaia в окрестностях Солнца с радиусом ~ 20 пк. Оценка локальной плотности звезд на основе гравитационного потенциала ~ 0.08M⊙/пк3 [90]. При почти постоянной орбитальной скорости звезд диска Галактики эта плотность нарастает к центру как ~ R2, увеличивая, соответственно, частоту столкновений звезд скопления со звездами диска Галактики.
Уравнение (5) можно использовать для оценки времени жизни звезды в ядре и короне скопления с массой ~ 102M⊙. Массу звезд поля и звезд скопления полагаем ~ M⊙, а плотность звезд поля ~ 0.1 пк3. В итоге простых преобразований (7) мы нашли, что время удаления звезды короны скопления за счет близкого прохождения звезд поля равно:
лет. (9)
То же для звезд ядра скопления согласно (8):
лет. (10)
На первый взгляд участием звезд поля диска Галактики в разрушении звездных скоплений с массами, большими ~ 10M⊙, можно пренебречь. Но два обстоятельства нуждаются в уточнении прежде, чем сделать окончательное заключение. Первое, пространственная плотность звезд растет с приближением к ядру Галактики, это уменьшает время удаления (9), (10), так как времена испарения обратно пропорциональны этой плотности. Второе обстоятельство заключено в распределении проходящих звезд поля по относительной скорости, ибо время удаления (9), (10) пропорционально квадрату ее величины (5). Эти обстоятельства оставляют возможность активного участия звезд поля в разрушении корон звездных скоплений малой массы при более детальном учете их эффективности.
9. РОЛЬ КРАТНЫХ ЗВЕЗД В РАЗРУШЕНИИ ЗВЕЗДНЫХ СКОПЛЕНИЙ
Наблюдаемое число кратных звезд в скоплениях невелико. На основе исследования кратности звезд в 202 скоплениях разного возраста она была оценена равной ~ 0.2 [91]. Следует иметь в виду, что в силу очевидных эффектов наблюдательной селекции последняя величина является только нижним пределом оценки кратности. Поскольку все звезды образуются в звездных скоплениях, нет оснований ожидать, что она отличается от почти полной кратности близких звезд, установленной ранее.
При обсуждении эволюции звездных скоплений необходимо иметь в виду, что полная энергия звездного скопления как системы одиночных точечных масс мала. Она, как показывают простые оценки, порядка энергии одной тесной двойной системы с компонентами солнечной массы. Приняв массу скопления в солнечных единицах равной М и массы компонентов двойной равными солнечной массе, найдем большую полуось орбиты этой двойной:
. (11)
При массе скопления ~ 102M⊙ (1) получаем α ≈ 1000 R⊙. Радиус скопления в (11) согласно уравнению (2) R/R⊙ ∼. Последняя оценка большой полуоси орбиты двойной системы с энергией связи равной энергии связи звездных скоплений показывает, что тесные двойные звезды могут играть важную роль в разрушении скоплений с массами, меньшими ~104M⊙.
Численное исследование установило, что в ходе эволюции широкие двойные системы (ШДС) могут распадаться из-за близкого прохождения звезды. Это может привести к ускорению одного из компонентов ШДС до гиперболической скорости [92]. Минимальная большая полуось разрушающейся ШДС в рамках однородной модели гравитирующих N точек (скопления) с массой М и радиусом R, которые связаны соотношением (2), может быть оценена как , где t возраст системы в годах. При характерных возрастах скоплений ~109 лет и массах ~ 102M⊙ получено . Для ускорения звезд скоплений до гиперболических скоростей необходимы ШДС с или . Для того, чтобы αmin было больше αmax, возраст скопления должен быть меньше лет. То есть, часть потенциальных «ускорителей» одиночных звезд скопления будет со временем разрушаться, оставляя в качестве наиболее эффективных «ускорителей» наиболее широкие из тесных систем. Численное изучение вклада двойных звезд в испарение звездных скоплений продемонстрировало расширение ядер скоплений по мере уменьшения их масс [93].
Важный вклад в разрушение звездных скоплений могут внести тесные тройные звездные системы [94, 95].
Часть тройных систем с неустойчивыми орбитами компонентов могут разрушаться в ходе их формирования. Если принять, что начальное распределение двойных звезд по большим полуосям может быть представлено как dN ≈0.2dlg [45], (а – большая полуось системы), а dlg≈0.5 для неустойчивых тройных систем при dlgPorb ≈ 0.7 [96], то доля неустойчивых тройных систем может составить ~0.1 от всех звезд скопления. Кроме того, эволюция двойного компонента тройной системы и эволюция удаленного компонента при условии, что масса этих компонентов превышает солнечную, сопровождается, как правило, заметным уменьшением масс компонентов и увеличением больших полуосей их орбит. Увеличение полуоси тесной двойной может нарушить условие устойчивости тройной системы и разрушить ее. Положив характерное уменьшение массы двойной с превращением ее компонентов в вырожденные карлики в три раза, можно ожидать трехкратное увеличение ее большой полуоси. Это означает, что тройные системы с dlg = 0.5 могут стать неустойчивыми и ~10% от всех тройных систем будут разрушены в ходе эволюции их двойных систем.
Еще одна возможность разрушения тройной системы в скоплении связана с ускорением удаленного компонента в ходе ее взаимодействия при сближении со звездой скопления. Приняв соотношение (2), (5) и (5.1) для скопления с массой M, состоящей из звезд с массой порядка солнечной мы найдем, что тройные системы с будут разрушены за время жизни скопления (5).
Важно отметить, что поиск потенциальных продуктов распада кратных систем принес первый результат. Белый карлик с возрастом ~108 лет и массой ~1.32M⊙ был заподозрен в принадлежности в прошлом Гиадам [97], которые он покинул ~15 ·106 лет назад. Численное моделирование в рамках модели N тел показало, что максимальное влияние на динамическую эволюцию скоплений играют наиболее массивные объекты, в частности, двойные черные дыры звездных масс [98]. Стоит отметить, что системы двойных черных дыр получают в ходе своего образования приращения скорости («kick») разного рода и в итоге могут покинуть еще молодое родительское звездное скопление. Однако черные дыры с массами ~ 103M⊙ в ядрах шаровых скоплений могут оказаться важными участниками их динамической эволюции [99].
Заканчивая обзор роли кратных систем в распаде скоплений, необходимо признать, что несмотря на очевидное участие этих систем в распаде, количественная оценка эффективности этого механизма остается пока неопределенной. Причина в неопределенности начальных параметров и сложности количественного описания эволюции таких систем.
10. РОЛЬ ГМО И ЗВЕЗДНЫХ СКОПЛЕНИЙ В РАСПАДЕ РЗС
Уравнение (5) наглядно демонстрирует, что гравитационное ускорение звезд растет с увеличением массы ускоряющего объекта. Поэтому естественно поискать потенциальные эффективные ускорители, обратившись к наиболее массивным объектам Галактики: ГМО и звездным скоплениям. Численное исследование процесса столкновения двух систем N точек показывает, что они при малых относительных скоростях, в высокой степени не консервативны и ведут после потери части звезд к слиянию этих систем [100, 101, 102]. В значительной степени, как продемонстрировало численное моделирование, исход сближения зависит от направлений вращения сталкивающихся систем, усиливаясь при совпадении последних [103]. Последнее является следствием (2). Учет сближения звездных скоплений с ГМО и другими скоплениями необходим при рассмотрении их эволюции.
Способность к образованию концентраций темного вещества остается пока не известной, но роль темного вещества в гравитации существенна только на периферии массивных галактик. Поэтому при рассмотрении основной части диска Галактики им можно пренебречь.
Звездные скопления спиральных галактик каждые ~108 лет погружаются в спиральные ветви, в которых сосредоточены гигантские молекулярные облака с массами 101M⊙106M⊙ [41, 42]. Функция масс молекулярных облаков представляется уравнением (3), а характерный радиус облаков и звездных скоплений диска Галактики уравнением (2). Плотность облака порядка плотности скопления. Плотность и число облаков (2) растут с уменьшением массы облака как и M2. По этой причине многочисленные облака малой массы могут являться главной угрозой для звездных скоплений с массой, превосходящей массу облака. Взаимодействие ГМО со звездными скоплениями рассматривалось неоднократно [104, 105] как возможная причина разрушения звездных скоплений.
Оценим вероятность столкновения звездных скоплений с гигантскими молекулярными облаками, приняв общую массу молекулярного водорода в Галактике 109M⊙[106], а массу облака M. При объеме диска Галактики ≈ 1011 пк3 расстояние между ГМО в однородной модели будет пк. Для приливного разрушения скопления с радиусом r и характерной в нем скоростью звезд v необходимо при относительной скорости u сближение с ГМО с массой M на расстояние
. (13)
Если положить u ≈ 30 км/с, радиус короны скопления равным радиусу сферы Хилла r = см, а скорость звезд короны см/с, то последнее условие преобразуется к:
см, (14)
где m масса скопления. Условие сближения разрушительного для короны скопления становится при R2, а время ожидания такого сближения
τ ≤ 2 ·108 лет. (15)
Примечательно, что оно не зависит ни от массы ГМО, ни от массы звездного скопления. Таким образом, ГМО Галактики могут являться важным фактором ограничения времени жизни короны и, вероятно, ядра скопления (рис. 1).
Чтобы оценить характерное время приливного разрушения ядра скопления необходимо принять (3): см. Тогда скорость v в (13) становится см/с, или
см. (16)
При таком критическом для разрушения прицельном параметре (16) определим время «ожидания»:
лет. (17)
Снова это время в рамках принятой модели не зависит от массы ГМО и «гарантирует» сохранение ядра скопления с m ≤104M⊙ в течение Хаббловского времени. Малая часть ядер скоплений, сблизившихся на расстояние ближе того, что указывает (16), будет, конечно, разрушено за время короче того, что отмечено (17). В целом, можно заключить, что сближение звездных скоплений с ГМО лишает это скопление короны, способствуя тем самым их разрушению, но ядра скоплений сохраняются. Большинство сближений скоплений с ГМО происходят в спиральных рукавах, в которых концентрируются ГМО.
Другими словами, для разрушения скопления ГМО необходимо, чтобы плотность ГМО nH (число атомов водорода в см3 была бы выше плотности скопления. Принимая для ГМО и для звездных скоплений справедливым соотношение M ≈ 0.2R2 [29, 107], условие разрушения скопления при столкновении его с ГМО:
M/M⊙ ≥1011/ . (18)
Следовательно, ГМО с nH =104см3), вероятно, может разрушить звездные скопления с массой, большей 103M⊙. Отметим, что для окончательных выводов необходимо численное моделирование процесса столкновения ГМО с системой N точек скопления, ибо форма и потенциал сталкивающихся объектов существенно меняются в ходе столкновения.
Среди пока неучтенных потенциальных механизмов разрушения звездных скоплений стоит упомянуть сближение скоплений друг с другом. Выполним простые оценки. Примем за условие столкновения сближение скоплений на расстояние, меньшее двух своих радиусов: 2r. Скорость движения одинаковых скоплений v, их число N, а объем пространства, в котором они движутся V. Тогда время между их столкновениями будет:
τс = . (19)
Для рассеянных скоплений в диске Галактики V ≈1011пк2, N ≈105, v ≈ 10 км/с и r ≈ 1 пк. В итоге τс ≈ 3 ·1010 лет. Но время жизни скоплений ~109 лет, поэтому процесс сближения рассеянных скоплений не кажется эффективным фактором их эволюции. Иная ситуация с шаровыми скоплениями, для которых V ≈1010пк3, N ≈ 300, v ≈ 300, r ≈ 10 пк и τс ≈ 3 ·108 лет. То есть, столкновения шаровых скоплений с временем жизни ~1010 лет между собой в ядре Галактики может быть важным фактором их эволюции и, возможно, одним из путей формирования балджа Галактики. Кроме того, эти оценки показывают, вероятно, существенную роль в эволюции рассеянных скоплений ядра нашей Галактики их столкновений с шаровыми скоплениями балджа нашей Галактики.
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги выполненного нами анализа эволюции массы и радиуса звездных скоплений в ходе уменьшения со временем их массы и числа входящих в них звезд. Источниками энергии распада могут быть зоны HII, ядерная энергия звезд, энергия кратных звезд скопления, кинетическая энергия звезд поля, гравитационная энергия гигантских молекулярных облаков и сталкивающихся звездных скоплений. Анализ показал, что все обсужденные нами пути распада скоплений можно разделить на два класса по их роли в изменении полной энергии системы N точек, представляющих скопления звезд. Потеря звезд за счет собственной энергии системы N точек в ходе парных взаимодействий звезд ведет к уменьшению этой энергии и сжатию скопления со временем с потенциальным превращением его в конечном итоге в компактную кратную звездную систему. Остальные пять механизмов удаления звезд внешние, что приводит к расширению скопления.
Для исследования эволюции наблюдаемого соотношения масса-радиус для рассеянных скоплений мы использовали каталог [22], из которого мы выбрали 330 скоплений в пределах зоны с радиусом один килопарсек около Солнца. Скопления в этой области имеют на сегодня наиболее надежно определенные параметры. Распределение по расстоянию от Солнца ранних скоплений нанесено на рис. 2 (левая панель), а распределение по возрасту на рис. 2 (правая панель). Характерный возраст скоплений ~3 ·108 лет. Приняв радиус Галактики 104 пк, при средней массе (рис. 3) 102M⊙, их общая масса составит ~3 · 106M⊙. При указанном выше среднем возрасте отобранных нами скоплений ~3 · 108 лет (рис. 2) темп звездообразования в скоплениях Галактики составит ~ 0.03M⊙/год, а оценка общей скорости звездообразования в Галактике ~ 3M⊙/год. То есть, только менее 1% всех звезд образуются в скоплениях указанного среднего возраста.
Рис. 2. Распределение скоплений (ближе 1 кпк) каталога [22] по расстоянию от Солнца (d, пк) и по логарифму возраста (log t, лет).
Рис. 3. Соотношение «логарифм массы логарифм размера» скоплений каталога [22], расположенных в пределах 1 кпк от Солнца. Прямая описывается формулой log · mt = 2.55(±0.063) +1.83(±0.108)log Size, где log · mt приливная масса скопления в массах Солнца, логарифм размера скопления в парсеках logSize = log(d·r0/57.3), где r0 угловой размер ядра скопления в градусах (рис. 1).
Большинство звездных скоплений, как было указано выше, разрушаются в момент их образования после потери ими газового компонента. На рис. 4 для трех классов скоплений, отличающихся по возрасту, приведена корреляция приливной массы скоплений (lg mt) с радиусами их ядер [22]. Представлены также аналитические выражения для этих корреляций. Скопления для построения рис. 4 были разделены на три равных по числу компонента: молодые с возрастом менее 108 лет, старые с возрастом более 6 · 108 лет и скопления промежуточных возрастов. Сравнение аналитических представлений наблюдаемых корреляций не демонстрирует какой-либо достоверной эволюции соотношения масса-радиус с возрастом скопления в указанных интервалах масс и возрастов скоплений. Корреляции MtotalR практически одинаковы. Первый коэффициент представляет собой тангенс угла наклона линейной зависимости логарифма массы (lg mt) скопления от его размера (log Size). Углы наклона отличаются менее чем на пять градусов. Второй коэффициент сдвиг прямой. Он практически совпадает для рис. 4б и 4в в пределах ошибки, или дисперсии ~ 0.7. Прямая рис. 4а по сдвигу отличается от остальных. Это позволяет отнести наблюдаемую корреляцию масса-радиус для скоплений M~R2, замеченную ранее [29], к числу следствий эффектов наблюдательной селекции.
Рис. 4. а) Соотношение «логарифм массы логарифм размера» для скоплений с возрастом log t< 8.0. Прямая описывается формулой log mt = 2.64 (±0.105) +2.05 (±0.178)·log Size. б) Соотношение «логарифм массы логарифм размера» для скоплений с возрастом 8.0<log t<8.8. Прямая описывается формулой logmt = 2.51(±0.094)+1.72(±0.161)·log Size. в) Соотношение «логарифм массы логарифм размера» для скоплений с возрастом log t>8.8. Прямая описывается формулой log mt = 2.39(±0.147)+1.52(±0.268)·log Size.
Дополнительной иллюстрацией взаимодействия эффектов эволюции открытых звездных скоплений и эффектов наблюдаемой селекции служит рис. 5, на которой нанесена наблюдаемая корреляция масс отобранных скоплений с возрастами [22]. Априори очевидно, что масса скоплений с возрастом должна уменьшаться в силу эффектов, обсуждаемых в статье. Но этот эффект может быть отслежен только при возрастах менее ~108 лет. Однако увеличение возраста выше этой величины приводит в силу эффектов наблюдательной селекции, естественно, к существенному увеличению числа скоплений в ансамбле, что, в свою очередь, увеличивает вклад исходно более массивных скоплений. Последнее сменяет наметившееся уменьшение средней массы скоплений с возрастом увеличением (рис. 5).
Рис. 5. Соотношение «логарифм приливной массы логарифм возраста» скоплений каталога [22]. Цветовая шкала показывает цвет точки в зависимости от Rg (расстояние от галактического Центра, ЦГ). Среди далеких от ЦГ наблюдаются старые скопления выжившие и с высокой концентрацией звезд к центру скопления, следовательно, лучше идентифицируются на далеких от ЦГ расстояниях, на фоне меньшего количества звезд поля.
В итоге можно заключить, что, изучая сейчас эволюцию рассеянных звездных скоплений от их возникновения до предельно старых, пока невозможно сделать однозначный вывод об эволюции их размеров. Самые молодые известные звездные скопления имеют возраст ~105 лет [108]. Рис. 2 и рис. 5 не демонстрируют присутствие в известных ансамблях рассеянных скоплений с возрастами порядка Хаббловского времени ~1010 лет, хотя при возрасте ~ 5 ·109 лет есть скопления с массами ~104M⊙(рис. 5). Кроме того, уравнения (1) и (6) допускают Хаббловское время в качестве времени жизни скоплений с начальными массами большими ~105 лет. Вероятная причина отсутствия известных предельно старых звездных скоплений с массой 102M⊙103M⊙ эффекты наблюдательной селекции [109].
Аналитическая модель формирования звездных скоплений в газовом диске Галактики позволяет найти начальное соотношение масса-радиус для них: R(пк) = 0.5 при поверхностной плотности газа ~ 10M⊙/пк2 [32]. С ходом времени в силу потери массы и парных взаимодействий указанная зависимость радиуса от массы для скоплений с массами меньшими ~104M⊙, вероятно, ослабевает [32, 110]. То есть, радиус этих скоплений со временем, вероятно, убывает. Изучение 99 скоплений диска M 82 показывает, что при переходе от скоплений с возрастом менее 108 лет к скоплениям с возрастом более 5 · 108 лет при массах скоплений 103M⊙ 106M⊙ их радиус уменьшается в три раза [111]. Ясно, что из-за сложности процессов, сопровождающих эволюцию скоплений в разных внешних условиях, эволюция соотношения масса-радиус пока не имеет однозначного решения и требует дополнительного изучения.
Как известно, масса звездного скопления со временем уменьшается. Оценим в рамках простой модели изменение радиуса ядра скопления в ходе эволюционного уменьшения его массы. Полная энергия (кинетическая плюс потенциальная) системы N точек может быть записана как:
E = αGM2/R, (20)
где M и R масса и радиус системы, α структурный коэффициент. Примем, что изменение этой энергии, обусловленное потерей звезд скоплением, может быть записано как βG , где β коэффициент, представляющий изменение энергии системы при потере звезд. Коэффициент β > 0 при потере звезд скопления за счет их парных взаимодействий и β < 0, если при этом используется энергия зоны HII, удаляющего газ, потеря массы сверхновыми и планетарными туманностями, потеря звезд за счет столкновения со звездами поля, потеря звезд за счет распада тройных систем или путем их взаимодействия с двойными системами, потеря звезд скопления при взаимодействии его с гигантскими молекулярными облаками. Параметр β > 0, если тратится энергия самого скопления, и β < 0, если в разрушении участвует внешний источник.
В рамках обсуждаемой модели из производной от указанной выше энергии (20) можно записать, предполагая α и β постоянными:
. (21)
Из этого уравнения ясно, что характер изменения радиуса по мере уменьшения массы скопления зависит от знака 2α+β. Оценка величины α ≈ 0.2 [112].Следовательно, при β < 0.4 (19) радиус скопления будет увеличиваться в ходе эволюционного уменьшения массы звездного скопления, а при β > 0.4 расти.
Предположение о парных взаимодействиях звезд как основной причины разрушения скоплений и численные модели задач N тел предполагают, что большинство звезд покидает скопления с малой скоростью. В силу этого, полная энергия скопления (20), равная сумме потенциальной и кинетической энергий звезд скопления, почти сохраняется β ≈ 0. Вследствие чего R ~ M0.4, что близко к наблюдаемому соотношеию (рис. 2). То есть, этот механизм разрушения скоплений предполагает быстрое уменьшение радиуса скопления по мере уменьшения его массы, а это, в свою очередь, в силу уравнения (1) ведет к ускорению распада. Привлечение, например, двойных звезд (β ≈ 1) в качестве источника энергии для испарения скопления приводит к R ~ M0.6, то есть в этом случае уменьшение массы скопления в ходе его испарения приводит к его расширению со временем. В силу участия нескольких механизмов разрушения звездных скоплений со временем конечный сценарий их разрушения становится итогом сложного процесса, требующего специального рассмотрения с привлечением всех процессов, участвующих в разрушении.
Теперь, имея в виду неоднозначные результаты по эволюции радиуса рассеянных скоплений в ходе их распада и практически совпадающие соотношения масса-радиус на рис. 2, можно обсудить возможную природу наблюдаемой корреляции MR (2) и рис. 2. Возможны два объявления устойчивости этого соотношения. Первое: обсужденные в третьей главе механизмы распада действуют так согласовано, что обеспечивают в уравнении (19): и, как следствие: . Второе: эволюция каждого скопления со временем в плоскости MR индивидуальна и осуществляется за счет внутренних и внешних факторов, обсуждаемых в третьей главе, а наблюдаемая корреляция MR скоплений является суммарным продуктом эффектов наблюдательной селекции. При этом скопления с неизменным или увеличивающимся в ходе распада радиусом для наблюдателя просто теряются на звездном фоне. Скопления же с уменьшающимся радиусом ускоряют свою эволюцию, увеличивая плотность и, как следствие, частоту парных взаимодействий, удаляющих из него звезды, в силу (2): , J предельный угловой момент скопления. Это обстоятельство ведет к понижению числа скоплений большой плотности на рис. 2, ввиду их малого времени жизни. Итогом этих двух обстоятельств может явиться устойчивая наблюдаемая корреляция MR на рис. 2.
Последние работы по изучению вековой эволюции 1379 скоплений на основе Gaia DR3 позволили найти первые скопления, демонстрирующие признаки такой эволюции [113]. При этом 18 скоплений показывают расширение, а три сжатие. Расширение было приписано по традиции потере газового компонента этими скоплениями [15]).
Интересный вариант быстрого распада звездных скоплений был предложен в работе [114]. Они нашли, что в отсутствии приращения скорости («kick») Vk ≤ 1 км/с звездные черные дыры, образующиеся в скоплении, формируют плотное ядро скопления из черных дыр. Такое ядро способно в несколько динамических шкал времени (~106 лет) ускорить звезды скопления, тем самым разрушив его. Однако необходимо отметить, что отсутствие «kick» черных дыр и вращения скопления являются принципиально необходимыми требованиями для этого сценария. По этой причине он является маловероятным.
Интересно, что корреляция M ~ R2 известна и для галактик, видимые размеры которых определяются эффектами наблюдательной селекции, зависящими от определенной поверхностной яркости. Корреляция MR для них, изученная [115], обнаруживает «обрезание» размеров галактик, зависящее от их светимости (массы) как L(M)~R2. Таким образом, складывается впечатление, что «закон» M ~ R2 является следствием ограничения размеров систем, не имеющих физически определенных границ, предельной поверхностной яркостью. Это явление общее для всех астрономических систем такого рода: звездные скопления, галактики, скопления галактик.
Роль неопределенности при оценке размеров протяженных астрономических объектов была изучена при оценке радиусов галактик [116]. В этой работе продемонстрировано, что попытка различными авторами найти связь размеров галактик с их массой приводит к очевидной неопределенности в радиусах в два-три раза, а в массах в три-четыре раза. Это обстоятельство поддерживает неопределенность всех оценок размеров и масс протяженных объектов, сохраняя итоговую корреляцию M ~ R2.
Оценим роль указанных выше факторов количественно. Пусть соотношение масса-радиус скопления: M ≈ N = γR2 (γ коэффициент соотношения (2)), масса в солнечных единицах, радиус в парсеках. Характерная масса звезд скопления принята равной Солнечной массе. Скопление погружено в звездный фон, плотность которого около Солнца была найдена нами выше равной ~ 0.1 пк3. Теперь для того, чтобы число звезд фона в конусе с основанием равным площади скопления было меньше числа звезд скопления, расстояние до скопления должно быть меньше 10γ парсек или, учитывая (2), меньше 5000 парсек. Но дисперсия по R по рис. 2 достигает фактора порядка пяти. То есть, ядра скоплений с такими радиусами, находящиеся дальше 600 пк, будут просто неразличимыми на звездном фоне. Конечно, близкие скопления могут быть идентифицированы изучением апексов движений их звезд, но для большинства более далеких скоплений этот метод недоступен. То есть, скопления пониженной плотности исчезают из наблюдаемых ансамблей. Время жизни скоплений повышенной плотности сокращается парными взаимодействиями их членов, что также способствует понижению их наблюдаемого числа в силу (1).
Ясно, что звездные скопления со временем распадаются и самые распространенные старые скопления малых (102M⊙ 103M⊙) масс представлены сейчас своими конечными продуктами. Последние естественно искать среди звезд высокой кратности. Примем типичную начальную массу рассеянного скопления равной ~ 102M⊙. При массе звездного диска Галактики ~ 1011M⊙ можно ожидать ~ 109 систем высокой кратности, отмечающих конечные стадии эволюции звездных скоплений. Конечно, большинство их ~ 90%, как указывалось выше, являются продуктами короткоживущих (~ 103 лет) скоплений, потерявших при своем возникновении много газа. Поэтому только одна кратная звезда из почти 103 звезд диска является продуктом распада звездного скопления. Каталог Токовинина (2018) включает 17 звезд с известными шестью и 4 звезды с семью компонентами. Кастор с шестью компонентами среди них [117, 118]. Изучение устойчивости таких систем, оценка времени жизни и условия их возникновения заслуживают специального внимания.
Наблюдения показывают, что звездные скопления могут распадаться как при образовании после потери ими своего газового компонента [119], так и в ходе своей эволюции. Молодые скопления NGC2422 и IC4665 представлены потоками с длиной ~ 100 пк, отвечающей характерной скорости звезд в скоплении ~ 1 км/с, что типично для звездных скоплений малой массы [119]. Звездные потоки являются конечными продуктами распада всех звездных систем: скоплений и галактик [120]. Вектора пространственных скоростей звезд, имеющиеся в Gaia DR3, представляют хорошую возможность для поиска таких потоков методом поиска звезд с общим апексом. Ансамбль тридцати звездных потоков (копий), ассоциированных с шаровыми скоплениями приведен в [121].
Примером поздних стадий эволюции звездных скоплений может служить COIN-Gaia 13 [122]. Скопление с общей массой ~ 440M⊙ и возрастом ~ 250 ·106 лет около 70% своих членов успело перевести в звездный поток с общей длиной ~ 270 пк. Наблюдаемая длина потока позволяет оценить относительную скорость звезд ~ 0.5 км/с. Эта скорость согласуется с ее оценкой, полученной на основании (2). То есть, скопление COIN-Gaia 13 является примером, иллюстрирующим поздние стадии перехода звездного населения из ядра скопления в звездный поток (рис. 1).
Основная часть звезд галактик образуется в звездных скоплениях с массами 102M⊙ 106M⊙. Потеря газового компонента молодыми звездными скоплениями приводит к распаду более 90% образующихся звездных скоплений в течение первых миллионов лет их жизни с превращением их в звездные потоки (копья). Оставшиеся после потери газа гравитационно-связанные скопления теряют свои звезды в силу ряда внутренних и внешних причин. К числу внутренних причин можно отнести парные гравитационные взаимодействия звезд скопления, приводящие со временем к уменьшению массы скопления и его сжатию в целом. К числу внешних причин: распад кратных звезд, ускорение одиночных звезд скопления кратными звездами скопления и звездами диска Галактики (звездами поля), столкновения с гигантскими молекулярными облаками. Внешние причины ведут к расширению скопления с уменьшением его массы. Конечным продуктом эволюции скопления является кратная звездная система и звездный поток.
Наблюдаемая корреляция радиуса скопления с его массой ((2), рис. 2) не зависит от возраста скоплений в интервале возрастов 106 лет 109 лет (рис. 2) и является вероятным продуктом эффектов наблюдаемой селекции, в результате которых скопления низкой плотности «теряются» на звездном фоне, а высокой в силу быстрой динамической эволюции имеют короткое время жизни. Эволюция скоплений в плоскости радиус-масса индивидуальна и определяется совокупностью внутренних и внешних условий: плотности, доли кратных звезд, плотности звезд фона.
Наглядным свидетельством роли эффектов наблюдательной селекции может служить работа [123] по соотношению масса-радиус для галактик. Если обычное соотношение в оптике имеет «стандартный» вид M~R2 [29], то в ультрафиолете оно трансформируется до M~R5.
Следует признать, что оценки масс рассеянных скоплений могут быть завышены в силу двух возможных причин. Предельно молодые скопления с возрастом, меньшим нескольких миллионов лет, могут являться не гравитационно-связанными скоплениями, а распадающимися в динамической шкале времени группами молодых звезд после удаления из них газового компонента. Кроме того, дисперсия скоростей звезд скопления может быть завышена за счет орбитального движения многочисленных неразрешенных двойных звезд скопления [124].
Благодарности
Авторы благодарят рецензента за сделанные замечания.
About the authors
A. V. Tutukov
Institute of Astronomy, Russian Academy of Sciences
Email: svvs@ya.ru
Russian Federation, Moscow
S. V. Vereshchagin
Institute of Astronomy, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: svvs@ya.ru
Russian Federation, Moscow
N. V. Chupina
Institute of Astronomy, Russian Academy of Sciences
Email: svvs@ya.ru
Russian Federation, Moscow
References
- H. Shapley, John G. Wolbach Library, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (HarMo) 2 (1930).
- B. Hertzsprung, Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands 1, 218 (1923).
- R. Trumpler, Lick Observatory bulletin 14, 154 (1930).
- O.J. Eggen, A.R. Sandage, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 119, 255 (1959).
- Ch. Messier, Connoissance des Temps ou des Mouvements Célestes for 1784, 227 (1781).
- W. Herschel, Philosoph. Trans. Roy. Soc. of London 76, 457 (1786).
- R. Proctor, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 30, 50 (1869).
- A. Eddington, Nature 106, 14 (1920).
- S. Chandrasekhar, Astrophys J. 67, 206 (1938).
- H. Jonson, A. Sandage, Astrophys. J. 121, 616 (1955).
- I. King, Astron. J. 63, 265 (1958).
- O. Eggen, G. Herbig, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 137, 111 (1967).
- R. Larson, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 147, 323 (1970).
- S. Aarseth, Astron. and Ск 35, 237 (1974).
- A. Tutukov, Astron. and Astrophys. 70, 57 (1978).
- D.A. Vandenberg, Astrophys. J. Suppl. Ser. 51, 29 (1983).
- Ch. J. Lada, E.A. Lada, ASP Conf. Ser. 13, 3 (1991).
- P. Zwart, F. Simon, P. Hut et al., Astron. and Astrophys. 337, 363 (1998).
- N. Bastian, M. Gieles, ASPC 386, 353 (2008).
- A. Kamlah, R. Spurzem, P. Berczik et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 516, 3266 (2022).
- J.E. Wall et al., Astrophys. J. 904, 192 (2020).
- A. Just, A.E. Piskunov, J.H. Klos et al., Astron. and Astrophys. 672, id. A187 (2023).
- Е.L. Hunt, S. Reffert, Astron. and Astrophys. 673, A 114 (2023).
- R. Larson, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 194, 809 (1981).
- S. Pfalzner, H. Kirk, A. Sills et al., Astron. and Astrophys. 586, 68 (2016).
- J. Chieze, Astron. and Astrophys. 171, 225 (1987).
- A. Mok, R. Chandar, S. M. Fall, Astrophys. J. 911, 8 (2021).
- S. Smith, W. Cherny, Ch. Hayes et al., Astrophys. J. 961, 92 (2024).
- A. Tutukov, Astron. Rep. 63, 19 (2019).
- M. Krumholz, Sh. McKee, J. Bland-Hawthorn, Ann. Rev. of Astron. and Astrophys. 57, 227 (2019).
- B. Chen, G. Li, H. Yuan et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 493, 351 (2020).
- N. Choksi, J.M.D. Kruijssen, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 507, 5492 (2021)
- Y. Xing, K. Qiu, Res. in Astron. and Astrophys. 22, id.075006 (2022).
- K. Neralwar, D. Colombo, A. Duarte-Cabral et al., Astron. and Astrophys. 884, 84 (2022).
- J.P. Farias, S.S.R. Offner, M.Y. Grudić et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 527, 6732 (2024).
- J. Yuan, Y. Wu, S. Ellingsen et al., Astrophys. J. Suppl. Ser. 231, 11 (2017).
- F. Maeda, K. Ohta, Y. Fujimoto et al. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 493, 5045 (2020).
- A. Just, S. Jacobi, B. Deis, Astron. and Astrophys. 289, 237 (2024).
- M. Fujii, P. Zwart, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 449, 126 (2015).
- M. Messa, A. Adamo, D. Calzetti et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 477, 1683 (2018).
- A. Mok, R. Chandar, S.M. Fall, Astrophys. J. 893, 135 (2020).
- M. Kobayashi, S.I. Inutsuka, H. Kobayashi, Astrophys. J. 836, 175 (2017).
- A. Tutukov, B. Shustov, Astrophysics 63, 552 (2020).
- P. Kroupa, IAUS 241, 109 (2007).
- А. Масевич, А. Тутуков. Эволюция звезд: теория и наблюдения (М: Наука, 1988).
- B.M. Shustov, A.V. Tutukov, Astron. Rep. 62, 784 (2018).
- H. Lamers, H. Baumgardt, M. Gieles, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 433, 1378 (2013).
- E. Vesperini, J. Hogg, J. Webb et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 476, 2731 (2018).
- K. Wang, E. Peng, Ch. Liu et al., Nature 623, 296 (2023).
- M. Kissler-Patig, A. Jordan, N. Bastian, Astron. and Astrophys. 448, 1031 (2006).
- Ch-Ch He, M. Ricotti, S. Geen, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 489, 1880 (2019).
- H. Li, O. Gnedin, N. Gnedin, Astrophys. J. 861, id. 107 (2018).
- M. Grudic, P. Horkins, E. Lee et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 488, 1501 (2019).
- E. Diaz-Marquez, R. Grau, G. Busquet et al., Astron. and Astrophys. 682, A180 (2024).
- S. Ray, S. Dhiwar, J. Bagehi et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 527, 9999 (2024).
- Z. He, K. Wang, Y. Luo et al., Astrophys J. Suppl. Ser. 262, 7 (2022).
- Ya. O. Chumak, A.S. Rastorguev, Astronomy Letters 32, 157 (2006).
- S. Meingast, J. Alves, Astron. and Astrophys. 621, L3 (2019).
- S. Röser, E. Schilbach, B. Goldman, Astron. and Astrophys. 621, L2 (2019).
- S. Linden, A. Evans, L. Amus et al., Astrophys. J. 944, 55 (2023).
- O. Gunes, Y. Karatas, Ch. Bonatto, Astron. Nachrichten. 338, 464 (2017).
- К. Маршал. Задача трех тел (М: Наука, 2005).
- A. Tutukov, M. Sizova, S. Vereshchagin, Astron. Rep. 64, 827 (2020).
- E. Vaher, D. Hobbs, P. McMillan et al., Astron. and Astrophys. 679, A105 (2023).
- Y. Hirata, T. Mirase, J. Nishi et al., Publ. Astron. Soc. Jap. 76, 65 (2024).
- N.V. Kharchenko et al., J/A+A/558/A53/catalog (2013).
- S. Roser, E. Schilbach, Astron. and Astrophys. 638, 9 (2020).
- G. Thomas, B. Famaey, G. Monari et al., Astron. and Astrophys. 678, 180 (2023).
- S. Goodwin, N. Bastian, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 373, 152 (2006).
- H. Lamers, M. Gieles, Astron. and Astrophys. 455, 17 (2006).
- D. Cook, L. Lee, A. Adamo et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 519, 3749 (2023).
- M. Krumnolz, C. McKee, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 494, 624 (2020).
- N. Bastian, M. Gieles, H. Lamers et al., Astron. and Astrophys. 431, 905 (2005).
- C. Lada, E. Lada, Ann. Rev. of Astron. and Astrophys. 41, 57 (2003).
- S. Pfalzner, T. Kaczmarek, Astron. and Astrophys. 559, 38 (2013).
- J. Maiz Apellzner, M. Gonzalez, R. Barba et al., Astron. and Astrophys. 657, 12 (2022).
- J. Balin, Astrophys. J. 863, 99 (2018).
- A. Eddington, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 76, 572 (1916).
- В. Амбарцумян, Ученые зап. ЛГУ, Сер. мат. 4, 19 (1938).
- L. Spitzer, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 100, 396 (1940).
- S. Chandrasekhar, Astrophys. J. 98, 54 (1943).
- S. Mc Millan, Astrophys. J. 307, 126 (1986).
- M. Fujii, M. Iwasawa, Y. Funato et al., Astrophys. J. 686, 1082 (2008).
- M. Giersz, D. Heggie, J. Hurley et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 431, 2184 (8013).
- H. Lamers, M. Gieles, Astron. and Astrophys. 455, 17 (2006).
- F. Anders, T. Kantat-Gaudin, I. Quadrino, Astron. and Astrophys. 645, 2 (2021).
- Л.Э. Гуревич, Б.Ю. Левин, Доклады Академии наук СССР 70, 781 (1950).
- A. Tutukov, N. Chupina, S. Vereshchagin, Astron. Rep. 67, 1418 (2023).
- J. Kirkpatrick, F. Marocco, Ch. Geling et al., Astrophys. J. Supp. Ser. 271, id.55 (2024).
- D. Horta, A. Price-Whelan, D. Hogg et al., Astrophys. J. 962, id.165 (2024).
- J. Donada, F. Andres, C. Jordi et al., Astron. and Astrophys. 675, id.A89 (2023).
- J. Darbinhausen, M. Marks, P. Kroupa, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 510, 413 (2022).
- M. Wilkinson, J. Hurley, A. Mackey et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 343, 1025 (2003).
- D.C. Heggie, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 173, 729 (1975).
- J. Hills, Astron. J. 80, 809 (1975).
- A. Tokovinin, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 389, 925 (2008).
- D. Miller, I. Caiazzo, J. Heyl et al., Astrophys. J. Lett. 956, id.L41 (2023).
- L. Wang, A. Tani Kawa, M. Fujii, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 509, 4713 (2022).
- N. Dickson, P. Smith, V. Ytnault-Brunet et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 529, pp.331 (2023).
- T. Van Albade, J. Gorkom, Astron. and Astrophys. 54, 121 (1977).
- J.W. Lee, Astrophys. J. 961, id.227 (2024).
- L. Saleh, J. Barnes, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 527, 8551 (2024).
- S. White, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 189, 831 (1979).
- S. Van den Berg, D. McClure, Astron. and Astrophys. 88, 360 (1980).
- M. Gieles, S. Portegies Zwart, H. Baumgardt, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 371, 793 (2006).
- P. Solomon, L. Sandos, N. Scoville, IAUS 84, 35 (1979).
- Ch. Lada, T. Dame, Astrophys J. 898, 3 (2020).
- T. Nony, R. Galvan-Madrid, N. Brouiller et al., Astron. and Astrophys. 687, id.A84 (2024).
- B. Bhatt, A. Pandey, H. Mahra, Astrophys. and Space Sci. 129, 293 (1987).
- M. Gieles, H. Baumgardt, D.C. Heggie et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 408, 16 (2010).
- B. Cuevas-Otahola, Y. Mayya, I. Puerari et al., Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 500, 4422 (2021).
- M. Gieles, ASP Conf. Ser. 470, 339 (2013).
- V. Jadhav, P. Kroupa, W. Wu, J. Pflamm-Altenburg, I. Thies, Astron. and Astrophys. 687, id.A89 (2024).
- A.R. Shirazi, H. Haghi, A.H. Zonoozi, A. Farhani Asl, P. Kroupa, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 531, Issue 4, pp.4166 (2024).
- M. Mezchua, H. Dominguez Sanchez, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 528, pp.5252 (2024).
- M. Figueira, M. Siudek, A. Pollo, et al. Astron. and Astrophys. 687, id.A117 (2024).
- A. Tokovinin, Astrophys. J. Supp. Ser. 235, 6 (2018).
- T. Merle, Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège 93, 170 (2024).
- X. Pang, Y. Li, Z. Yu et al., Astrophys. J. 912, 162 (2021).
- A. Tutukov, S. Vereshchagin, Physics-Uspekhi 66, 859 (2023).
- R. Ibata, K. Malhan, N. Martin et al., Astrophys. J. 914, 123 (2021).
- L. Bai, J. Zhong, L. Chen, J. Li, J. Hou, Research in Astron. and Astrophys. 22, id.055022 (2022).
- K.V. Nedkova, M. Rafelski, H.I. Teplitz, V. Mehta, et al., Astrophys. J. 970, id.188 (2024).
- M. Kulesh, A. Samirkhanova, G. Carraro, et al., Astron. J. 167, id.212 (2024).
Supplementary files