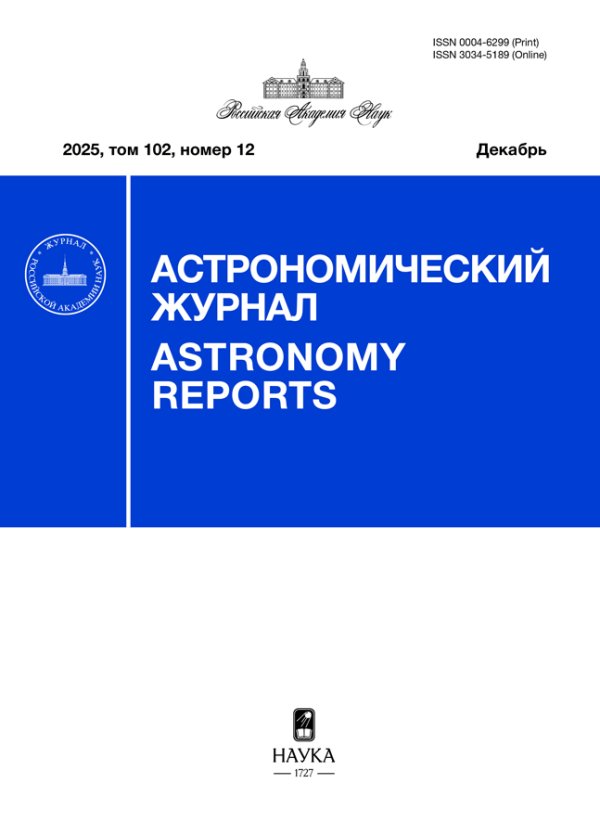Investigation of the temporal variations in scattering and dispersion measure of Giant Radio Pulses in the pulsar в0531+21 in the Crab Nebula at 111 MHz frequency in 2002–2024
- Authors: Losovsky B.Y.1, Potapov V.A.1
-
Affiliations:
- Lebedev Physical Institute of Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 101, No 11 (2024)
- Pages: 977-985
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0004-6299/article/view/276114
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0004629924110042
- EDN: https://elibrary.ru/JLJNTC
- ID: 276114
Cite item
Full Text
Abstract
We present in the article the results of our monitoring of Giant Radio Pulses (GRPs) of pulsar B0531+21 (J0534+2200) in the Crab Nebula. Observations has been carried in the PRAO ASC LPI using the BSA LPI radio telescope at 111 MHz frequency at bandwith 2.5 MHz with a 128-channel spectrum analyzer and PRAO Digital Pulsar Receiver in 2002–2024. It is shown that the dependence between the scattering time τ and the dispersion measue DM of GRPs in the period 2010–2021 differs significantly from that before 2010 and after 2021. In 2010–2021 the values of τ and DM demonstrated significant growth and instability, and the functional relationship between them changes rapidly. The data for the entire observation period forms on plot of {τ, dm } (where dm = ( DM – 56.7) × 10 3 ) three main and one transitional branches, formed by 14 different time segments. Thay may be well approximated by power functions τ ∝ dmn with values n = 0.7, 1.1 and 1.86 for the main and 2.1 for the transitional branches. This behavior of τ and DM is explained by anomalous variations in the density and turbulence of magnetically active plasma in the Crab Nebula and the interstellar medium in 2010–2021. Comparing the data at 111 and 610 MHz in the period MJD 55000–56500 (June 2009 – July 2013), we obtained an estimate β = 3.4 ± 0.2 for the dependence of observed scattering on the frequency τ ∝ ν−β. This value is close to the previously published, but significantly differs from the dependencies for both Kolmogorov (β = 4.4) and normal distribution (β = 4) of spatial inhomogeneities of the interstellar medium.
Keywords
Full Text
1. ВВЕДЕНИЕ
Находящийся в Крабовидной туманности (КТ) пульсар В0531+21 (J0532+2200) — молодой (чуть менее тысячи лет) и очень активный астрофизический объект. Пульсар был открыт Стейлиным и Райфенстайном [1] на частоте 111 МГц, первоначально как радиотранзиент. Позже выяснилось, что это короткопериодический (33.4 мс) пульсар, который время от времени излучает огромные по мощности кратковременные импульсы, на порядки превышающие по пиковой плотности потока средние импульсы, и получившие название «Гигантские импульсы» (ГИ). Наблюдаемое излучение PSR B0531+21 полностью перекрывает диапазон от длинных радиоволн до гамма-лучей [2]. Как туманность и пульсар сами по себе, так и их взаимодействие, несмотря на длительную историю наблюдений, представляют большой интерес и в настоящее время.
Уникальной особенностью пульсара является сочетание мощного и многодиапазонного излучения, и расположение внутри молодой туманности, что делает его одним из наиболее «плодовитых» источников астрофизической информации. Активные процессы, протекающие как в Крабовидной туманности, так и в межзвездной среде на пути распространения импульса от пульсара к наблюдателю, приводят к изменениям плотности и турбулентности неоднородной плазмы, что вызывает наблюдаемые в радиодиапазоне вариации времени дисперсионного запаздывания, рассеяния импульса и фарадеевского вращения его плоскости поляризации. За более чем 50 лет наблюдений пульсара в КТ накоплен богатый материал по исследованию рассеяния его импульсов τ и меры дисперсии DM .
Ренкин и Каунсельман [3] наблюдали В0531+21 в КТ с мая 1969 г. по февраль 1971 г. в обсерватории Аресибо на частотах 73.8, 111.5, 196.5 и 430 МГц. Анализируя полученные характеристики рассеяния импульсов пульсара, они пришли к выводу, что на пути радиоизлучения от пульсара к наблюдателю в межзвездной среде находятся две разнесенные области рассеяния (плазменные экраны). Из того, что степень рассеяния одним из экранов изменялась с характерным временем порядка месяца, последовал вывод, что этот экран расположен в пределах КТ. Второй экран, который проявлял стабильные характеристики рассеяния, авторы связали с межзвездной средой или, точнее, с рукавами Персея и Ориона Галактики. Исаакмен и Ренкин [4] продолжили серию указанных измерений до марта 1974 г. и провели подробный анализ предложенной двухэкранной модели рассеяния. Они обнаружили вариации меры дисперсии, которые, однако, плохо коррелировали с вариациями рассеяния. Это связано с тем, что наблюдаемые изменения рассеяния вызваны не только вариациями DM, но и локальными флуктуациями плотности плазмы.
В работе Вильямсона [5] показано, что при интерпретации результатов измерений уширений импульса (рассеяния) допустимо применять однокомпонентную модель (модель одного экрана) в тех случаях, когда в многокомпонентной модели один из экранов превалирует над другим. Анализируя выполненные в 1971 г. наблюдения ряда пульсаров и, в частности, пульсара в КТ на 115 МГц, Вильямсон пришел к выводу, что к нему лучше всего подходит модель тонкого экрана. Так же поступили МакКи и др. [6], анализируя 30-летние ряды вариаций рассеяния радиоизлучения пульсара в Крабе на 610 и 1400 МГц с помощью 42-футового радиотелескопа в Джодрелл Бэнк. Действительно, как следует из сказанного выше, в направлении на пульсар в КТ имеются два тонких экрана, но вариации рассеяния в самой туманности значительно превышают вариации рассеяния в межзвездной среде. В работе Ершова [7] показано, что при прохождении импульса через два тонких экрана характерное время рассеяния результирующего импульса практически равно сумме времен рассеяния каждого из экранов.
Отметим, что Ранкин и Каунсельман [3] по наблюдениям 1969–1971 гг. определили, что рассеяние в межзвездной среде практически постоянно и составляет 6.2 × 105 с/МГц4. В пересчёте на 111 МГц это составляет 4.1 мс. Согласно [5] на 115 МГц суммарное рассеяние составило 12 мс. Таким образом, на долю рассеяния в КТ приходилось около 8 мс.
Лайн и Торн [8] наблюдали пульсар в Джодрелл Бэнк на частотах 408 и 610 МГц. На протяжении четырех последних месяцев 1974 г. они зафиксировали десятикратное увеличение рассеяния, что, по их мнению, является прямым доказательством того, что рассеяние происходит в плотном тонком экране в самой туманности.
МакКи и др. [6] продемонстрировали наличие корреляции между рассеянием и мерой дисперсии с коэффициентом 0.56 ± 0.01 и подтвердили ранее обнаруженную Кузьминым и др. [9] корреляцию. Рудницкиий и др. [10] наблюдали пульсар в Крабе в рамках проекта «Радиоастрон» на частотах 327 и 1668 МГц и подтвердили доминирующее влияние туманности на процессы рассеяния.
Наблюдения рассеяния ГИ пульсара в Крабе на низких частотах проанализированы также в работах [11–13], в частности, в наблюдениях на радиотелескопе БСА ФИАН на частоте 111 МГц в работах [14–19].
Ниже приводятся новые результаты наших исследований связи между мерой дисперсии DM и рассеянием τ ГИ PSR B0531+21 в КТ, основанные на мониторинге, проводившемся в ПРАО в период с 18/09/2002 по 11/01/2024 гг. В главе 2 кратко описана используемая для наблюдений аппаратура и режим наблюдений, в главе 3 — результаты анализа данных, в главе 4 даны краткие выводы, в Приложении приведен ряд формул, полезных при прочтении статьи.
2. АППАРАТУРА И НАБЛЮДЕНИЯ
Наблюдения ГИ пульсара В0531+21 проведены на первой (управляемой) диаграмме направленности радиотелескопа БСА ФИАН (Большая сканирующая антенна Физического института им. П. Н. Лебедева РАН). Радиотелескоп БСА ФИАН является меридианным инструментом и представляет собой фазированную антенную решетку, состоящую из 16 тысяч волновых диполей, расположенных на площади 200 × 400 м. Диаграмма антенны фиксирована в E -плоскости и имеет электронно-управляемое сканирование в H -плоскости.
Рабочий диапазон частот антенны 109–113 МГц с центральной частотой 111 МГц. Поляризация антенны — линейная (Восток-Запад). Ширина луча диаграммы направленности по уровню 0.5 в E -плоскости составляет 50′, что соответствует времени прохождения источника, находящегося на небесном экваторе ≈ 3.2 мин. Эффективная площадь антенны (управляемая диаграмма) изменялась за время наблюдений [1] от 10 000 до 40 000 м2 .
Для наблюдений в 2002–2006 гг. мы использовали 128-канальный аналоговый многоканальный анализатор спектра АС-128 с шириной полосы каждого канала 20 кГц в общей полосе 2560 кГц с интервалом считывания (временным разрешением) 2.56 мс и временной привязкой к шкале UTC(SU) ≃ 1.4 мкс. Начиная с апреля 2006 г. наблюдения проводятся с использованием 512-канального цифрового пульсарного приемника (ЦПП) с полосой каналов 4.88 кГц в полосе 2500 кГц с интервалом считывания 2.4856 мс. Погрешность временной привязки (определение времени старта накопления и привязки к внешней шкале (GPS(TS)) ≤ 110 нс, что в обоих случаях заведомо превышает необходимую точность временной привязки, требуемой для наблюдений секундных пульсаров в метровом диапазоне длин волн.
Общая длительность одного сеанса наблюдений равнялась 6325 периодам пульсара (≈ 211 с). Мы использовали режим накопления индивидуальных импульсов. В данном режиме за время сеанса наблюдений производится последовательная запись импульсов во всех частотных каналах в виде сканов с продолжительностью равной или кратной периоду пульсара. Длительность каждого скана (и, соответственно, число накапливаемых в каждом скане периодов пульсара) составляла обычно 150 периодов пульсара (≈ 5 с), что много больше наблюдавшейся ширины ГИ δt, определявшегося в основном величиной рассеяния (δt ≃ τ, 4.2 ≤ τ ≤ 119.5 мс). В таком режиме разрыв данных между последовательными сканами («мертвое окно»), длительность которого обусловлена техническими ограничениями, составляет типично величину ≃ 2.5 мс (один дискрет накопителя ЦПП) и не приводит к существенной потере информации о ГИ. Временная привязка каждого из индивидуальных импульсов может быть при необходимости определена добавлением к моменту старта накопления в локальной шкале известного целого числа периодов пульсара. Таким образом, в режиме накопления индивидуальных импульсов сохраняется полная временная и частотная информация о каждом индивидуальном импульсе, возможность привязки его к локальной шкале времени и анализа в частотной области с точностью, ограниченной шириной частотного канала (4.88 или 20 КГц).
3. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ
Первичная обработка данных заключалась в компенсации дисперсионной задержки радиосигнала для всей записи в полосе 2.5 МГц, которая составляла 0.863 с во всей полосе частот. Оставшееся «дисперсионное расплывание» сигнала в одном частотном канале составляло около 1.69 мс для данных ЦПП и около 6.74 мс для АС-128. Далее визуально отбирались импульсы, из данных вычиталось значение, равное среднему значению сигнала вне импульса (приведение к нулю), определялась пиковая плотность потока ГИ, равная его максимуму. Величина отношения сигнал/шум (S/N) оценивалась как отношение пиковой плотности потока ГИ к среднеквадратичному отклонению (СКО) сигнала в шумовой дорожке. Для дальнейшего анализа отбирались только те импульсы, которые имели S/N ≥ 7. Данная процедура приводила к автоматическому вычитанию радоизлучения Крабовидной туманности (которое относилось к постоянной составляющей шума), на фоне которой наблюдался пульсар.
В ходе наблюдений нами фиксировалось за сеанс типично от 5 до ~ 50 хорошо идентифицируемых импульсов (на практике импульс хорошо выделяется визуально на фоне белого фонового шума при S/N ≥ 3), число которых варьировалось как в зависимости от активности самого пульсара в КТ и величины рассеяния, так и от состояния наблюдательной аппаратуры и помеховой обстановки (см. подробнее о статистике ГИ на 111 МГц в работе [16]). Отметим, что, как указывалось рядом авторов ранее, по своим характеристикам (степенное статистическое распределение импульсов по пиковой плотности потока и энергии в импульсе в единицах [кЯн · мкс], а также длительность импульса на высоких частотах, которая много меньше ширины интегрального профиля) практически все индивидуальные импульсы пульсара в КТ могут быть классифицированы как гигантские, иными словами средний импульс пульсара B0531+21 образован гигантскими импульсами (см., напр., результаты наблюдений на частоте 600 МГц на радиотелескопе РТ-64 [20]).
На втором этапе обработки для каждого выбранного импульса вычислялось рассеяние τ путем моделирования рассеянного импульса и последующего уточнения его параметров методом, подробно описанным в работе [21]. Для этой цели полученные на предыдущем этапе наблюденные импульсы нормализовались на единицу по пиковой плотности потока. Далее выполнялось сравнение их с шаблоном f(t), представляющим собой гауссиану f0(t) с шириной, определяемой дисперсионным расширением импульса в полосе частотного канала (см. выше), свернутую с усеченной экспонентой g(t), которая моделирует рассеяние в среде (рассеяние на тонком экране):
(1)
Величины τ варьировались до наилучшего соответствия шаблона с ГИ. Отметим, что часть импульсов (типичное количество таких импульсов составляет около 1/6 ГИ пульсара, см., напр., [6]) имела профиль, существенно отличный от экспоненциального. Такие импульсы исключались на предыдущем этапе обработки в ходе визуального контроля данных. Пример, иллюстрирующий работу алгоритма, приведен на рис. 1. Далее вычислялось среднее значение τ импульсов за временной отрезок длительностью 5–10 дней (объем данных, доступных для обработки в каждый фиксированный временной отрезок, определялся графиком наблюдений на антенне БСА). Всего за время наблюдений было получено 1280 таких осредненных значений.
Рис. 1. ГИ в Крабовидной туманности, полученный на БСА и ЦПП 26/07/2024, приведенный к частоте 111.879 МГц. На рисунке показан наблюдавшийся ГИ (круги) и вписанная в него функция, полученная по формуле (1), моделирующая импульс с τ = 17.48 мс, рассеянный в полосе частотного канала 2.4576 кГц (сплошная красная линия). По оси абсцисс отложено время в миллисекундах, по оси ординат — нормированная плотность потока.
Полученные значения рассеяния ГИ τ сопоставлялись с вариациями меры дисперсии по оперативным данным мониторинга DM, публикуемого обсерваторией Джодрелл Бэнк (Великобритания) [2]. Зависимости τ и DM от времени приведены на рис. 2.
Рис. 2. Изменение рассеяния τ и меры дисперсии DM пульсара в КТ на частоте 111 МГц в период 2002–2024 гг. По оси абсцисс отложена эпоха наблюдения в модифицированных юлианских днях, по оси ординат отложено рассеяние τ [мс] (левая ось, треугольники) и условная мера дисперсии dm = (DM – 56.7) × 103 [0.001 пк/см3 ] (правая ось, круги). Вертикальными штриховыми линиями обозначены моменты перехода между различными ветвям на графике зависимости τ от DM (см. далее рис. 3 и табл. 1), соответствующие переходу от спокойного к возмущенному режиму в вариациях значений τ и DM в MJD 55203, и обратному переходу в MJD 59375. Отметим, также, что моменты перехода близки к локальным максимумам τ и, в случае первого перехода, также к максимуму DM .
Вариации рассеяния значительно превышают ошибки измерения, которые сопоставимы с размерами символов на рисунке. Минимальное рассеяние на частоте 111 МГц наблюдалось в MJD 53476 (16/04/2005) и составляло 4.2 мс. Отметим, что эта величина близка к ранее сделанной оценке величины постоянной (минимальной) составляющей τ, равной 4.1 мс и связываемой с невозмущенной межзвездной средой [3]. Максимальное рассеяние было зафиксировано в MJD 56358 (07/03/2013) и достигало 119.5 мс. В конце 2019 – начале 2020 г. рассеяние стабилизировалось на уровне ~ 20 мс, но в ноябре 2020 г. поднялось до ~ 70 мс. В начале 2023 г. рассеяние вновь упало до значения ~ 10 мс. Максимальное значение DM = 56.8560 в использованных нами данных было зафиксировано в MJD 55275 (20/03/2010), минимальная DM = 56.7186 в MJD 60010 (07/03/2023).
Сопоставим результаты анализа параметра рассеяния ГИ на 111 МГц по наблюдениям на БСА с вариациями меры дисперсии по данным обсерватории Джодрелл Бэнк. Мы принимаем за постоянную составляющую меры дисперсии для пульсара в КТ, связанную в основном с межзвездной средой, минимальную величину DM за время наблюдений, равную ≈ 56.7 пк/см3, при этом, то, что превышает эту величину и меняется со временем, мы относим к самой КТ. Введем для удобства величину dm = (DM − 56.7) × 103 [0.001 пк/см3], характеризующую переменную часть δDM, далее называемую условной мерой дисперсии. Рассеяние τ зависит от относительной неоднородности среды ∆ne/ne и меры дисперсии DM при заданной частоте (см. ф-лу (4) в Приложении).
В пределах Крабовидной туманности параметр ∆ne/ne подвержен значительным локальным изменениям, поэтому в общем случае вариации параметра δτ зависят не только от вариаций меры дисперсии δDM, но и от вариаций локальной неоднородности плазмы δ(∆ne/ne) (см. ф-лу (8) в Приложении).
Зависимость между рассеянием и мерой дисперсии исследовали ранее Исаакмен и Ранкин [4]. По их мнению, степень рассеяния плохо коррелировала с мерой дисперсии. На неоднозначную зависимость между мерой дисперсии и рассеянием указал также Манчестер в работе [22], посвященной многолучевому обзору плоскости Галактики с помощью 64-метрового радиотелескопа в Парксе (Австралия) на частоте 1374 МГц. В результате указанного обзора были обнаружены пульсары с близкими периодами и мерами дисперсий, но различными величинами рассеяния. Автор объясняет это обстоятельство вариациями спектра турбулентности или флуктуациями электронной плотности в Галактике.
Мы исследовали статистическую зависимость рассеяния τ (в миллиcекундах) на частоте 111 МГц от условной меры дисперсии dm по данным измерений за весь период 2002–2024 г. Результат приведен на рис. 3.
Рис. 3. Статистическая зависимость рассеяния τ (в миллиcекундах) на частоте 111 МГц от условной меры дисперсии dm = (DM – 56.7) × 103 [0.001 пк/см3] пульсара в КТ в период сентябрь 2002–январь 2024 гг. Основные ветви зависимости (см. легенду): нижняя (1), две верхние (2, 3) и переходная ветвь (4).
Как можно видеть, зависимость имеет довольно сложный характер, более тщательный анализ ее хода в плоскости {τ,dm} в зависимости от времени (построение «эволюционного трека») позволяет выделить 14 групп данных, образующих 3 основных (1, 2, 3) и одну переходную (4) ветви на рис. 3, которые могут быть аппроксимированы степенными функциями. Ветви 1 и 2 не следуют одна за другой в хронологическом порядке, каждая из них образована различающимися по времени группами, переход между которыми (кроме одного случая) происходит через 4-ю, переходную, ветвь. Последняя в хронологическом порядке (3-я) ветвь однородна. Последовательность групп данных по времени и их распределение по ветвям 1–4 приведена в табл. 1. Ветви, выделяемые на рис. 3, достаточно хорошо аппроксимируются степенными функциями (на графике τ от dm в логарифмической шкале они представлены отрезками прямых), значения которых приведены в табл. 2.
Таблица1. Распределение групп ГИ на плоскости {dm, τ}
1 | 2 | 3 | 4 | Дата |
52353 | 18/09/02 | |||
55203 | 07/01/10 | |||
56653 | 27/12/13 | |||
56793 | 16/05/14 | |||
56953 | 23/10/14 | |||
57500 | 22/04/16 | |||
57670 | 09/10/16 | |||
57980 | 15/08/17 | |||
58285 | 16/06/18 | |||
58530 | 16/02/19 | |||
58610 | 07/05/19 | |||
58915 | 07/03/20 | |||
59000 | 31/05/20 | |||
59375 | 10/06/21 | |||
60320 | 11/01/24 |
Примечание. Номера столбцов 1–4 соответствуют номерам ветвей на рис. 3, в каждом столбце указан MJD первого дня группы (последний день группы принят равным дню начала следующей группы). В 5-м столбце дана дата в формате дд/мм/гг. В последней строке указаны MJD и дата окончания последней группы данных (последних наблюдений).
Таблица 2. Аппроксимирующие функции для выделенных групп ГИ в пространстве { τ , dm }
N | Зависимость { τ , dm } | Коэффициент корреляции |
1 | lg(τ) = –2.06(7) + 1.86(4)lg(dm) | 0.90(1) |
2 | lg(τ) = 0.50(6) + 0.70(3)lg(dm) | 0.73(1) |
3 | lg(τ) = –0.2(1) + 1.1(1)lg(dm) | 0.73(2) |
4 | lg(τ) = –2.3(3) + 2.1(2)lg(dm) | 0.80(1) |
Примечание. В первом столбце даны номера ветвей согласно рис. 3, во втором столбце — аппроксимирующая соответствующую ветвь функция. В 3-м столбце — коэффициент корреляции между τ и dm. В круглых скобках даны ошибки последнего знака.
Мы рассчитали коэффициент корреляции между τ и dm, приведенный в 3 столбце табл. 2, который сохраняет довольно высокое значение на всем протяжении и для всех отрезков (ветвей) наблюдений, и существенно превосходит значение 0.56 ± 0.01, приведенное ранее в работе [6] для данных, наблюдавшихся на частоте 610 МГц в 2008–2014 гг. Отметим, тем не менее, что коэффициенты корреляции имеют наименьшее значения для ветвей 2 и 3, соответствующих периоду наибольшего возмущения среды КТ.
Отметим также, что наблюдаемое в период 2020–2024 гг. увеличение рассеяния τ характеризуется довольно низким абсолютным значением DM. Это отчасти объясняется ростом турбулентности, связанной с увеличением амплитуды флуктуаций рассеяния в туманности. Это предположение подтверждается измерением пиковой плотности потока импульсов пульсара. Несмотря на то, что к концу периода наблюдений мера дисперсии упала до минимальных значений за весь период наблюдений (минимум DM достигается в MJD 60010), заметного роста пиковой плотности потока импульсов пульсара до значений, сравнимых с теми, что имелись до начала 2010 г. (первый отрезок данных на рис. 2 и, соответственно, первая ветвь графика на рис. 3) не наблюдается, т. к. сохранение высокого значения турбулентности приводит к увеличению рассеяния и, как результат, к уменьшению интенсивности. Учитывая отсутствие (по литературным данным) наблюдаемой активности КТ в 2020–2024 гг., можно предположить, что последний наблюдаемый локальный максимум рассеяния вызван нестационарными процессами в межзвездной среде на пути распространения сигнала от пульсара, а точнее, в рукавах Персея или Ориона [3], где идут активные процессы звездообразования.
Нами также была оценена величина частотной зависимости рассеяния τ (ν) ∝ ν−β по нашим данным на 111 МГц и перекрывающимися с ними по времени опубликованным ранее данным на 610 МГц [6]. В период наибольшей активности КТ в MJD 55000–56500 коэффициент частотной зависимости составлял β = 3.4 ± 0.2. Ранее в работе [23] была измерена частотная зависимость τ ГИ в диапазоне 40–2228 МГц и получено значение β = 3.8 ± 0.2. Также в работе [14] на частотах 600, 111 и 23 МГц было получено значение β = 3.5 ± 0.1, которое согласуется с определенным нами в пределах ошибок. Отметим, что полученные во всех трех работах оценки не согласуются ни с показателем β = 4.4 для колмогоровского спектра пространственных неоднородностей, ни с β = 4 для нормального спектра.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе были исследованы долговременные вариации рассеяния τ и меры дисперсии DM от пульсара в КТ на основании наблюдений, проведенных в Пущинской радиоастрономической обсерватории на радиотелескопе БСА ФИАН на частоте 111 МГц в течении 2002–2024 гг.
Было показано, что начиная с 2010 г. начинается период, в котором τ и DM демонстрируют существенный абсолютный рост и быстрые коррелированные изменения, сменяя спокойный период, продолжавшийся в 1999–2009 гг., в котором значения этих параметров сохраняли низкие и мало изменяющиеся значения. Отметим, что ранее подобные периоды активности наблюдались в КТ в 1984–1986, 1991–1994, 1995–1999 гг. (см., напр., [6]). При этом в 2010–2023 гг. функциональная связь (степенная зависимость) τ от условной меры дисперсии dm претерпевала существенные изменения, а данные формируют за все время наблюдения три основные и одну переходную ветви на плоскости {τ,dm }, образованные 14-ю, вообще говоря, не следующими друг за другом отрезками данных. Эти ветви хорошо аппроксимируются степенными функциями с показателями степени при dm , равными 0.7, 1.1 и 1.86 для основных и 2.1 для переходной ветвей (см. рис. 3). Это отображает факт последовательного прохождения за время наблюдений через луч зрения между пульсаром и радиотелескопом нескольких различных участков возмущенной плазмы со схожими физическими характеристиками, с наибольшей вероятностью ассоциируемых с самой КТ, хотя в период 2020–2023 гг. не исключается и относительный рост влияния на поведение τ и DM межзвездной среды в рукавах Персея и Ориона.
Проведенная нами оценка коэффициента частотной зависимости рассеяния β = 3.4 ± 0.2 в период наибольшей активности КТ дала значения, согласующиеся с ранее полученными в работе [14] и близкие к полученным в статье [23], но существенно отличающиеся как от колмогоровского, так и от нормального спектра пространственных неоднородностей.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы благодарят коллектив технического отдела радиотелескопов ПРАО АКЦ ФИАН и лично В. В. Орешко, К. А. Лапаева и С. В. Логвиненко, обеспечивших возможность практически ежедневного монторинга пульсара в КТ на протяжении более 20 лет, что послужило экспериментальной основой данной работы.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Радиоизлучение в межзвездной среде распространяется с групповой скоростью Vg. В ионизованной среде скорость распространения Vg зависит от круговой частоты радиоизлучения
(2)
где с — скорость света, ωp = 4πnee2/m — плазменная частота. ne — плотность электронов, e и m — заряд и масса электрона [24]. Из формулы (2) видно, что в плазме скорость распространения волны меньше скорости света и увеличивается с ростом частоты, т. е. низкочастотные радиосигналы запаздывают по сравнению с более высокочастотными (т. н. дисперсионное запаздывание).
Радиоволны при своем распространении рассеиваются на неоднородностях межзвездной плазмы. Процессы рассеяния вызывают угловое расширение источника радиоизлучения и временное растяжение импульсного сигнала τ. Для нормального распределения неоднородностей Гаусса получаем:
, (3)
где ν — частота, ∆ne — флуктуации плотности электронов и l — расстояние, которое импульсный радиосигнал проходит в неоднородной плазме.
Количество электронов в столбе по направлению к источнику DM = ∫ne dl называется мерой дисперсии и выражается в единицах [пс/см3 ]. Полагая, DM = nel, где ne — средняя плотность электронов, получим:
(4)
В общем случае τ ∝ ν-β, где β — спектральный индекс.
Спектр неоднородностей плазмы выражается формулой
(5)
где — коэффициент турбулентности, — пространственная частота, a — характерный размер неоднородностей, α — спектральный индекс [2]. Для нормального спектра неоднородностей α = 4, а для Колмогоровского спектра неоднородностей α = 11/4.
Между спектральными индексами и имеет место зависимость [26]:
(6)
что дает β = 4 и β = 4.4 для нормального и Колмогоровского спектра неоднородностей соответственно.
Коэффициент турбулентности в случае нормального распределения неоднородностей Гаусса пропорционален рассеянию и равен [27]:
(7)
где τ дано в миллисекундах, d — в килопарсеках, ν — в ГГц.
В пределах Крабовидной туманности параметр ∆ne /ne подвержен локальным изменениям, поэтому вариации параметра τ зависят не только от меры дисперсии DM, но и от относительной неоднородности плазмы ∆ne /ne. Варьируя уравнение (4), получим для малых изменения DM, ∆ne /ne:
(8)
где .
1 https://www.prao.ru/radiotelescopes/in_list_BSA.html
2 http://www.jb.man.ac.uk/pulsar/crab/crab2.txt
About the authors
B. Ya. Losovsky
Lebedev Physical Institute of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: blos@prao.ru
Pushchino Radio Astronomy Observatory, Astro Space Center
Russian Federation, PushchinoV. A. Potapov
Lebedev Physical Institute of Russian Academy of Sciences
Email: potap@prao.ru
Pushchino Radio Astronomy Observatory, Astro Space Center
Russian Federation, PushchinoReferences
- D. H. Staelin and E. C. Reifenstein, Science 162(3861), 1481 (1968).
- A. G. Lyne and F. Graham-Smith, Pulsar Astronomy (Cambridge University Press, 2006), p. 247.
- J. M. Rankin and C. C. Counselman, Astrophys. J. 181, 875 (1973).
- R. Isaacman and J. M. Rankin, Astrophys. J. 214(1), 214 (1977).
- I. P. Williamson, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 166, 499 (1974).
- J. W. McKee, A. G. Lyne, B. W. Stappers, C. G. Bassa, and C. A. Jordan, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 479(3), 4216 (2018).
- А. А. Ершов, Письма в Астрон. журн. 47(9), 657 (2021).
- A. G. Lyne and D. J. Thorne, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 172, 97 (1975).
- A. A. Kuz'min, B. Ya. Losovsky, C. A. Jordan, and F. G. Smith, Astron. and Astrophys. 483(1), 13 (2008).
- A. G. Rudnitskii, M. V. Popov, and V. A. Soglasnov, Astron. Rep. 61(5), 393 (2017).
- S. W. Ellingson, T. E. Clarke, J. Craig, B. C. Hicks, T. J. W. La zio, G. B. Taylor, T. L. Wilson, and C. N. Wolfe, 768(2), Astrophys. J. 136 (2013).
- T. Eftekhari, K. Stovall, J. Dowell, F. K. Schinzel, and G. B. Taylor, 829(2), Astrophys. J. 62 (2016).
- R. Karuppusamy, B. W. Stappers, and K. J. Lee, Astron. and Astrophys. 538, id. A7 (2012).
- М. В. Попов, А. Д. Кузьмин, О. М. Ульянов, А. А. Дешпанде, и др., Астрон. журн. 83(7), 630 (2006).
- А. Д. Кузьмин, Ю. А. Беляцкий, Д. В. Думский, В. А. Извекова, К. А. Лапаев, С. В. Логвиненко, Б. Я. Лосовский, В. Д. Пугачев, Астрон. журн. 88, 454 (2011).
- A . N. Kazantsev, V. A. Potapov, M. S. Pshirkov, and B. Ya. Lo sovskii, arXiv:1905.05261 [astro-ph.HE] (2019).
- Б. Я. Лосовский, Д. В. Думский, Ю. А. Беляцкий, Астрон. журн. 96(10), 815 (2019).
- B. Ya. Losovsky, Intern. J. Astron. and Astrophys. 11(4), 470 (2021).
- Т. В. Смирнова и С. В. Логвиненко, Астрон. журн. 86(4), 370 (2009).
- M. Popov, V. Soglasnov, V. Kondratiev, A. Bilous, et al. , Publ. Astron. Soc. Japan 61(6), 1197 (2009).
- A. D. Kuz'min and V. A. Izvekova, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 360, 726 (1993).
- R. N. Manchester, Astrophys. Space Sci. 278(1/2), 33 (2001) .
- A. D. Kuzmin, V. I. Kondrat'ev, S. V. Kostyuk, B. Ya. Losovsky, M. V. Popov, V. A. Soglasnov, N. D'Amico, and S. Montebugnoly, Astron. Letters 28(4), 251 (2002).
- В. Л. Гинзбург, Теоретическая физика и астрофизика (М.: Наука, 1981).
- Р. Манчестер и Дж. Тейлор, Пульсары (М.: Мир, 1980).
- O. Löhmer, M. Kramer, D. Mitra, D. R. Lorimer, and A. G. Lyne, Astrophys. J. 562(2), L157 (2001).
- J. M. Cordes, J. M. Weisberg, and V. Boriakoff, Astrophys. J. 288, 221 (1985).
Supplementary files