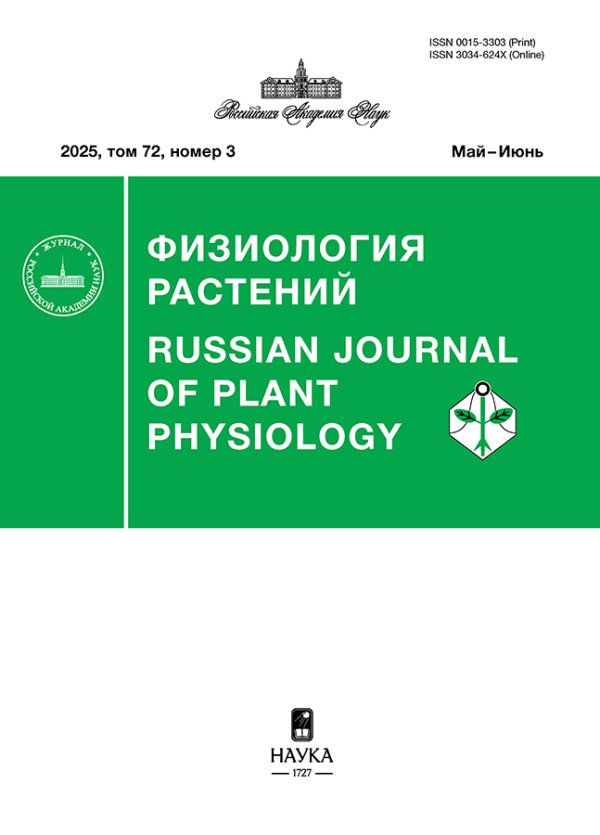Рекомбинантные моноклональные антитела, синтезируемые в растительных системах экспрессии: проблемы и перспективы
- Authors: Загорская А.А.1, Дейнеко Е.В.1
-
Affiliations:
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук”
- Issue: Vol 71, No 5 (2024): Генетическая инженерия растений – достижения и перспективы
- Pages: 520-537
- Section: ОБЗОРЫ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0015-3303/article/view/269459
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0015330324050037
- EDN: https://elibrary.ru/MNAFWV
- ID: 269459
Cite item
Full Text
Abstract
В последнее десятилетие широкое распространение получили моноклональные антитела (МКА) в качестве диагностических и терапевтических препаратов. Их основное преимущество заключается в высокой специфичности, низкой токсичности и, соответственно, более высокой безопасности при лечении инфекционных и онкологических заболеваний. Широкие возможности использования МКА привели к активной разработке технологий их производства. В обзоре описываются преимущества растительных систем для наработки МКА по сравнению с традиционными системами экспрессии. Особое внимание уделяется исследованиям, направленным на увеличение уровня экспрессии рекомбинантных МКА, приближение профиля гликозилирования к белкам человека, а также на отработку технологических особенностей, позволяющих добиться конкурентоспособности МКА растительного происхождения. Отдельный раздел посвящен успехам, достигнутым в этой области. В заключительной части рассмотрены перспективы исследований, связанные с получением МКА растительного происхождения с улучшенными свойствами.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ1
Моноклональные антитела (МКА) представляют собой белки, близкие по структуре к иммуноглобулинам – белкам крови, участвующим в защите организма от инфекционных заболеваний. Препараты на основе МКА являются наиболее дорогостоящими, высокотехнологичными и перспективными лекарственными средствами. По данным аналитической компании Fortune Business Insights, ожидается, что к 2028 г. объем рынка терапии МКА достигнет 451.89 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 14.1% в период 2021–2028 гг. (https://www.fortunebusinessinsights.com/monoclonal-antibody-therapy-market-102734) [1]. В основном МКА применяются для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, часто в комбинации со стандартным лечением для повышения его эффективности. Основное их преимущество заключается в низкой токсичности и, соответственно, более высокой безопасности применения. Российский рынок лекарственных препаратов на основе МКА интенсивно развивается, однако на 90% представлен импортными препаратами (например, Герцептин, Авастин, Мабтера производства La Roche, Франция).
Несмотря на значительный прогресс в получении МКА в растительных системах в последние годы, их мировое промышленное производство все еще находится в зачаточном состоянии. Потенциальная коммерциализация требует дальнейшей оптимизации производственных платформ, увеличения выхода продукции и улучшения последующей обработки для повышения конкурентоспособности по сравнению с другими системами [2].
Нормативные аспекты являются еще одним важным вопросом, поскольку рекомбинантные белки, полученные из растений, называются “биоаналогами”, т.е. они отличаются от исходного фармацевтического продукта с точки зрения организма-хозяина и процесса производства [3]. Следовательно, требуются дополнительные клинические исследования для рассмотрения некоторых конкретных аспектов, таких как иммуногенность, возникающая из-за присутствия белков из растения-хозяина в очищенных продуктах. Гликоинженерия клеточного аппарата растительного типа может обеспечить гуманизацию антител и таким образом снизить возможные иммуногенные ответы. Последние достижения в инструментах редактирования генома, таких как ZFN, TALEN или система CRISPR/Cas [4], позволили разработать методы наработки МКА растительного происхождения с улучшенными физико-химическими, фармакокинетическими и фармакодинамическими свойствами, получившие название “биобеттеры” (англ. biobetters) [5]. Целью данного обзора является анализ особенностей, проблем и преимуществ рекомбинатных МКА, синтезируемых в растительных системах. Будут рассмотрены практические успехи в этой области и пути их достижения.
СТРУКТУРА МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ
Антитела – это гликопротеины, продуцируемые иммунной системой человека и других позвоночных. Они эффективно распознают и связывают антигены-мишени, к которым имеют сродство и специфичность. Эта способность делает антитела чрезвычайно полезными в биологических исследованиях, клинической диагностике, а также в иммунотерапии различных заболеваний, в том числе онкологических [6].
Антитела состоят из 4 субъединиц: двух идентичных легких (L) и двух идентичных тяжелых цепей (H), соединенных дисульфидными связями (рис. 1). Каждая из этих цепей имеет константные домены с постоянной структурой (CL и CH) и вариабельные домены, имеющие специфическое строение в зависимости от особенностей антигена (VL и VH). Вариабельные и константные домены предназначены для связывания антител со специфическими антигенами, предотвращения проникновения патогенов и их токсинов в клетки. Эти домены также участвуют в привлечении различных иммунных молекул и клеток для нарушения функций антигена и уничтожения опухолевых клеток или патогенов. Антитела расщепляются протеиназой папаином на два Fab-фрагмента и один Fc-фрагмент. Оба Fab-фрагмента (англ. antigen binding fragment — антигенсвязывающий фрагмент) состоят соответственно из одной L-цепи и N-концевой части H-цепи. Изолированные Fab-фрагменты сохраняют способность связывать антиген. Fс-фрагмент (англ. fragment crystallizable — способный кристаллизоваться) состоит из С-концевой половины обеих H-цепей. Fc-области несут высококонсервативный сайт N-гликозилирования, который необходим для активности, опосредованной Fc-рецептором [7]. В каждой молекуле иммуноглобулина существует, по крайней мере, два идентичных антигенсвязывающих центра. Эта бивалентность позволяет антителам перекрестно связывать антигены с двумя или более антигенными детерминантами. Подвижность плеч молекулы дает ей возможность связываться одновременно с антигенными детерминантами, находящимися на разных расстояниях. Наличие шарнирной области в тяжелой цепи обеспечивает конформационную гибкость молекулы иммуноглобулина, позволяя обоим антигенсвязывающим центрам действовать независимо друг от друга при взаимодействии с антигенными детерминантами.
Рис. 1. Структура IgG: CH, СL – домены концевых аминокислотных последовательностей константных цепей; VH, VL – домены концевых аминокислотных последовательностей вариабельных цепей; Fab-фрагмент – антигенсвязывающий фрагмент; Fc – кристаллизующийся фрагмент.
Антитела подразделяются на пять групп в соответствии с их структурой, физико-химическими и иммунологическими свойствами: IgM, IgG, IgA, IgD и IgE. Антитела этих пяти групп имеют различные Fc-области, а некоторые – более сложную, чем описанная выше, структуру. Для терапии, главным образом, используют IgG. Группы антител IgA и IgM играют важную роль в защите слизистых оболочек желудочно-кишечного, мочеполового и дыхательного путей, а также присутствуют в слезной жидкости, слюне и молоке [8]. Растущие знания об антителах IgA и IgM открывают возможность их использования в качестве потенциальных биотерапевтических, иммунотерапевтических средств, а также для вакцинации через слизистые оболочки [9]. Помимо полноразмерных антител, в экспрессионных системах нарабатываются и более мелкие их фрагменты, способные связываться с антигеном, например, разнообразные одноцепочечные фрагменты scFv (англ. single-chain variable fragment), состоящие из вариабельных доменов тяжелых и легких цепей IgG и IgM, подобных человеческому VH-домену, а также мультимерные scFv – диатела, триатела и тетратела [10].
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ В РАСТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Исследования растительных вирусов, проведенные в Институте Макса Планка в Кельне в начале 1980 гг., вдохновили F. Kreuzaler на разработку концепции устойчивости растений к болезням посредством экспрессии специфических для патогенов антител. Поначалу сборка в растительной клетке полноразмерного антитела, состоящего из двух тяжелых и двух легких цепей, представлялась маловероятной в отсутствие шаперонов млекопитающих. Однако Kreuzaler с соавт. [11] провели эксперименты на модельном объекте Acetabularia mediterranea (A. acetabulum по современной классификации) и подтвердили образование полноразмерного антитела после инъекции в ядра A. mediterranea кДНК, кодирующих тяжелую и легкие цепи мышиного IgM. Из генов, кодирующих антитела, они удалили последовательности, кодирующие N-концевой сигнальный пептид, обеспечивающий заякоривание пептида в эндоплазматическом ретикулуме, чтобы позволить рекомбинантным белкам накапливаться в цитозоле. Образование в клетке собранного антитела подтвердили с использованием антиидиотопного антитела, которое специфически связывается с собранной целой молекулой иммуноглобулина, но не с тяжелой и легкой цепями отдельно. Эта новаторская работа впервые продемонстрировала, что растительные клетки обладают способностью продуцировать сложные мультимерные белки млекопитающих [11]. В дальнейшем функциональное полноразмерное антитело IgG1 мыши было получено в трансгенных растениях табака [12]. Первоначальные успехи способствовали развитию дальнейших исследований по разработке производственных платформ, основанных на различных видах растений, целых растениях, тканевых и клеточных культурах, а также стратегиях экспрессии, включая стабильную и транзиентную [13]. Несмотря на интерес со стороны фармацевтических компаний, лишь немногие из этих исследований способствовали получению коммерческих продуктов, однако использование растений для производства МКА по-прежнему представляется весьма перспективным.
Детально охарактеризованная структура МКА и молекулярные механизмы, лежащие в основе их огромного разнообразия, позволяют разрабатывать технологии получения рекомбинантных антител для применения в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. В отличие от других рекомбинантных белков, продукция МКА требует одновременной экспрессии двух генов, кодирующих легкие и тяжелые цепи, и правильной сборки всех четырех цепей с помощью дисульфидных связей. Из-за автономной экспрессии существовали трудности в контроле относительного уровня экспрессии этих генов даже при условии использования идентичных регуляторных элементов [14]. Вариабельность в соотношении легких и тяжелых цепей затрудняет сборку функциональных МКА и влияет на уровень их синтеза и функциональность [15]. Разработаны несколько приемов выравнивания экспрессии двух или более трансгенов в одном и том же трансгенном растении. Для этого использовали скрещивание половым путем растений, каждое из которых несет разные трансгены [16], котрансформацию трансгенов одновременно или последовательно [17] и инсерцию тандемного массива из нескольких трансгенов, каждый со своим собственным промотором и терминатором в одном и том же векторе экспрессии [18, 19]. Общим недостатком этих стратегий является большой разброс уровней экспрессии разных трансгенов. Для преодоления этой проблемы была предложена экспрессия нескольких трансгенов под контролем одного промотора. Для соединения трансгенов были адаптированы несколько линкеров (в основном вирусного происхождения), таких как чувствительная к протеазе линкерная последовательность [20], последовательность внутреннего сайта входа в рибосомы (IRES) [21], последовательность, кодирующая NIa протеазу [22], и наиболее популярный в настоящее время саморасщепляющийся пептид 2А (F2A) из вируса ящура [23]. Предполагалось, что наличие дополнительных 18–21 аминокислот [24] в последовательности целевых белков могут нарушить их фолдинг и посттрансляционную модификацию [25]. Однако Chen с соавт. [26] показали, что при использовании линкера 2А осуществляется синтез биоактивных МКА бевацизумаба в трансгенном каллусе риса. Результаты Lin [23] демонстрируют, что линкер 2A, связывающий мультицистронные последовательности, стабильно наследуется при половом размножении, обеспечивая ожидаемо более высокий выход рекомбинантного белка в гомозиготных генерациях.
СУБКЛЕТОЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ
Субклеточная локализация оказывает значительное влияние на структуру, стабильность и выход рекомбинантных белков, экспрессируемых в растениях. В частности, при изучении локализации рекомбинантного LTB (термолабильный энтеротоксин B E. coli) в клетках кукурузы [27] продемонстрирована необходимость определения внутриклеточной локализации рекомбинантных белков. Это особенно важно для мультимерных белков, таких как МКА, которые для построения нативной конформации должны сначала сформировать трехмерную структуру, а затем собраться в комплексы. Стратегия, широко используемая при синтезе рекомбинантных МКА, заключается в их транспорте в эндоплазматический ретикулум (ЭПР), в котором локализовано большое количество молекулярных шаперонов. В ЭПР белки сворачиваются и собираются в мультимерные комплексы. Транспорт осуществляется с помощью транзитных сигнальных пептидов. В некоторых случаях сигналы содержат короткие общие пептидные метки, такие как KDEL и HDEL, связывающиеся со специфическими рецепторами и обеспечивающие заякоривание белков в ЭПР [28]. Удерживание в ЭПР обычно позволяет увеличить накопление МКА, а также предотвращает их гликозилирование по растительному типу, которое может вызывать иммунный ответ при использовании МКА парентерально. С другой стороны, МКА, удерживаемые в ЭПР, имеют высокое содержание маннозы, что также нежелательно с фармакинетической точки зрения.
Известно, что в отсутствии каких-либо дополнительных сигналов о сортировке, белки из ЭПР по умолчанию секретируются в апопласт [29]. Однако если белок содержит специфический сигнал, то он может быть направлен в альтернативные внутриклеточные компартменты, например, вакуоль. При изучении синтеза sIgA/G в растительных клетках установили, что секреция этого рекомбинантного антитела была медленной, и спустя 24 ч из клетки секретировалось лишь 10% вновь синтезированных молекул иммуноглобулинов. При этом основная часть sIgA/G и продукты его распада транспортировались в вакуоли [30]. Исследование механизма доставки и накопления sIgA/G в вакуолях обнаружило, что удаление 18 С-терминальных аминокислот тяжелой цепи IgA/G-комплекса приводило к нарушению транспорта его в вакуоли. В “разобранном” виде легкая цепь эффективно транспортировалась из клетки в виде мономеров. Таким образом, был сделан вывод о локализации сигнала сортинга в вакуоль в хвостовой части гибридной γ/α цепи [31]. Зависимость внутриклеточного транспорта от конформации белка, олигомерного состояния и структуры любых присоединенных углеводов показана в работе Ellgaard с соавт. [32].
Субклеточную локализацию гетеромультимерных белковых комплексов и секреторного IgAGuy’s 13 изучали в клетках эндосперма трансгенного риса [33]. Показано, что не связанные в ансамбли тяжелые и легкие цепи аккумулируются в виде белковых телец в ЭПР или в белок-запасающих вакуолях, где их содержание значительно варьирует. МКА, имеющие правильный фолдинг, преимущественно накапливаются в белок-запасающих вакуолях.
Хлоропласты привлекают внимание исследователей как компартменты с альтернативной системой окислительных реакций для образования дисульфидных связей и приобретения правильной структуры сложных МКА. Кроме того, рекомбинантные МКА инкапсулируются мембранами хлоропластов и эффективно изолируются от цитозольных протеаз, которые более распространены и разнообразны, чем те, которые обнаружены в хлоропластах. Белки, которые кодируются ядром, синтезируются в цитозоле и должны быть локализованы в хлоропластах, содержат транзитные пептиды, состоящие из последовательных сигналов для входа в систему импорта TIC/TOC внешней двойной мембраны хлоропласта и сигнал нацеливания на тилакоиды или строму. В работе Chin-Fatt с соавт. [34] разработана стратегия инкапсулирования IgA в хлоропластах кормовых растений как часть рецептуры корма, предназначенного для пассивной иммунизации скота против энтеротоксигенной E. coli. Показано, что направление рекомбинантных МКА в просвет тилакоидов может оказаться перспективной стратегией не только для повышения выхода рекомбинантных белков, но и способствовать альтернативным методам очистки. Неповрежденные хлоропласты можно легко выделить из неочищенных экстрактов с помощью низкоскоростного центрифугирования [35].
Синтез МКА непосредственно в хлоропластах имеет некоторые преимущества: это отсутствие эффекта положения, отсутствие замолкания генов, высокий уровень накопления продукта, а также минимизация экологических рисков при использовании целых трансгенных растений. В хлоропластах рекомбинантные антитела приобретают правильную конформацию с образованием дисульфидных связей. Однако ограниченность посттранскрипционных модификаций не позволяет использовать хлоропласты для синтеза большей части МКА. В настоящее время разработана экспрессия в хлоропластах моноклональных больших одноцепочечных (lsc) антител против гликопротеина D вируса простого герпеса [36]. Транспластомная трансформация растений представляется многообещающей возможностью накопления рекомбинантных иммунотоксинов (РИТ) в компартменте, который отделяет продукт от потенциальных молекулярных мишеней. Однако этот способ получения связан с ограниченными посттрансляционными модификациями и более трудоемким процессом создания транспластомных линий растений [37].
ЗНАЧЕНИЕ ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ И ВОЗМОЖНОСТИ ГЛИКОИНЖЕНЕРИИ РАСТЕНИЙ
Особенности гликозилирования белка могут влиять на его фолдинг, агрегацию, устойчивость к протеолитической деградации, растворимость, транспорт, а также изменять его функциональную активность и иммуногенность. В настоящее время терапевтические МКА обычно получают в клеточных системах млекопитающих, которые генерируют смесь примерно 5–9 различных гликоформ [38]. Учитывая факт, что отдельные гликоформы имеют различную функциональную активность, такая смесь потенциально может содержать молекулы антител с ограниченной активностью или без нее. Однако если доля гипогликозилированных антител в препаратах, произведенных в HEK-системе (Human Embryonic Kidney 293), довольно низка, то при производстве в растительной системе она может достигать 21–35%. В связи с этим требуется тщательный анализ профиля гликозилирования МКА для терапевтического использования.
Влияние определенного профиля гликозилирования на связывающую активность рекомбинантных антител анализировали в работе Stelter с соавт. [39]. VRC01, нейтрализующее антитело к ВИЧ, было экспрессировано в растениях в различных форматах гликозилирования. Установлено, что при гликозилировании по растительному типу антитела имели 30-кратное снижение аффинности с рецептором FcγRI по сравнению с аналогичными антителами, произведенными в клеточной культуре HEK. Удаление Fc-гликанов путем мутагенеза привело к полному нарушению связывания. Однако инженерия растительных гликанов с удалением коровой фукозы и ксилозы существенно улучшила аффинность антител растительного происхождения и восстановила связываемость с соответствующими рецепторами (FcγRIIa и FcγRIIb). Влияние удаления фукозы на связываемость с рецепторами антител, синтезированных в растительных системах или в системах клеток млекопитающих, наблюдалось и ранее и является, вероятно, результатом стерического изменения в гликанах в сайте связывания с рецепторами. Добавление концевых остатков β-1,4-галактозы к антителам с удаленными остатками фукозы и ксилозы не привело к дальнейшему улучшению их взаимодействия с рецепторами.
Известно также, что гликопротеины, продуцируемые другими организмами, могут действовать как эпитопы в организме человека и приводить к нежелательным иммунным реакциям [40]. Гликоинженерные подходы к настройке профилей гликозилирования предоставляют возможность минимизировать иммуногенный потенциал гликопротеинов, в частности МКА, растительного происхождения. В настоящее время основные усилия в гликоинженерии растений сосредоточены на сочетании приемов, обеспечивающих ингибирование биосинтеза растительных гликоэпитопов с последующим переносом в растительный геном генов гликозилтрансфераз млекопитающих. Это дает возможность максимально приблизить процесс гликозилирования рекомбинантных белков, синтезируемых в растительных системах экспрессии, к процессам, происходящим в клетках человека.
Попытки выделить одну гликоформу из гетерогенной смеси гликовариантов с помощью аффинной хроматографии имели ограниченный успех [41], а очистка одной гликоформы в настоящее время вообще не осуществима [42]. Для снижения гетерогенности гликозилирования МКА разрабатываются различные подходы, включая использование гликан-модифицирующих ферментов in vitro [43] и генетическую модификацию [44]. Растения представляют собой привлекательное решение для производства высокогомогенных МКА с определенным статусом гликозилирования [45]. Гликоинженерная линия растений обычно производит весьма однородные гликоформы [46]. Антитела VRC01, генерируемые в ΔXF Nicotiana benthamiana, синтезировались в виде единственной гликоформы. Как правило, инактивация эндогенных гликозилтрансфераз у растений приводит к более чем 80% чистоте гликоформ [47]. Разработанная платформа на основе гликоинженерных трансгенных растений способна продуцировать антитела без фукозы и ксилозы, в которых 90% молекул несут галактозилированные N-гликаны, включая 60% бигалактозилированных структур [48].
ЭКСТРАКЦИЯ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ ОЧИСТКА
Большое внимание в разработке технологий получения МКА в растительных системах уделяется процедуре выделения и очистки рекомбинантных белков. В настоящее время технологии DSP (DSP – downstream processing) включают центрифугирование, фильтрацию, флокуляцию и различные интегрированные методы для разделения твердой и жидкой фаз, очистку и концентрацию белка. При масштабном производстве отдается предпочтение более общим и разработанным технологиям, таким как мембранная очистка, хроматография и осаждение при нагревании или изменении pH, уже применяемым в работах с микробными платформами и клетками млекопитающих. Эти технологии должны быть адаптированы к специфическим растительным сопутствующим загрязнениям (волокна, масла, полифенолы и органические кислоты) [49].
Очистка МКА может производиться с помощью их слияния с различными субстратами, например, с олеозином, эластиноподобными полипептидами, гидрофобинами и пр. Технология слияния была разработана для аффинного захвата рекомбинантных антител посредством экспрессии на поверхности липидных телец слитого олеозин-белок А. Данный метод был использован для очистки МКА трастузумаба, транзиентно экспрессируемого в N. benthamiana, с извлечением 70–75% [50]. Слияние белка L или белка G с целлюлозосвязывающим доменом использовали для очистки антител на целлюлозных носителях [51]. Благодаря уникальным поверхностно-активным свойствам, гидрофобины способны изменять гидрофобность своего партнера по слиянию, например, рекомбинантного МКА, что обеспечивает эффективную очистку с использованием водной двухфазной системы на основе поверхностно-активного вещества. При этом продемонстрировано, что слияние с гидрофобинами может увеличивать накопление целевых белков в растениях в связи со снижением токсичности данных соединений по сравнению со свободным рекомбинантным белком [52].
Необходимо отметить также, что основой образования функциональных МКА является правильная укладка отдельных цепей с последующей их точной сборкой. Это обеспечивает функциональность гетеротетрамерным гликопротеинам. МКА с неправильной конформацией разлагаются внутренней системой контроля качества белков клетки-хозяина, что приводит к низким выходам продукта. Кроме того, антитела с неправильной конформацией не способны эффективно взаимодействовать со своим антигеном-мишенью или опосредовать эффекторные функции. Они имеют неблагоприятную фармакокинетику и склонны к агрегации. Помимо этих биологических ограничений, очистка рекомбинантных МКА, загрязненных агрегированными или неправильно свернутыми МКА, создает серьезные препятствия для последующей обработки терапевтических молекул и в настоящее время является предметом многочисленных исследований [53].
Все описанные стратегии применимы также для синтеза МКА с использованием суспензионных культур растительных клеток, секретирующих целевые белки в питательную среду. В случае, если рекомбинантные МКА транспортируются во внутриклеточные компартменты для осуществления посттрансляционных модификаций или для повышения их стабильности, требуется экстракция рекомбинантных белков. Она заключается в разрушении растительной ткани и последующих очистках как от твердых частиц, так и от многочисленных сопутствующих загрязняющих растворимых веществ [54].
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ СИНТЕЗА МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ
Для получения МКА в молекулярном фермерстве до последнего времени преимущественно использовались целые растения с применением либо транзиентной экспрессии с помощью вирусных или невирусных векторов, либо стабильной трансформации трансгенами, нацеленными на ядерный или хлоропластный геном. Преимущества стабильной ядерной трансформации заключаются в наследуемости трансгена, позволяющей создать посевной материал для будущего использования, и возможности выращивания трансгенных растений в полевых условиях с применением уже имеющихся агротехнических схем и приемов, а следовательно, с почти неограниченной масштабируемостью при минимальных затратах. Однако создание и характеристика стабильных трансгенных линий – дорогостоящий и трудоемкий процесс. Среди сопутствующих проблем наиболее серьезными являются замолкание генов, эффекты положения и экологические проблемы, связанные с ГМО.
Транзиентная экспрессия
N. benthamiana – наиболее распространенное растение, используемое для транзиентной экспрессии. Оно легко поддается генетической трансформации и быстро нарабатывает большие объемы биомассы для масштабного производства. Существуют две основные стратегии переноса трансгенов в клетки растений-хозяев для биопродукции: невирусные и вирусные. Экспрессия на основе невирусных векторов с использованием обычных векторов экспрессии растений обеспечивает быстрое накопление рекомбинантных белков в листьях, обычно через 2–4 дня после инфильтрации, с выходом белка 0.1–200 мкг/г [55]. Процесс вирусной экспрессии занимает около 2 недель, но обычно обеспечивает более высокие уровни рекомбинантного белка (до 5.0 мг/г на примере GFP) [56]. Некоторые эффективные платформы экспрессии на основе вирусных векторов – это Geneware® (Kentucky BioProcessing LLC) и magnICON® (Icon Genetics) (репликон РНК вируса табачной мозаики TMV) и система экспрессии геминивирусов (репликон ДНК вируса желтого карлика фасоли BeYDV) (Университет штата Аризона) [57–59]. Транзиентные системы обеспечивают также возможность одновременной коэкспрессии нескольких генов для выработки сложных белков, в частности МКА [60]. Многочисленные МКА, особенно те, которые предназначены для лечения внезапных вирусных эпидемий, например, вспышки лихорадки Эбола, тяжелого острого респираторного синдрома или пандемии коронавирусной инфекции и гриппа, были успешно получены в системах транзиентной экспрессии [61–63].
Культура бородатых корней
Культура бородатых корней (HR) обладает рядом достоинств, таких как генетическая стабильность, рост в стерильных условиях, быстрое накопление биомассы и возможность секретирования гетерологичных белков в культуральную среду. С другой стороны, низкие выходы белка (в диапазоне мг на литр культуры) и трудности в организации крупномасштабного производства в биореакторах являются основной проблемой для будущей эксплуатации этой платформы. Тем не менее, есть примеры различных классов гетерологичных белков, в частности МКА [64], которые были успешно продуцированы в HR. Первым биофармацевтическим белком, который был экспрессирован в HR в 1997 г., явилось МКА анти-Streptococcus mutans Guy’s 13, успешно секретированное в культуральную среду [65]. В настоящее время описано получение противоракового МКА M12, экспрессируемого в культуре HR N. tabacum [66]. В этой работе разработан оптимизированный протокол культивирования, увеличивающий выход антител в 30 раз и обеспечивающий секрецию около 57% полученных антител M12 в культуральную среду. Анализ очищенных МКА показал, что они обладают типичным паттерном растительного гликозилирования, который может представлять серьезную проблему для использования таких МКА в терапии заболеваний человека. В последнее время для производства терапевтических МКА используются гликоинженерные культуры HR N. benthamiana, в которой гены β(1,2)-ксилозилтрансферазы и α(1,3)-фукозилтрансферазы были отключены при использовании РНК-интерференции [67]. МКА CD20, анти-тенасцин С и иммуноцитокины, нацеленные на опухоль, экспрессированные в гликоинженерной культуре HR, продемонстрировали возможность наработки полностью функциональных противораковых МКА с совместимым с человеком профилем гликозилирования. К тому же было показано, что очистку антител из культуральной среды HR можно проводить с использованием простой двухстадийной процедуры, состоящей из первого осветления среды фильтрованием и стадии аффинной хроматографии [67].
Культура мха
За последние два десятилетия мох Physcomitrella patens активно использовали в качестве модельного вида в фундаментальных исследованиях и объекта в биотехнологии. Ключевые достоинства данной биотехнологической платформы – это полностью секвенированный геном, возможности для точной геномной инженерии с помощью гомологичной рекомбинации, сертифицированное GMP-производство в биореакторах, успешное масштабирование до 500-литровых волновых реакторов, отличная гомогенность гликозилирования белка, высокая стабильность от партии к партии и безопасная криоконсервация для хранения элитных клеток. В этой системе производится несколько белков человека в качестве потенциальных биофармацевтических препаратов, в частности, противоопухолевые МКА [68]. В настоящее время разработаны линии P. patens для получения продуктов с паттернами N-гликозилирования, характерными для млекопитающих и человека [69]. Такие линии перспективны для фотобиореакторного производства фрагментов антител [70], а также терапевтических МКА с повышенной антителозависимой цитотоксичностью (ADCC) по сравнению с такими же продуктами, полученными в культурах млекопитающих. Некоторые рекомбинантные биофармацевтические препараты, произведенные в этих линиях, не только подобны тем, которые получают в системах млекопитающих, например, в клетках СНО, но и обладают более высоким качеством (biobetters). Гликооптимизированные МКА IgG1 IGN314 были разработаны для распознавания паттернов гликозилирования Lewis Y, связанных с опухолью. Они оказались в 40 раз более эффективным в индукции лизиса трех разных линий опухолевых клеток, чем антитела, продуцируемые в клетках СНО [71]. В отличие от гликопротеинов млекопитающих, растительные образцы лишены α-1,6-связанного остатка фукозы в структуре N-гликана. Антитела, полученные в мхе и не имеющие этого углеводного фрагмента, оказались более эффективны в отношении ADCC, чем антитела, производимые в CHO: МКА IgN314 проявляют повышенную литическую активность и могут уменьшить терапевтические дозы или, при заданной концентрации, лизировать более широкий спектр опухолевых клеток, особенно клетки с низкой плотностью антигенов. Другое преимущество заключается в том, что глико-оптимизированные антитела показали более низкие значения эффективной концентрации на всех исследованных клеточных линиях и для обоих фенотипов рецепторов CD16158, что указывает на более высокое сродство к обоим фенотипам CD16158. Это взаимодействие позволяет снизить пороговую концентрацию, необходимую для инициации лизиса клеток-мишеней, и, вероятно, повысить терапевтический эффект у пациентов с фенотипом низкой аффинности к традиционным препаратам [72].
В сравнении с аналогичными МКА, произведенными в клетках млекопитающих, экспрессированные в мхе имеют правильную конфигурацию, сборку в ансамбли, а также не подвергаются деградации и не агрегируют. Производственная система на основе мха предлагает широкие возможности для получения глико-оптимизированных биофармацевтических препаратов, включая активные терапевтические МКА без какой-либо адаптации N-гликанов с помощью ферментативной постпроизводственной обработки in vitro.
Культуры микроводорослей и ряски
Биопроизводство рекомбинантных МКА на платформе микроводорослей привлекает все большее внимание из-за его преимуществ с точки зрения безопасности, метаболического разнообразия, масштабируемости и устойчивости. Первым белком млекопитающих, продуцируемым в микроводоросли, было МКА против гликопротеина D вируса простого герпеса (ВПГ). Это большое одноцепочечное антитело представляет собой слитый через гибкий линкер белок, состоящий из полной тяжелой цепи IgA и вариабельной области легкой цепи. Белок экспрессировали в хлоропластах Chlamydomonas reinhardtii. Хотя хлоропласты не обладают механизмом гликозилирования белков, работа группы Mayfield [36] показала, что агликозилированные антитела в хлоропластах водорослей способны правильно складываться и собираться с образованием полноценного МКА, связывающего мишень. Диатомовая водоросль Phaeodactylum tricornutum была использована для экспрессии МКА против поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) как секретируемого, так и сохраняемого в эндоплазматической сети [73, 74]. Синтез МКА IgG1 против антигена сибирской язвы 83 (83K7C) явился первой демонстрацией того, что тяжелые и легкие цепи, синтезированные в одном и том же хлоропласте C. reinhardtii, собираются в полноразмерное функциональное МКА [75]. Среди наиболее перспективных разработок в области производства рекомбинантных белков на основе микроводорослей – иммунотоксины, продуцируемые в хлоропластах C. reinhardtii, способные оказывать цитотоксическое действие на В-клеточные лимфомы [76], а также антитела верблюда, направленные против ботулотоксина [77].
Компания Biolex Therapeutics (США) использовала свою запатентованную систему экспрессии белков LEX для производства растительной версии ритуксимаба в трансгенной Lemna minor Cox с соавт. [78] получили МКА без специфичного для растений гликозилирования путем нокаута эндогенных генов α-1,3-фукозилтрансферазы и β-1,2-ксилозилтрансферазы с помощью РНК-интерференции в растениях ряски L. minor. Это позволило получить N-гликаны одного основного вида с более высокой антителозависимой клеточной цитотоксичностью и активностью связывания с рецептором эффекторных клеток, чем те, которые были получены в культивируемых клетках яичника китайского хомячка (СНО). В доклинических исследованиях с использованием яванских макак [79] сравнили это оптимизированное МКА, названное BLX-300, с ритуксимабом, и показали, что оно обладает эквивалентной активностью связывания клеток-мишеней, индукцией апоптоза и усилением антителозависимой клеточной цитотоксичности против В-клеток, что позволяет предположить потенциальное улучшение его эффективности и действенности, а также снижение общей цитотоксичности. Система LEX была приобретена компанией Synthon (Нидерланды) [http://www.marketwired.com/press-release/biolex-sells-lex-system-to-synthon-and-initiates-sale-of-locteron-1653466.htm].
Суспензионные культуры растительных клеток
Несмотря на низкую стоимость полученных рекомбинантных белков при использовании трансгенных растений, в настоящее время четко прослеживается тенденция переноса производства биофармацевтических препаратов в системы на основе биореакторов [80]. Культивирование в биореакторе полностью освобождает от проблем, связанных с изменениями погоды, почвы, наличием вредителей и дрейфом трансгенов в окружающую среду. Из-за коротких циклов роста клеток, культивируемых в суспензии, сроки, необходимые для производства рекомбинантных белков в культуре растительных клеток, сокращаются до недель по сравнению с месяцами, необходимыми для их производства в целых трансгенных растениях. Культивирование in vitro позволяет точно контролировать рост и производство белка, стабильность продукта от партии к партии и согласовывать производственный процесс с текущими надлежащими производственными методами (GMP) [81]. Дополнительным преимуществом производства в культуре растительных клеток является тот факт, что рекомбинантные белки могут секретироваться из клеток непосредственно в культуральные среды, и, следовательно, последующая обработка для извлечения и очистки белков становится намного дешевле, чем из целых растений. Эти преимущества значительно перевешивают недостаток, связанный с более низким выходом белка в системе растительных клеток по сравнению с другими платформами. Главные преимущества различных растительных платформ и успехи в разработке МКА растительного происхождения приведены в табл. 1.
Таблица 1. Растительные платформы: преимущества и основные продукты
Платформа | Преимущества | Продукты | Ссылки |
Стабильная экспрессия в целых растениях | Экономичность, масштабируемость | CaroRx ™, микробициды, гепатит В, противоопухолевые МКА, ротавирусная инфекция, иммунотоксины | |
Транзиентная экспрессия | Легкость трансформации, быстрый прирост биомассы | Лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром, коронавирусная инфекция, грипп, противоопухолевые МКА | [46; 55, 62; 63; 85; 86[ |
Культура бородатых корней | Генетическая стабильность, секреция продукта в среду | Streptococcus mutans; противоопухолевые МКА | [64; 66] |
Водоросли и ряска | Экономичность, метаболическое разнообразие | Иммунотоксины, противоопухолевые МКА, сибирская язва, гепатит В, ботулизм | [76; 78] |
Physcomitrella patens | Масштабируемость, гомологичная рекомбинация, статус гликозилирования | Противоопухолевые МКА | [68] |
Культура растительных клеток | Экономичность, короткий цикл культивирования, контролируемые условия | Противоопухолевые МКА |
Многочисленные примеры успешных разработок МКА растительного происхождения показывают потенциал растительных систем для производства полноценных функциональных МКА, хотя их производительность все еще остается невысокой и пока не может конкурировать с другими технологическими платформами.
ДОСТИЖЕНИЯ В СОЗДАНИИ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Пассивная иммунизация и противомикробные моноклональные антитела
Терапевтические МКА представляются весьма перспективным продуктом для молекулярного фермерства. На сегодняшний день ни одно из антител не было одобрено фармацевтическими регулирующими органами для применения в медицине, однако некоторые прошли клинические испытания на людях. Например, CaroRx™, секреторный IgA (SIgA), вырабатываемый Planet Biotechnology Inc., был первым в мире клинически протестированным антителом для предотвращения адгезии бактерий, вызывающих кариес, к поверхности зубов. Еще в 1999 г. CaroRx™ прошел фазу II клинических испытаний в США [82], однако испытания были прекращены в начале 2016 г. Следующими были гуманизированные МКА против гликопротеина B вируса генитального герпеса, экспрессированные в растениях сои [84]. Hull с соавт. [89] изучали МКА, полученные в трансгенных линиях табака, против возбудителя сибирской язвы Bacillus anthracis у мышей. Было показано эффективное связывание МКА с бактериальными клетками, в результате чего сделаны выводы о дешевой и надежной защите при использовании этих антител даже при высокой бактериальной нагрузке в условиях эпидемии.
Пассивная иммунизация и противомикробные препараты – это области, в которых создание новых технологий производства МКА может обеспечить существенный прогресс. В настоящее время применение МКА в этой сфере ограничено высокой стоимостью препаратов и сложностями в масштабируемости. Пандемия COVID-19 показала, что в чрезвычайных ситуациях мощности по наработке белка очень быстро становятся дефицитными, потому что производство других лекарств и диагностических средств невозможно остановить или отложить. Экспрессия в растительных системах обеспечивает быстрое устранение пробелов в производстве: растения можно выращивать в то время, пока изучается последовательность генома патогена, и начинать производство, как только становятся известными последовательности антигена. Поэтому многие академические и промышленные группы используют, например, транзиентную экспрессию в растениях для получения диагностических и терапевтических МКА против SARS-CoV-2. В настоящее время создан финансируемый Евросоюзом проект Pharma-Factory, направленный на разработку транзиентной экспрессии в растениях, включая создание новых векторов экспрессии, штаммов Agrobacterium и сортов растений, а также соответствующих методических процедур (https://pharmafactory.org). Это может сформировать новую стратегию коммерческого использования молекулярного земледелия, в которой уникальный IP будет назначаться продукту, а не платформе [90, 91].
В последние годы большие надежды исследователей связаны с использованием ВИЧ-нейтрализующих антител в качестве микробицидов, поскольку это дает возможность предотвратить передачу ВИЧ в отсутствие эффективной вакцины [92]. Современная технология производства МКА с использованием клеток CHO может удовлетворить спрос на нейтрализующие ВИЧ МКА в качестве микробицидов. Однако в долгосрочной перспективе для развивающихся стран использование биотехнологии растений будет, вероятно, более простой и надежной технологией [93]. В области профилактики у ВИЧ-нейтрализующих МКА есть много потенциальных клинических применений, включая иммунопрофилактику, при которой МКА употребляют местно в качестве микробицидов в месте инфекции [92]. Для эффективной защиты требуются большие дозы (миллиграммы), и продукт необходимо использовать регулярно. Это означает, что производственная мощность для удовлетворения мирового спроса должна превышать 1000 кг в год. Поскольку затраты также должны быть низкими, маловероятно, что микробициды на основе МКА можно будет производить с использованием традиционных подходов к производству, особенно при том, что наибольшая потребность в них возникает в развивающихся странах. Таким образом, получение микробицидов на основе МКА в растительных системах экспрессии является привлекательной альтернативой традиционным технологиям благодаря сочетанию низкой стоимости и возможности масштабирования [94].
Для защиты людей от опасной для жизни ротавирусной инфекционной диареи был создан трансгенный рис, синтезирующий в семенах нейтрализующие МКА против ротавируса (MucoRiseARP1) [95]. Антитела накапливались в достаточно высоких концентрациях (11.9% общего белка), чтобы быть эффективными в качестве профилактического лекарственного средства. Действительно, в экспериментах при кормлении семенами MucoRiseArp1 мышей с иммунодефицитом была показана действенная защита животных от ротавирусных инфекций. Кроме того, нейтрализующие МКА были растворимы в воде, устойчивы как к кипячению, так и к длительному хранению (не менее 1 года) и не разрушались при транспортировке и в различных температурных условиях хранения. Эти качества делают рис весьма перспективным продуцентом для последующего практического использования.
В работе Chen [87] разработано моноклональное антитело E16 растительного происхождения, которое распознает эпитоп в домене III белка оболочки вируса западного Нила (ВНЗ), и показано, что растения способны продуцировать комплексные варианты антител, в частности биспецифические антитела, обладающие способностью преодолевать гематоэнцефалический барьер. Преодоление гематоэнцефалического барьера осуществлялось благодаря объединению двух наборов Fab, один из которых способствовал их транспортировке в мозг, а другой сохранял свою терапевтическую активность против ВЗН в мозге [96]. Однократная доза данного МКА защищала мышей от летального заражения ВЗН даже через четыре дня после заражения, когда вирус проник в мозг.
ZMapp™, коктейль из трех МКА, произведенный в листьях N. bethamiana компанией Mapp Biopharmaceutical Inc. (США) для борьбы со вспышкой вируса Эбола 2014 г. в Африке, прошел клинические испытания I и II фазы в 2015 г. в США, Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее [61]. В сентябре 2015 г. FDA США предоставило ZMapp ™ статус ускоренного режима [http://mappbio.com]. Хотя он еще не получил окончательного одобрения FDA, на сегодняшний день ZMapp ™ является единственным препаратом, который эффективно использовался для лечения пациентов, инфицированных вирусом Эбола [97]. Кроме того, антитело-нейтрализатор 2G12, полученное в табаке, произведенное в рамках проекта Pharma Planta, завершило фазу I клинического испытания [46].
Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19), инфицировавший 270 млн человек и вызвавший более 5.3 млн смертей во всем мире с момента его появления [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019]. В то время как вакцины остаются предпочтительной стратегией для сдерживания нынешней пандемии COVID-19, постконтактная терапия также крайне востребована для лечения тяжелобольных пациентов. МКА, нацеленные на белок S, могут нейтрализовать вирус, нарушая его способность связываться и сливаться с клеткой-мишенью хозяина. С беспрецедентной скоростью в растениях N. benthamiana были получены и исследованы ряд нейтрализующих МКА против эпитопов рецептор-связывающего домена (RBD) белка S SARS-CoV-2, эффективность нейтрализации SARS-CoV-2 которых значительно различалась [91]. Также были разработаны растительные МКА против других вирусов, включая респираторно-синцитиальный вирус человека (RSV) [98], вирус чикунгунья (CHIKV) [96], вирус бешенства [62].
Моноклональные антитела растительного происхождения для онкологии
В последние годы особенно расширилось использование МКА в диагностике и лечении различных видов злокачественных новообразований. МКА против опухолевых антигенов доказали свою эффективность при лечении рака, особенно в сочетании с лучевой и химической терапией. При связывании с антигеном на поверхности раковых клеток, МКА вызывают антитело-зависимую клеточно-опосредованную цитотоксичность (ADCC) или комплемент-зависимую цитотоксичность, которая убивает аномальные клетки.
Обнадеживающие результаты достигнуты в первых клинических испытания на людях произведенного в трансгенных растениях табака антитела 2G12 против Lewis Y-антигена, обнаруживаемого на опухолевых клетках при колоректальном раке, раке молочной железы, легких и яичников [46]. Ранее Brodzik с соавт. [99] успешно синтезировали в трансгенных растениях табака с низким содержанием алкалоидов (N. tabacum cv. LAMD609) функциональные МКА BR55-2 (IgG2a) также против Lewis Y-антигена. Эксперименты на лабораторных животных и клинические испытания показали, что данные антитела способствуют уничтожению раковых клеток, специфически связываясь с ними [99–101]. Полноразмерные рекомбинантные МКА CO17-1A синтезированы в растительной системе с использованием вектора вируса табачной мозаики [102]. Тяжелая и легкая цепи МКА CO17-1A были растительного происхождения и синтезированы для специфического связывания с клетками колоректальной карциномы человека SW948, экспрессирующими антиген GA733 [103]. Эти МКА эффективно ингибировали рост клеток опухоли колоректальной карциномы человека SW948 у ксенотрансплантированных мышей, а также были эффективны при лечении метастазов и предотвращении рецидива колоректального рака у пациентов с высоким риском [104].
Одним из самых широко применяемых в клинической практике препаратов является бевацизумаб, созданный на основе МКА и используемый для терапии метастатического колоректального рака, глиобластомы, немелкоклеточного рака легкого, метастатического рака почки, распространенного рака шейки матки, платинорезистентного рака яичников [105]. Одним из недостатков является дороговизна терапии бевацизумабом в связи с его производством в системах на основе клеток млекопитающих. Поэтому исследователями были предприняты попытки его синтеза в других экспрессионных системах. В 2016 г. Chen с соавт. [62] сообщили о первом получении бевацизумаба в растительной системе экспрессии с использованием каллуса трансгенного риса.
На основе культивируемых клеток риса созданы высокоэффективные системы трансформации, которые широко используются для производства многих фармацевтически ценных белков [88]. Уровень экспрессии МКА бевацизумаба в трансгенных каллусах риса достигает 200 мг/кг сырого веса – это самый высокий результат из имеющихся в литературе данных с использованием всех рекомбинантных систем [106]. Он был получен благодаря, во-первых, оптимизации кодонов, направленной на стабилизацию и эффективную трансляцию мРНК, во-вторых, введению сильного конститутивного убиквитинового промотора, повысившего уровень транскрипции, а также благодаря отбору однокопийных продуцентов для снижения вероятности замолкания трансгенов. Иммуноферментный анализ показал, что бевацизумаб, синтезированный в каллусе риса, и коммерческий препарат Авастин имели сходное сродство к связыванию с рецепторами VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). С разработкой системы культивирования суспензии клеток риса и ее масштабирования стало возможным крупномасштабное производство данного МКА с использованием биореакторов [107].
Рекомбинантные иммунотоксины
Многообещающим и инновационным классом терапевтических противораковых соединений являются рекомбинантные иммунотоксины (РИТ). Данные вещества представляют собой трехкомпонентные молекулы, содержащие домен, определяющий специфичность связывания с опухолевой клеткой (чаще всего МКА), собственно токсин для уничтожения клеток-мишеней и линкер для обеспечения стабильной функциональной конформации всей молекулы [108].
В настоящее время не существует подходящей системы для рентабельного крупномасштабного производства РИТ, поскольку токсиновые домены подавляют аппарат синтеза белка или разрушают специфические структуры митотического веретена. Следовательно, хозяин-продуцент должен быть устойчив к повреждениям, связанным с РИТ. Системы на основе растений могут восполнить этот пробел. Существование разнообразных растительных платформ, позволяющих быстро извлекать токсичный продукт из суспензионной или другой культуры, культивируемой в жидкой среде, а также возможность направления токсичных продуктов в изолированные клеточные компартменты открывает большие перспективы перед таким способом производства [109, 110].
В настоящее время растения используются для производства низкомолекулярных токсинов для лекарственных конъюгатов, содержащих антитела [111]. Например, растения табака использовали для транзиентной экспрессии лектинов вискумина и рицина, применяемых при терапии рака [110, 112]. Наличие у растений естественных механизмов синтеза токсинов и специализированных клеточных компартментов для изоляции их от мишеней или протеаз [110] и возможность продуцировать как МКА, так и токсичные белки в одном процессе, делает растения идеальной платформой для экспрессии иммунотоксинов.
Несмотря на множество типов рекомбинантных белков, которые были продуцированы в растениях или растительных клетках, и все преимущества растительных систем, известно только четыре РИТ, которые были экспрессированы в растительных системах.
- Токсичный РИТ, бриодин-1 (BD1), был слит с scFv, полученным из анти-CD40-антитела G28-5 [113]. Секретируемая версия BD1-G28-5 была продуцирована в суспензионных клетках табака N. tabacum cv. NT1. Данный продукт показал специфическую токсичность по отношению к клеткам неходжкинской лимфомы.
- Анти-CD22 экзотоксин – иммунотоксин, продуцируемый в хлоропластах водоросли C. reinhardtii [76]. Он накапливался в хлоропластах водоросли в двух вариантах (мономер и двухвалентный аналог) в виде растворимых функциональных белков с уровнями экспрессии 0.2–0.4% от ОРБ в лизате. Сообщалось о значительном ингибировании роста опухоли у модельных ксенотрансплантатных мышей, причем двухвалентный вариант был в 22–33 раза более эффективным, возможно в связи с присутствием двух сайтов связывания антигена [76]. Данные исследования подтверждают эффективность рекомбинантных иммунотоксинов, продуцируемых на платформе экспрессии водорослей.
- РИТ VGRNb-PE, содержащий нанотело анти-VEGFR2 (рецептор 2 фактора роста эндотелия сосудов), слитое с усеченной формой экзотоксина А Pseudomonas aeruginosa. РИТ экспрессировался в хлоропластах трансгенного салата (L. sativa) и показал токсичность к опухолевым клеткам и отсутствие действия по отношению к контрольным [114].
- Слитый белок scFv-RC-RNase состоит из scFv HAb25 человека и цитотоксической рибонуклеазы RC-RNase из американской лягушки-быка Rana catesbeiana. Слитый белок получают в трансгенных растениях табака с выходом до 2.0 мг/кг свежей биомассы листьев. Токсичность неочищенной ScFv-RC-РНКазы была испытана на линиях клеток гепатомы человека HepG2 и SMMC7721, и выявлена ее ингибирующая концентрация [115].
Отмечено, что МКА и токсины могут продуцироваться в растительных клетках одновременно как совместимые продукты. И хотя продуктивность РИТ в растениях в нескольких случаях превышала показатели, достигнутые при использовании других систем, требуется совершенствование данной платформы для достижения уровней накопления нетоксичных рекомбинантных белков. Уровень накопления РИТ растительного происхождения колеблется от 2 до 337 мг/кг, однако экспрессионный уровень, чистота продукта и содержание его после очистки часто не освещаются в работах. К тому же большая часть исследований являются единичными, с неизученной масштабируемостью и неясной совместимостью с принципами GMP. Повышение конкурентоспособности РИТ растительного происхождения связано, главным образом, с повышением уровня их накопления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Производство МКА в растениях привлекает все больше внимания специалистов, поскольку растительные системы могут быть более дешевыми, безопасными и масштабируемыми, чем системы экспрессии клеток млекопитающих, дрожжей, бактерий и насекомых. Можно надеяться, что описанные в обзоре примеры усовершенствованных технологий, генно- и гликоинженерных приемов, позволяющие преодолеть существующие ограничения, в скором времени приведут к более широкому распространению и использованию растительных систем в качестве систем экспрессии для производства рекомбинантных белков и МКА, в частности. Последние достижения в редактировании растительного генома будут способствовать получению МКА растительного происхождения с улучшенными физико-химическими, фармакокинетическими и фармакодинамическими свойствами. Платформы на основе растений и растительных клеток могут быть развернуты для массового производства биофармацевтических препаратов в более короткие сроки, и они будут экономически более эффективными по сравнению с другими традиционными системами на основе клеточных культур. Это особенно важно в ситуациях быстрого реагирования, например, во время пандемий. Ожидаемое увеличение рыночного спроса на высокоэффективные и более доступные терапевтические МКА растительного происхождения повышают коммерческий интерес к платформам экспрессии на растительной основе, обеспечивая тем самым увеличение объемов инвестиций и активное привлечение крупных фармацевтических компаний к совместной разработке новых препаратов МКА.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования, грант № FWNR-2022-0022.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
1 Сокращения: МКА – моноклональные антитела.
About the authors
А. А. Загорская
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук”
Author for correspondence.
Email: zagorska@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Новосибирск
Е. В. Дейнеко
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук”
Email: zagorska@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Новосибирск
References
- Walsh G. Biopharmaceutical benchmarks 2018 // Nat Biotechnol. 2018. V. 36. P. 1136. https://doi.org/10.1038/nbt.4305
- Fischer R., Vasilev N., Twyman R.M., Schillberg S. High-value products from plants: the challenges of process optimization // Curr. Opin. Biotechnol. 2015. V. 32. P. 156. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2014.12.018
- Fischer R., Schillberg S., Hellwig S., Twyman R.M., Drossard J. GMP issues for recombinant plant-derived pharmaceutical proteins // Biotechnol. Adv. 2012. V. 30. P. 434. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2011.08.007
- Göritzer K., Strasser R. Glycosylation of Plant-Produced Immunoglobulins // Antibody Glycosylation. Experientia Supplementum. V. 112 / Ed. Pezer M.Springer, Cham., 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76912-3_16
- Webster D.E., Thomas M.C. Post-translational modification of plant-made foreign proteins; glycosylation and beyond // Biotechnol. Adv. 2012. V. 30. P. 410. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2011.07.015
- DeMuynck B., Navarre C., Boutry M. Production of antibodies in plants: status after twenty years // Plant Biotechnol. J. 2010. V. 8. P. 529. https://doi.org/10.1111/j.1467-7652.2009.00494
- Moussavou G., Ko K., Lee J. H., Choo Y. K. Production of monoclonal antibodies in plants for cancer immunotherapy // Biomed. Res. Int. 2015. Art. 2015:306164. https://doi.org/10.1155/2015/306164
- Bakema J.E., van Egmond M. Immunoglobulin A: a next generation of therapeutic antibodies? // MAbs. 2011. V. 3. P. 352. https://doi.org/10.4161/mabs.3.4.16092
- Longet S., Miled S., Lotscher M., Miescher S.M., Zuercher A.W., Corthesy B. Human plasma-derived polymeric IgA and IgM antibodies associate with secretory component to yield biologically active secretory-like antibodies // J. Biol. Chem. 2013. V. 288. P. 4085. https://doi.org/10.1074/jbc.M112.410811
- Lomonossoff G.P., D’Aoust M.-A. Plant-produced biopharmaceuticals: a case of technical developments driving clinical deployment // Science. 2016. V. 353. P. 1237. https://doi.org/10.1126/science.aaf6638
- Stieger M., Neuhaus G., Momma T., Schell J., Kreuzaler F. Self assembly of immunoglobulins in the cytoplasm of alga Acetabularia mediterranea // Plant Sci. 1991. V. 73. P. 181. https://doi.org/10.1016/0168-9452(91)90027-6
- Hiatt A., Cafferkey R., Bowdisk K. Production of antibodies in transgenic plants // Nature. 1989. V. 342. P. 76. https://doi.org/10.1038/342076a0
- Twyman RM, Stoger E, Schillberg S, Christou P, Fischer R. Molecular farming in plants: host systems and expression technology // Trends Biotechnol. 2003. V. 21. P. 570. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2003.10.002
- Chng J., Wang T., Nian R., Lau A., Hoi K.M., Ho S.C., Gagnon P., Bi X., Yang Y. Cleavage efficient 2A peptides for high level monoclonal antibody expression in CHO cells // MAbs. 2015. V. 7. P. 403. https://doi.org/10.1080/19420862.2015.1008351
- Ho S.C., Koh E.Y., van Beers M., Mueller M., Wan C., Teo G., Song Z., Tong Y.W., Bardor M., Yang Y. Control of IgG LC:HC ratio in stably transfected CHO cells and study of the impact on expression, aggregation, glycosylation and conformational stability // J. Biotechnol. 2013. V. 165. P. 157. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2013.03.019
- Ma J.K.-C., Hiatt A., Hein M. Generation and assembly of secretory antibodies in plants // Science. 1995. V. 268. P. 716. https://doi.org/10.1126/science.7732380
- Chen L., Marmey P., Taylor N.J., Brizard J.P., Espinoza C., D’Cruz P., Huet H., Zhang S., de Kochko A., Beachy R.N., Fauquet C.M. Expression and inheritance of multiple transgenes in rice plants // Nat. Biotechnol. 1998. V. 16. P. 1060. https://doi.org/10.1038/3511
- De Muynck B., Navarre C., Boutry M. Production of antibodies in plants: status after twenty years // Plant Biotechnol. J. 2010. V. 8. P. 529. https://doi.org/10.1111/j.1467-7652.2009.00494.x
- Luke G.A., Ryan M.D. The protein coexpression problem in biotechnology and biomedicine: virus 2A and 2A-like sequences provide a solution // Future Virol. 2013. V. 8. P. 983. https://doi.org/10.2217/fvl.13.82
- Urwin P.E., McPherson M.J., Atkinson H.J. Enhanced transgenic plant resistance to nematodes by dual proteinase inhibitor constructs // Planta 1998. V. 204. P. 472. https://doi.org/10.1007/s004250050281
- Ho S.C., Bardor M., Li B., Lee J.J., Song Z., Tong Y.W., Goh L.-T., Yang Y. Comparison of internal ribosome entry site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells // PLOS One 2013. V. 8. Art. e63247. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0063247
- Marcos J.F., Beachy R.N. In-vitro characterization of a cassette to accumulate multiple proteins through synthesis of a self-processing polypeptide // Plant Mol. Biol. 1994. V. 24. P. 495. https://doi.org/10.1007/BF00024117
- Lin Y., Hung Ch.-Y., Bhattacharya C., Nichols S., Rahimuddin H., Kittur F. S., Leung T.C., Xie J. An effective way of producing fully assembled antibody in transgenic tobacco plants by linking heavy and light chains via a self-cleaving 2A peptide // Front. Plant Sci. 2018. V. 9. P. 1379. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01379
- Luke G., Roulston C., Tilsner J., Ryan M. Growing uses of 2A in plant biotechnology // Biotechnology / Eds. D. Ekinci. Rijek: InTech, 2015. P. 165. https://doi.org/10.5772/59878
- Ko K. Expression of recombinant vaccines and antibodies in plants // Monoclon. Antib. Immunodiagn. Immunother. 2014. V. 33. P. 192. https://doi.org/10.1089/mab.2014.0049
- Chen L., Yang X., Luo D., Yu W. Efficient production of a bioactive Bevacizumab monoclonal antibody using the 2A self-cleavage peptide in transgenic rice callus // Front. Plant Sci. 2016. V. 7. P 1156. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01156
- Chikwamba R.K., Scott M.P., Mejia L.B., Mason H.S., Wang K. Localization of a bacterial protein in starch granules of transgenic maize kernels // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2003. V. 100. P. 11127. https://doi.org/10.1073/pnas.1836901100
- Denecke J., De Rycke R., Botterman J. Plant and mammalian sorting signals for protein retention in the endoplasmic reticulum contain a conserved epitope // EMBO J. 1992. V. 11. P. 2345. https://doi.org/10.1002/j.1460-2075.1992.tb05294.x
- Denecke J., Botterman J., Deblaere R. Protein secretion in plant cells can occur via a default pathway // Plant Cell. 1990. V. 2. P. 51. https://doi.org/10.1105/tpc.2.1.51
- Frigerio L., Vine N.D., Pedrazzini E., Hein M.B., Wang F., Ma J.K., Vitale A. Assembly, secretion, and vacuolar delivery of a hybrid immunoglobulin in plants // Plant Physiol. 2000. V. 123. P. 1483. https://doi.org/10.1104/pp.123.4.1483
- Hadlington J.L., Santoro A., Nuttall J., Denecke J., Ma J.K.C., Vitale A., Frigerio L. The C-terminal extension of a hybrid immunoglobulin A/G heavy chain is responsible for its Golgi-mediated sorting to the vacuole // Mol. Biol. Cell. 2003. V. 14. P. 2592. https://doi.org/10.1091/mbc.e02-11-0771
- Ellgaard L., Helenius A. Quality control in the endoplasmic reticulum // Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2003. V. 4. P. 181. https://doi.org/10.1038/nrm1052
- Nicholson L., Gonzalez-Melendi P., vanDolleweerd C., Tuck H., Perrin Y., Ma J.K.C., Fischer R., Christou P., Stoger E. A recombinant multimeric immunoglobulin expressed in rice shows assembly dependent subcellular localization in endosperm cells // Plant Biotechnol. J. 2005. V. 3. P. 115. https://doi.org/10.1111/j.1467-7652.2004.00106.x
- Chin-Fatt A, Menassa R.A VHH-Fc fusion targeted to the chloroplast thylakoid lumen assembles and neutralizes enterohemorrhagic E. coli O157:H7 // Front. Plant Sci. 2021. V. 28. P. 686421. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.686421
- Kubis S.E., Lilley K.S., Jarvis P. Isolation and preparation of chloroplasts from Arabidopsis thaliana plants // 2D PAGE: Sample Preparation and Fractionation. Methods in Molecular Biology. V. 425. / Ed. A. Posch. Humana Press, 2008. P. 171. https://doi.org/10.1007/978-1-60327-210-0_16
- Mayfield S.P, Franklin S.E., Lerner R.A. Expression and assembly of a fully active antibody in algae // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2003. V. 21. P. 438. https://doi.org/10.1073/pnas.0237108100
- Grabsztunowicz M., Koskela M.M., Mulo P. Post-translational modifications in regulation of chloroplast function: recent advances // Front. Plant Sci. 2017. V. 8. P. 240. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00240
- Stadlmann J., Pabst M., Kolarich D., Kunert R., Altmann F. Analysis of immunoglobulin glycosylation by LC-ESI-MS of glycopeptides and oligosaccharides // Proteomics. 2008. V. 8. P. 2858. https://doi.org/10.1002/pmic.200700968
- Stelter S., Paul M. J., Teh A.Y.-H., Grandits M., Altmann F., Vanier J., Bardor M., Castilho A., Allen L. R., Ma J. K-C. Engineering the interactions between a plant-produced HIV antibody and human Fc receptors // Plant Biotechnol. J. 2020. V. 18. P. 402. https://doi.org/10.1111/pbi.13207
- Yoo J.Y., Ko K.S., Lee S.Y., Lee K.O. Glycoengineering in plants for the development of N-glycan structures compatible with biopharmaceuticals // Plant Biotechnol. Rep. 2014. V. 8. P. 357. https://doi.org/10.1007/s11816-014-0328-1
- Bolton G.R., Ackerman M.E., Boesch A.W. Separation of nonfucosylated antibodies with immobilized FcgammaRIII receptors // Biotechnol. Prog. 2013. V. 29. P. 825. https://doi.org/10.1002/btpr.1717
- Loos A., Steinkellner H. IgG-Fc glycoengineering in non-mammalian expression hosts // Arch. Biochem. Biophys. 2012. V. 526. P. 167. https://doi.org/10.1016/j.abb.2012.05.011
- Thomann M., Schlothauer T., Dashivets T., Malik S., Avenal C., Bulau P., Ruger P., Reusch D. In vitro glycoengineering of IgG1 and its effect on Fc receptor binding and ADCC activity // PLOS One. 2015. V. 10. Art. e0134949. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0134949
- Piron R., Santens F., De Paepe A., Depicker A., Callewaert N. Using GlycoDelete to produce proteins lacking plant-specific N-glycan modification in seeds // Nat. Biotechnol. 2015. V. 33. P. 1135. https://doi.org/10.1038/nbt.3359
- Madeira L.M., Szeto T.H., Ma J.K., Drake P.M.W. Rhizosecretion improves the production of Cyanovirin-N in Nicotiana tabacum through simplified downstream processing // Biotechnol. J. 2016. V. 11. P. 910. https://doi.org/10.1002/biot.201500371
- Ma J.K., Drossard J., Lewis D., Altmann F., Boyle J., Christou P., Cole T., Dale P., van Dolleweerd C.J., Isitt V., Katinger D., Lobedan M., Mertens H., Paul M.J., Rademacher T. et al. Regulatory approval and a first-in-human phase I clinical trial of a monoclonal antibody produced in transgenic tobacco plants // Plant Biotechnol. J. 2015. V. 13. P. 1106. https://doi.org/10.1111/pbi.12416
- Castilho A., Gruber C., Thader A., Oostenbrink C., Pechlaner M., Steinkellner H., Altmann F. Processing of complex N-glycans in IgG Fc-region is affected by core fucosylation // MAbs. 2015. V. 7. P. 863. https://doi.org/10.1080/19420862.2015.1053683
- Schneider J., Castilho A., Pabst M., Altmann F., Gruber C., Strasser R., Gattinger P., Seifert G.J., Steinkellner H. Characterization of plants expressing the human beta1,4-galactosyltrasferase gene // Plant Physiol. Biochem. 2015. V. 92. P. 39. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2015.04.010
- Buyel J.F., Fischer R. A juice extractor can simplify the downstream processing of plant-derived biopharmaceutical proteins compared to blade-based homogenizers // Process Biochem. 2014. V. 50. P. 859. https://doi.org/10.1016/j.procbio.2015.02.017
- McLean M.D., Chen R.J., Yu D.Q., Mah K.Z., Teat J., Wang H.F., Zaplachinski S., Boothe J., Hall J.C. Purification of the therapeutic antibody trastuzumab from genetically modified plants using safflower protein A-oleosin oilbody technology // Transgenic Res. 2012. V. 21. P. 1291. https://doi.org/10.1007/s11248-012-9603-5
- Hussack G., Grohs B.M., Almquist K.C., McLean M.D., Ghosh R., Hall J.C. Purification of plant-derived antibodies through direct immobilization of affinity ligands on cellulose // J. Agric. Food Chem. 2010. V. 58. P. 3451. https://doi.org/10.1021/jf9040657
- Conley A.J., Joensuu J.J., Richman A., Menassa R. Protein body-inducing fusions for high-level production and purification of recombinant proteins in plants // Plant Biotechnol. J. 2011. V. 9. P. 419. https://doi.org/10.1111/j.1467-7652.2011.00596.x
- Li W., Prabakaran P., Chen, W., Zhu Z., Feng Y., Dimitrov D.S. Antibody aggregation: insights from sequence and structure // Antibodies. 2016. V. 5. P. 19. https://doi.org/10.3390/antib5030019
- Twyman R.M., Schillberg S., Fischer R. Optimizing the yield of recombinant pharmaceutical proteins in plants // Curr. Pharm. Des. 2013. V. 19. P. 5486. https://doi.org/10.2174/1381612811319310004
- Xu J., Towler M., Weathers P.J. Platforms for plant-based protein production // Bioprocessing of plant in vitro systems. Reference series in phytochemistry / Eds. A. Pavlov, T. Bley. Springer, Cham. 2018. P. 509. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54600-1_14
- Matoba N., Davis K.R., Palmer K.E. Recombinant protein expression in Nicotiana // Methods Mol. Biol. 2011. V. 701. P. 199. doi: 10.1007/978-1-61737-957-4_11
- Gleba Y., Klimyuk V., Marillonnet S. Viral vectors for the expression of proteins in plants // Curr. Opin. Biotechnol. 2007. V. 18. P. 134. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2007.03.002
- Huang C., Xie Y., Zhou X. Efficient virus-induced gene silencing in plants using a modified geminivirus DNA1 component // Plant Biotechnol. J. 2009. V. 7. P. 254. https://doi.org/10.1111/j.1467-7652.2008.00395.x
- Gleba Y., Klimyuk V., Marillonnet S. Magnifection – a new platform for expressing recombinant vaccines in plants // Vaccine. 2005. V. 23. P. 2042. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2005.01.006
- Krenek P., Samajova O., Luptovciak I., Doskocilova A., Komis G., Samaj J. Transient plant transformation mediated by Agrobacterium tumefaciens: principles, methods and applications // Biotechnol. Adv. 2015. V. 33. P. 1024. http://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.03.012
- Yao J., Weng Y., Dickey A., Wang K.Y. Plants as factories for human pharmaceuticals: applications and challenges // Int. J. Mol. Sci. 2015 V. 16. P. 28549. https://doi.org/10.3390/ijms161226122
- Chen Q., Davis K.R. The potential of plants as a system for the development and production of human biologics // F1000Res. 2016. V. 5. P. 912. https://doi.org/10.12688/f1000research.8010.1
- Holtz B.R., Berquist B.R., Bennett L.D., Kommineni V.J., Munigunti R.K., White E.L., Wilkerson D.C., Wong K.Y., Ly L.H., Marcel S. Commercial-scale biotherapeutics manufacturing facility for plant-made pharmaceuticals // Plant Biotechnol. J. 2015. V. 13. P. 1180. https://doi.org/10.1111/pbi.12469
- Xu J., Dolan M.C., Medrano G., Cramer C.L., Weathers P.J. Green factory: plants as bioproduction platforms for recombinant proteins // Biotechnol. Adv. 2012. V. 30. P. 1171. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2011.08.020
- Wongsamuth R., Doran P.M. Production of monoclonal antibodies by tobacco hairy roots // Biotechnol. Bioeng. 1997. V. 54. P. 401. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19970605) 54:5<401::AID-BIT1>3.0.CO;2-I
- Häkkinen S.T., Raven N., Henquet M., Laukkanen M.-L., Anderlei T., Pitkänen J.P., Twyman R.M., Bosch D., Oksman-Caldentey K.M., Schillberg S., Ritala A. Molecular farming in tobacco hairy roots by triggering the secretion of a pharmaceutical antibody // Biotechnol. Bioeng. 2014. V. 111. P. 336. https://doi.org/10.1002/bit.25113
- Lonoce C., Marusic C., Morrocchi E., Salzano A.M., Scaloni A., Novelli F., Pioli C., Feeney M., Frigerio L., Donini M. Enhancing the secretion of a glyco-engineered anti-CD20 scFv-Fc antibody in hairy root cultures // Biotechnol. J. 2019. V. 14: e1800081. https://doi.org/10.1002/biot.201800081
- Kircheis R., Halanek N., Koller I., Jost W., Schuster M., Gorr G., Hajszan K., Nechansky A. Correlation of ADCC activity with cytokine release induced by the stably expressed, glyco-engineered humanized Lewis Y-specific monoclonal antibody MB314 // MAbs. 2012. V. 4. P. 532. https://doi.org/10.4161/mabs.20577
- Reski R., Parsons J., Decker E.L. Moss-made pharmaceuticals: from bench to bedside // Plant Biotechnol. J. 2015. V. 13. P. 1191. https://doi.org/10.1111/pbi.12401
- Decker E.L., Parsons J., Reski R. Glyco-engineering for biopharmaceutical production in moss bioreactors // Front. Plant Sci. 2014. V. 9. P. 346. https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00346
- Schuster M., Jost W., Mudde G.C., Wiederkum S., Schwager C., Janzek E., Altmann F., Stadlmann J., Stemmer C., Gorr G. In vivo glyco-engineered antibody with improved lytic potential produced by an innovative non-mammalian expression system // Biotechnol. J. 2007. V. 2. P. 700. https://doi.org/10.1002/biot.200600255
- Kircheis R., Halanek N., Koller I., Jost W., Schuster M., Gorr G., Hajszan K., Nechansky A. Correlation of ADCC activity with cytokine release induced by the stably expressed, glyco-engineered humanized Lewis Y-specific monoclonal antibody MB314 // MAbs. 2012. V. 4. P. 532. https://doi.org/10.4161/mabs.20577
- Hempel F., Maier U. G. An engineered diatom acting like a plasma cell secreting human IgG antibodies with high efficiency // Microb. Cell Fact. 2012. V. 11. P. 126. https://doi.org/10.1186/1475-2859-11-126
- Vanier G., Hempel F., Chan P., Rodamer M., Vaudry D., Maier U. G., Lerouge P., Bardor M. Biochemical characterization of human anti-hepatitis B monoclonal antibody produced in the microalgae Phaeodactylum tricornutum // PLOS One. 2015. V. 10. Art. e0139282. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139282
- Tran M., Zhou B., Pettersson P.L., Gonzalez M.J., Mayfield S.P. Synthesis and assembly of a full-length human monoclonal antibody in algal chloroplasts // Biotechnol. Bioeng. 2009. V. 1. P. 663. https://doi.org/10.1002/bit.22446
- Tran M., Van C., Barrera D.J., Petterson P.L., Peinado C.D., Bui J., Mayfield S.P. Production of unique immunotoxin cancer therapeutics in algal chloroplasts // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2013. V. 110. P. E15. https://doi.org/10.1073/pnas.1214638110
- Barrera D.J., Rosenberg J.N., Chiu J.G., Chang Y.N., Debatis M., Ngoi S.M., Chang J.T., Shoemaker C.B., Oyler G.A., Mayfield S.P. Algal chloroplast produced camelid VH H antitoxins are capable of neutralizing botulinum neurotoxin // Plant Biotechnol. J. 2015. V. 13. P. 117. https://doi.org/10.1111/pbi.12244
- Cox K.M., Sterling J.D., Regan J.T., Gasdaska J.R., Frantz K.K., Peele C.G., Black A., Passmore D., Moldovan-Loomis C., Srinivasan M., Cuison S., Cardarelli P.M., Dickey L.F. Glycan optimization of a human monoclonal antibody in the aquatic plant Lemna minor // Nat. Biotechnol. 2006. V. 24. P. 1591. https://doi.org/10.1038/nbt1260
- Gasdaska J.R., Sherwood S., Regan J.T., Dickey L.F. An afucosylated anti-CD20 monoclonal antibody with greater antibody-dependent cellular cytotoxicity and B-cell depletion and lower complement-dependent cytotoxicity than rituximab // Mol. Immunol. 2012. V. 50. P. 134. https://doi.org/10.1016/j.molimm.2012.01.001
- Donini M., Marusic C. Current state-of-the-art in plant-based antibody production systems // Biotechnol. Lett. 2019. V. 41. P. 335. https://doi.org/10.1007/s10529-019-02651-z
- Xu J., Zhang N. On the way to commercializing plant cell culture platform for biopharmaceuticals: present status and prospect // Pharm. Bioprocess. 2014. V. 2. P. 499. https://doi.org/10.4155/pbp.14.32
- Ma J.K., Lehner T. Prevention of colonization of Streptococcus mutans by topical application of monoclonal antibodies in human subjects // Arch. Oral Biol. 1990. V. 35 Suppl. P. 115S. https://doi.org/10.1016/0003-9969(90)90140-6
- Vamvaka E., Twyman R.M., Murad A.M., Melnik S., Teh A.Y., Arcalis, E., Altmann F., Stoger E., Rech E., Ma J.K.C., Christou P., Capell T. Rice endosperm produces an underglycosylated and potent form of the hiv‐neutralizing monoclonal antibody 2g12 // Plant Biotechnol. J. 2015. V. 14. P. 97. https://doi.org/10.1111/pbi.12360
- Zeitlin L., Olmsted S.S., Moench T.R., Co M.S., Martinell B.J., Paradkar V.M., Russell D.R., Queen C., Cone R.A., Whaley K.J. A humanized monoclonal antibody produced in transgenic plants for immunoprotection of the vagina against genital herpes // Nat Biotechnol. 1998. V. 16. P. 1361. https://doi.org/10.1038/4344
- Bulaon C.J.I., Khorattanakulchai N., Rattanapisit K., Sun H., Pisuttinusart N., Strasser R., Tanaka S., Soon-Shiong P., Phoolcharoen W. Antitumor effect of plant-produced anti-CTLA-4 monoclonal antibody in a murine model of colon cancer // Front. Plant Sci. 2023. V. 29. P. 1149455. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1149455
- Klimyuk V., Pogue G., Herz S., Butler J., Haydon H. Production of recombinant antigens and antibodies in Nicotiana benthamiana using ‘magnifection’ technology: GMP-compliant facilities for small- and large-scale manufacturing // Curr. Top Microbiol. Immunol. 2014. V. 375. P. 127. https://doi.org/10.1007/82_2012_212
- Chen Q. Development of plant-made monoclonal antibodies against viral infections // Curr. Opin. Virol. 2022. V. 52. P. 148. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2021.12.005
- Kuo Y.C., Tan C.C., Ku J.T., Hsu W.C., Su S.C., Lu C.A., Huang L.F. Improving pharmaceutical protein production in Oryza sativa // Int. J. Mol. Sci. 2013. V. 14. P. 8719. https://doi.org/10.3390/ijms14058719
- Hull A.K., Criscuolo C.J., Mett V., Groen H., Steeman W., Westra H., Chapman G., Legutki B., Baillie L., Yusibov V. Human-derived, plant-produced monoclonal antibody for the treatment of anthrax // Vacc. 2005. V. 23. P. 2082. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2005.01.013
- Capell T., Twyman R.M., Armario-Najera V., Ma K.C.M., Schillberg S., Christou P. Potential applications of plant biotechnology against SARSCoV-2 // Trends Plant Sci. 2020. V. 25. P. 635. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.04.009
- Rosales-Mendoza S., Márquez-Escobar V.A., Gonzalez-Ortega O., Nieto-Gomez R., Arevalo-Villalobos J.I. What does plant-based vaccine technology offer to the fight against COVID-19? // Vaccines. 2020. V. 14. P. 183. https://doi.org/10.3390/vaccines8020183
- Ramessar K., Sabalza M., Miralpeix B., Capell T., Christou P. Can microbicides turn the tide against HIV? // Curr. Pharm. Des. 2010. V. 16. P. 468. https://doi.org/10.2174/138161210790232202
- Ma J.K., Christou P., Chikwamba R., Haydon H., Paul M., Ferrer M.P., Ramalingam S., Rech E., Rybicki E., Wigdorowitz A., Yang D.C., Thangaraj H. Realising the value of plant molecular pharming to benefit the poor in developing countries and emerging economies // Plant Biotechnol. J. 2013. V. 11. P. 1029. https://doi.org/10.1111/pbi.12127
- Kaplon H., Reichert J. M. Antibodies to watch in 2019 // MAbs. 2019. V. 11. P. 219. https://doi.org/10.1080/19420862.2018.1556465
- Tokuhara D., Alvarez B., Mejima M., Hiroiwa T., Takahashi Y., Kurokawa S., Kuroda M., Oyama M., Kozuka-Hata H., Nochi T., Sagara H., Aladin F., Marcotte H., Frenken L.G., Iturriza-Gomara M. et al. Rice-based oral antibody fragment prophylaxis and therapy against rotavirus infection // J. Clin. Invest. 2013. V. 123. P. 3829. https://doi.org/10.1172/JCI70266
- Esqueda A., Jugler C., Chen Q. Design and expression of a bispecific antibody against dengue and chikungunya virus in plants // Methods Enzymol. 2021. V. 660. P. 223. https://doi.org/10.1016/bs.mie.2021.05.00
- Arntzen C. Plant-made pharmaceuticals: from ‘Edible Vaccines’ to Ebola therapeutics // Plant Biotechnol. J. 2015. V. 13. P. 1013. https://doi.org/10.1111/pbi.12460
- Zeitlin L., Bohorov O., Bohorova N., Hiatt A., Kim D., Pauly M., Velasco J., Whaley K., Barnard D., Bates J., Crowe J., Piedra P., Gilbert B. Prophylactic and therapeutic testing of Nicotiana-derived RSV-neutralizing human monoclonal antibodies in the cotton rat model // MAbs. 2013. V. 5. P. 263. https://doi.org/10.4161/mabs.23281
- Brodzik R., Glogowska M., Bandurska K., Okulicz M., Deka D., Ko K., van der Linden J., Leusen J.H.W., Pogrebnyak N., Golovkin M., Steplewski Z., Koprowski H. Plant-derived Anti-Lewis Y mAb exhibits biological activities for efficient immunotherapy against human cancer cells // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2006. V. 6. P. 8804. https://doi.org/10.1073/pnas.0603043103
- Buyel J.F., Twyman R.M., Fischer R. Very-large-scale production of antibodies in plants: the biologization of manufacturing //Biotechnol. Adv. 2017. V. 35. P. 458. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2017.03.011
- Oluwayelu D.O., Adebiyi A.I. Plantibodies in human and animal health: a review // Afr. Health Sci. 2016. V. 16. P. 640. https://doi.org/10.4314/ahs.v16i2.35
- Houdelet M., Galinski A., Holland T., Wenzel K., Schillberg S., Buyel J. F. Animal component-free Agrobacterium tumefaciens cultivation media for better GMP-compliance increases biomass yield and pharmaceutical protein expression in Nicotiana benthamiana // Biotechnol. J. 2017. V. 12. Art. 1600721. https://doi.org/10.1002/biot.201600721
- Edgue G., Twyman R. M., Beiss V., Fischer R., Sack M. Antibodies from plants for bionanomaterials // Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol. 2017. V. 9. P. 11. https://doi.org/10.1002/wnan.1462
- Kopertekh L., Schiemann J. Transient production of recombinant pharmaceutical proteins in plants: evolution and perspectives // Curr. Med. Chem. 2019. V. 26. P. 365. https://doi.org/10.2174/0929867324666170718114724
- Mason W. P. Bevacizumab in recurrent glioblastoma: five informative patient scenarios // Can. J. Neurol. Sci. 2015. V. 42. P. 149. https://doi.org/10.1017/cjn.2015.21
- Yang X., Li J., Chen L., Louzada E. S., He J., Yu W. Stable mitotic inheritance of rice minichromosomes in cell suspension cultures // Plant Cell Rep. 2015. V. 34. P. 929. https://doi.org/10.1007/s00299-015-1755-3
- Corbin J. M., Hashimoto B. I., Karuppanan, K., Kyser Z. R., Wu L., Roberts B. A., Noe A.R., Rodriguez R.L., McDonald K.A., Nandi S. Semicontinuous bioreactor production of recombinant butyrylcholinesterase in transgenic rice cell suspension cultures // Front. Plant Sci. 2016. V. 7. P. 412. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00412
- Knödler M., Frank K., Kerpen L., Buyel J.F. Design, optimization, production and activity testing of recombinant immunotoxins expressed in plants and plant cells for the treatment of monocytic leukemia // Bioengineered. 2023. V. 14. Art. 2244235. https://doi.org/10.1080/21655979.2023.2244235
- Rademacher T., Sack M., Blessing D., Fischer R., Holland T., Buyel J.F. Plant cell packs: a scalable platform for recombinant protein production and metabolic engineering // Plant Biotechnol. J. 2019. V. 17. P. 1560. https://doi.org/10.1111/pbi.13081
- Gengenbach B.B., Keil L.L., Opdensteinen P., Müschen C.R., Melmer G., Lentzen H., Bührmann J., Buyel J.F. Comparison of microbial and transient expression (tobacco plants and plant-cell packs) for the production and purification of the anti-cancer mistletoe lectin viscumin // Biotechnol. Bioeng. 2019. V. 116. P. 2236. https://doi.org/10.1002/bit.27076
- Ou J., Si Y., Goh K., Yasui N., Guo Y., Song J., Wang L., Jaskula-Sztul R., Fan J., Zhou L., Liu R., Liu X. Bioprocess development of antibody-drug conjugate production for cancer treatment // PLOS One. 2018. V. 13. Art. e0206246. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206246
- Buyel J.F. Plants as sources of natural and recombinant anti-cancer agents // Biotechnol. Adv. 2018. V. 36. P. 506. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.02.002
- Francisco J.A., Gawlak S.L., Miller M., Bathe J., Russell D., Chace D., Mixan B., Zhao L., Fell H. P., Siegall C.B. Expression and characterization of bryodin 1 and a bryodin 1-based single-chain immunotoxin from tobacco cell culture // Bioconjugate Chem. 1997. V. 8. P. 708. https://doi.org/10.1021/bc970107k
- Mirzaee M., Jalali-Javaran M., Moieni A., Zeinali S., Behdani M. Expression of VGRNb-PE immunotoxin in transplastomic lettuce (Lactuca sativa L.) // Plant Mol. Biol. 2018. V. 97. P. 103. https://doi.org/10.1007/s11103-018-0726-9
- Cui L., Peng H., Zhang R., Chen Y., Zhao L., Tang K. Recombinant hHscFv-RC-RNase protein derived from transgenic tobacco acts as a bifunctional molecular complex against hepatocellular carcinoma // Biotechnol. Appl. Biochem. 59. 2012. P. 323. https://doi.org/10.1002/bab.1039
Supplementary files