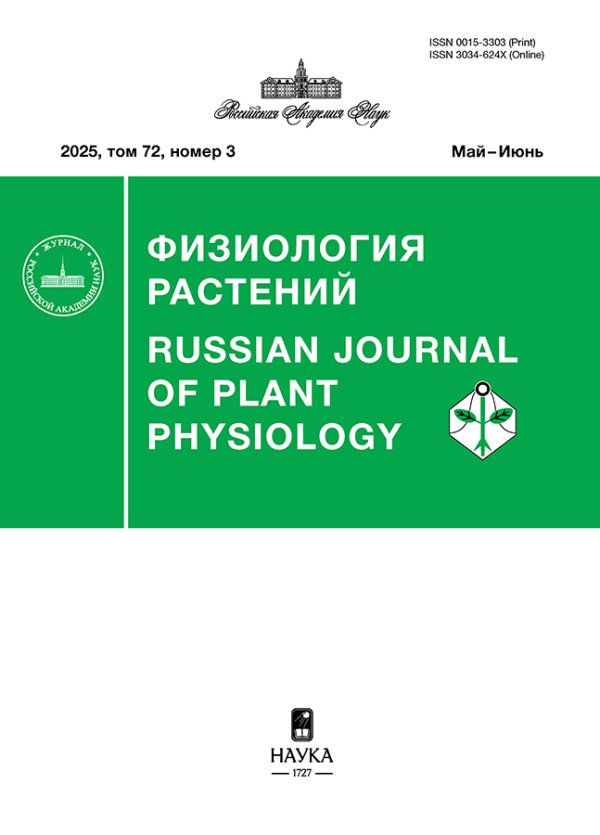Биосинтез рекомбинантных вакцин в растительных системах экспрессии
- Authors: Уварова Е.А.1, Белавин П.А.1, Пермякова Н.В.1, Дейнеко Е.В.1
-
Affiliations:
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук”
- Issue: Vol 71, No 5 (2024): Генетическая инженерия растений – достижения и перспективы
- Pages: 538-554
- Section: ОБЗОРЫ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0015-3303/article/view/269461
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0015330324050045
- EDN: https://elibrary.ru/MMXZXD
- ID: 269461
Cite item
Full Text
Abstract
Успехи генной инженерии способствовали возникновению нового раздела вакцинологии – создание рекомбинантных субъединичных вакцин, инициирующих формирование защитного иммунитета от различных заболеваний. Одной из перспективных и активно развивающихся систем экспрессии рекомбинантных белков медицинского назначения являются растения. В данном обзоре в общих чертах освещается формирование специфического и неспецифического иммунитета, функционирование гуморального и клеточного звеньев иммунитета, а также принципы создания рекомбинантных вакцинных препаратов. Более подробно рассматривается создание вакцинных препаратов для профилактики таких инфекций как грипп, коронавирусы, вирус папилломы человека, вирус гепатита В и норовирусы с примерами растительных рекомбинантных белков, профилактирующих эти заболевания. Дана оценка рынка рекомбинантных вакцин растительного происхождения и приведены примеры наиболее успешных из них. В целом обзор призван подчеркнуть актуальность растительных систем экспрессии для наработки рекомбинантных вакцинных препаратов и их возможности для быстрого реагирования на возникающие вызовы в области профилактики инфекционных заболеваний.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время диапазон практического применения растений для нужд человека трудно переоценить. Это не только “легкие” нашей планеты и сырьевой источник в повседневной жизни, но это еще и ресурс различных ценных лекарственных соединений, издавна используемых человечеством для борьбы с разнообразными недугами и заболеваниями. С развитием современных методов молекулярной биологии, позволяющих манипулировать геномами живых организмов, растения становятся весьма привлекательными для наработки различных фармацевтически ценных рекомбинантных белков медицинского назначения, являющихся аналогами природных соединений. Способность растительных клеток не только синтезировать, но и правильно модифицировать рекомбинантные молекулы с сохранением их функциональных характеристик, а также обеспечивать защиту рекомбинантного белка от агрессивной среды желудочно-кишечного тракта за счет целлюлозной оболочки, послужила основой для формирования и развития идеи съедобной вакцины. Впервые на примере B-субъединицы термолабильного токсина Escherichia coli, синтезируемого в клубнях картофеля [1], а также HbsAg-антигена гепатита В, синтезируемого в трансгенных растениях табака [2], была показана возможность формирования системного мукозального иммунного ответа на съедобную вакцину.
Современные знания в области молекулярной биологии, иммунологии и вакцинологии дают возможность идентифицировать и изолировать биологические макромолекулы или их фрагменты, которые можно было бы использовать в качестве иммуногенных компонентов для конструирования вакцин нового поколения, основу которых составляет антигенная структура патогена. Такими компонентами могут выступать иммунодоминантные белки возбудителей различных видов инфекций, например, белки оболочек вирусов или клеточных стенок бактерий. В настоящее время с применением генно-инженерных технологий успешно развивается направление создания рекомбинантных субъединичных вакцин – искусственно созданных белковых молекул, включающих протективные антигены, синтезируемые в различных системах экспрессии [3–5], в том числе и растительных [6–8].
Следует подчеркнуть вновь возросший в последние несколько лет интерес к съедобным растительным вакцинам, представляющим собой некоторые части растений (плоды, семена, клубни и т.д.), в генетически модифицированных тканях которых синтезируются иммунодоминантные белковые молекулы [9, 10]. Привлекательность перорального пути доставки таких вакцин особенно актуальна для стран с низким уровнем доходов населения, поскольку при получении съедобных растительных вакцин нет необходимости очистки иммуногена от других компонентов растительных тканей, употребляемых в пищу, что существенно снижает затраты на их производство. Немаловажное значение в этом случае имеет и отсутствие необходимости холодовой цепи при проведении иммунизации [11]. Перспективы использования съедобных растительных вакцин с акцентом на индукцию мукозального иммунитета с примерами различных видов растений, употребляемых в пищу, и с обсуждением путей формирования ответных иммунных реакций на различные патогены, подробно рассмотрены в обзорах [12, 13].
Учитывая достаточно большой опыт работ по созданию вакцин растительного происхождения в отечественных и зарубежных лабораториях, а также необходимость быстрого реагирования при распространении вирусных заболеваний, становится актуальным суммирование и критический обзор накопленных в этом направлении знаний. В предлагаемом обзоре представлены наиболее важные сведения о разработке стратегий повышения иммуногенности искусственно создаваемой белковой молекулы, нацеленной на активацию защитных возможностей организма не только от проникновения патогена (профилактические вакцины), но и на его уничтожение в организме, уже колонизированном патогеном (терапевтические вакцины). В связи с тем, что успешность разработки и создания вакцины, в особенности в условиях быстрого реагирования на распространение возбудителя инфекции, определяется в том числе и наличием надежных систем экспрессии, мы считаем необходимым привлечь внимание к простым, но достаточно перспективным системам для наработки рекомбинантных белков, в том числе и вакциногенных, – растительным клеткам. Краткое представление об общих принципах формирования защитных реакций организма на внедрение патогенов, включенное в данный обзор, нацелено на анализ поиска “подсказок” при создании кандидатных вакцин в растительных системах экспрессии с акцентом на разработку подходов слияния антигенов с другими белками, усиливающими их иммуногенность и выполняющими роль адъювантов. В обзоре суммированы данные о состоянии рынка рекомбинантных вакциногенных белков растительного происхождения, находящихся на различных стадиях клинических испытаний, а также уже выведенных на рынок для коммерческого использования.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА НА ВВЕДЕНИЕ ПАТОГЕНОВ
Одним из наиболее эффективных методов борьбы с инфекционными заболеваниями является вакцинация, основанная на программировании специфических иммунологических механизмов на защиту от возбудителей инфекций. Активирование иммунитета осуществляется путем введения вакцины, представляющей препарат, специфически стимулирующий организм на формирование защитной реакции против инфекционного агента. С помощью вакцинопрофилактики полностью прекращено распространение в человеческой популяции натуральной оспы, снижена до минимального уровня заболеваемость чумой и полиомиелитом. В настоящее время вакцинопрофилактика, как и прежде, остается основным инструментом не только предупреждения, но и прекращения вспышек и эпидемий различных инфекционных заболеваний [14, 15].
Хотя человечеству и удалось избежать распространения многих опасных инфекций, все еще остается актуальным вопрос о низкой эффективности и отрицательных эффектах, возникающих при использовании традиционных вакцин. Вакцины, используемые в настоящее время в виде аттенуированных (ослабленных) или инактивированных (убитых) патогенов, основаны на представлениях Р. Коха и его ближайших последователей о прочной связи между патогеном в ослабленной форме и приобретением защитной реакции организма. Такие вакцины далеки от “идеальных”, поскольку предоставление иммунной системе большого числа различных компонентов патогена связано с сенсибилизацией организма, большой нагрузкой на иммунную систему, реактогенностью, токсичностью и др. С аттенуированным или инактивированным патогеном в организм, кроме белков, вызывающих формирование защитного иммунитета, попадает также и масса других белков, каждый из которых может вызвать и нежелательную иммунную реакцию [16].
Создание “идеальных вакцин”, лишенных вышеперечисленных недостатков, становится реальным благодаря возможности идентифицировать и изолировать биологические макромолекулы патогена или их фрагменты, участвующие в формировании иммунных ответных реакций организма на патоген. Разработка методов, позволяющих использовать макромолекулы или их фрагменты для конструирования искусственных белковых молекул, открывает новые перспективы в вакцинологии. Создание искусственных молекул в качестве рекомбинантных вакцин нацелено на имитацию проникновения в организм патогена, а также запуск каскада не только защитных механизмов на конкретный патоген, но и формирование памяти о нем.
Важным этапом при разработке искусственных молекул, предназначенных для индукции защитных механизмов на внедрение того или иного типа патогена, является четкое понимание основных принципов формирования защитных реакций в организме для оптимального нацеливания создаваемых искусственных молекул на наиболее важные из них. Рассмотрим в самом общем виде системы неспецифической и специфической защиты, в процессе эволюции сформировавшиеся на вторжение в организм различных чужеродных агентов, делая акцент на важность того или иного звена, имеющего принципиальное значение именно при выборе особенностей конструирования искусственных молекул. Необходимо подчеркнуть, что в организмах с развитой иммунной системой обе защиты функционируют как единое целое, используя гуморальные и клеточные механизмы. При гуморальном механизме защиты в организме нарабатываются специализированные белковые молекулы – антитела, которые перемещаются с током крови и лимфы и инактивируют инфекционный агент. Клеточный механизм защиты основан на активации целого ряда специализированных клеток, нацеленных на уничтожение патогена.
Система неспецифической защиты. Данная система является эволюционно более древней и обеспечивает врожденный иммунитет. Это означает, что сформировавшиеся в процессе эволюции факторы, нацеленные на распознавание и обезвреживание чужеродного агента, передаются из поколения в поколение и представляют собой первую линию защиты от внедрения “чужого”. Первая линия защиты представлена двумя мощными системами, включающими гуморальные и клеточные факторы. Важная особенность этой линии защиты состоит в том, что в данном случае нет необходимости в индукции реакции на патоген, поскольку постоянно присутствующие в организме факторы защиты сразу же могут отреагировать на внедрение чужеродного агента. Важно отметить, что факторы неспецифической защиты включаются в ответные реакции на патоген не как единое целое, а действуют независимо друг от друга и не формируют иммунологической памяти.
Реакции врожденного иммунитета запускаются на первом этапе взаимодействия организма с патогеном. Молекулярный механизм такого взаимодействия основан на способности системы врожденного иммунитета опознавать не отдельные патогены, а инфекцию в целом, т.е. распознавать некоторые стандартные “молекулярные метки” или патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (ПАМП). Такие метки имеются на ряде молекул бактериального происхождения и являются консервативными для огромного числа микроорганизмов [17]. ПАМП распознаются рецепторами фагоцитирующих клеток и натуральных киллеров, при взаимодействии которых с ПАМП инфицирующего агента запускаются каскады Т-клеточного иммунного ответа и координируется устранение патогенов и инфицированных клеток. Группу рецепторов при развитии неспецифической защиты составляют Тoll-like рецепторы (TLRs), NOD-like рецепторы (NLRs), лектиновые рецепторы C-типа (CLRs), RIG-I-like рецепторы (RLRs) и ДНК сенсоры [18–20].
На рисунке 1 представлена общая схема каскада ответных реакций организма первой линии защиты путем распознавания Toll-like рецепторами дендритных клеток молекулярных меток инфицирующего агента (ПАМП) на примере связывания TLR4 и TLR5 с лигандами – липополисахаридом (LPS) и флагеллином, соответственно. Находящиеся в мономерном состоянии неактивные Toll-like рецепторы при взаимодействии с соответствующими лигандами активируются и принимают форму подковы, которая наиболее эффективна в прямом распознавании ПАМП [18, 21]. Активированные Toll-like рецепторы связываются с TIR-доменом молекул-адаптеров (MyD88, TIRAP, TRAM и TRIF), которые передают сигнал опасности и активируют MAPK и транскрипционные факторы NF-kB, запускающие каскад генов воспалительного ответа клетки. Воспаление является неспецифической иммунной ответной реакцией в области проникновения патогена. Синтез цитокинов (интерлейкинов, хемокинов и интерферона) в очаге воспаления привлекает в этот район специализированные иммунные клетки. Цитокины не только активируют эти клетки, но и обеспечивают координированное взаимодействие между ними, их пролиферацию и дифференцировку, а макрофаги и дендритные клетки представляют презентированные на их поверхности антигены, обеспечивая таким образом развитие иммунного ответа [14]. Следовательно, рецепторы, связывающиеся с ПАМП, играют ключевую роль в функционировании врожденного иммунитета через активацию клеточного и гуморального иммунных ответов путем распознавания консервативных структур инфицирующих агентов [18, 19].
Рис. 1. Каскады иммунных реакций неспецифической системы защиты. LPS – липополисахариды; TLR4 и TLR5 – трансмембранные рецепторы; MyD88, TIRAP, TRAM, TRIF – молекулы-адаптеры; NFkB – универсальный фактор транскрипции; MAPK – митоген-активируемая протеинкиназа; ИФН-1 типа – интерферон первого типа.
Следует отметить, что рецепторы неспецифической системы защиты (врожденного иммунитета) высоко специфичны в распознавании компонентов бактериальной клеточной стенки. Так, например, ТLR2 и ТLR4 в качестве лигандов используют липополисахариды и липотейхоевые кислоты, TLR9 – CpG DNA, TLR5 – флагеллин и т.д. [17]. NOD-like рецепторы (семейство цитоплазматических белков-сенсоров) опознают бактериальные пептидогликаны патогенов [22]. Лектиновые рецепторы C-типа (CLRs) – семейство трансмембранных рецепторов с характерными углевод-связывающими доменами – способны опознавать полисахариды вирусов, бактерий и грибов, тогда как семейство RLR-рецепторов опознают геномную РНК и дцРНК вирусов [20].
Дендритные клетки и макрофаги способны поглощать патоген (это явление известно как фагоцитоз) и представлять его антигены на поверхности мембраны, активируя систему специфической иммунной защиты. Важно подчеркнуть, что группа клеток, принимающая участие в реализации первой линии защиты от внедрения в организм патогенов, весьма многочисленна. Помимо вышеупомянутых, к этой группе относятся также моноциты, нейтрофиллы, базофиллы, эозинофиллы, тучные клетки и натуральные киллеры. Многие из этих клеток способны к фагоцитозу и таким образом уничтожают чужеродные агенты, тогда как натуральные киллеры (NK-клетки) способны уничтожать клетки организма, инфицированные вирусом или внутриклеточной бактерией.
Описанные в общем виде механизмы, запускающие каскады реакций неспецифической защиты, являющиеся первой линией обороны организма от внедрения инфекции, дают представление о передаче сигналов опасности, запуске каскадов иммунных реакций в клетке и модуляции иммунного ответа. Следовательно, при разработке и создании субъединичных вакцин молекулы, включающие молекулярные метки в виде ПАМП, а также молекулы цитокинов, могут служить потенциальными источниками в качестве компонентов, усиливающих ответ на специфический антиген.
Система специфической иммунной защиты эволюционно является более молодой. Эта система нацелена на развитие приобретенного или адаптивного иммунитета и ее особенность состоит в высокоспецифичном распознавании чужеродных агентов, т.е. специфических антигенов, а не инфекции в целом, а также способности формировать “депо памяти” о них, которое может быть активировано при повторном инфицировании соответствующим патогеном. В отличие от неспецифической защиты данная система сохраняется только в течение онтогенеза организма и не наследуется.
Основными “игроками”, обеспечивающими формирование второй линии защиты организма от вторжения чужеродных агентов, является группа высокоспециализированных клеток под общим названием лимфоциты. Эта группа клеток включает Т-лимфоциты, формирующиеся в тканях тимуса из незрелых Т-0 клеток, поступающих в тимус из костного мозга, и В-лимфоциты, созревающие в костном мозге из клеток В-0 (рис. 2). Благодаря чрезвычайно высокой степени вариабельности рецепторов, расположенных на их поверхности, реализуется уникальная особенность системы специфической иммунной защиты в распознавании огромного множества представляемых ей антигенов. Т- и В-лимфоциты различаются между собой как по механизмам активации и созревания, так и по выполняемым функциям, что послужило причиной условного разделения реакций адаптивного иммунитета на два звена – клеточное и гуморальное. Каскады клеточного звена иммунитета активируют макрофаги, натуральные киллеры, антиген-специфичные цитотоксические Т-лимфоциты, т.е. защитные функции иммунной системы реализуются субпопуляциями специфических клеток. Гуморальное звено иммунитета связано с формированием антител, защитные функции которых реализуются в плазме крови, т.е. во внеклеточном пространстве. Антигены, как правило, содержат как клеточные, так и гуморальные эпитопы (антигенные детерминанты) – участки антигена, которые распознаются иммунной системой.
Рис. 2. Инициация и развитие клеточного и гуморального звеньев специфической системы защиты: а – реакции клеточного иммунитета; б –реакции гуморального иммунитета. Аг – антиген; АПК – антигенпрезентирующая клетка; MHCI/II – главный комплекс гистосовместимости типов I или II; TCR – T-клеточный рецептор; Т-0 – незрелая T-клетка; T-CD4+ – Т-клетка с корецептором CD4; T-CD8+ – Т-клетка с корецептором CD8; Тк – Т-киллер; Тх – Т-хелпер; Ткп – Т-клетка памяти; В-0 – незрелая В-клетка; slgIgM – мембранная форма IgM; В – активированная В-клетка; ПК – плазматическая клетка; КП – клетка памяти; IgG – антитела G в растворимой форме; ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-5, ИЛ-10, ИНФγ – цитокины, влияющие на каскады клеточного и гуморального иммунитета.
На рис. 2 представлены основные этапы формирования клеточного и гуморального звеньев системы специфической иммунной защиты. Следует подчеркнуть, что несмотря на то, что оба звена этой системы тесно связаны между собой, они способны распознавать “свои” (условно клеточные или гуморальные) специфические участки антигена или антигенные детерминанты (эпитопы) и формировать специфические ответные реакции. Антигены распознаются антигенпрезентирующими клетками, которые процессируют антиген и представляют его в виде пептидов на своей поверхности Т-клеткам (рис. 2а). Процессинг антигена осуществляется в комплексе с молекулами главного комплекса гистосовместимости (MHCI или MHCII). С MHC I взаимодействуют эндогенные пептиды белков, синтезируемых внутри клетки, например, при ее заражении вирусом. С MHC II связываются экзогеные антигены, которые попадают в клетку с помощью опосредованного рецепторами эндоцитоза. Представленные на поверхности антигенпрезентирующих клеток комплексы распознаются Т-клетками, которые связываются с ними посредством Т-клеточного рецептора (TCR). Последующая антиген-специфическая активация Т-клеток происходит через стабилизацию ко-рецепторами CD4+\ CD8+. Т-клетки, несущие корецептор Т-CD4+, пролиферируют и дифференцируются в T-хелперы, а Т-CD8+ – в цитотоксические лимфоциты (Т-киллеры). Т-киллеры способны узнавать клетки мишени и осуществлять их лизис [23]. Цитокины, синтезируемые Т-хелперами, активируют и запускают дифференцировку В-лимфоцитов (ИЛ-3, ИЛ-5, ИЛ-10), обеспечивая связь между обоими звеньями специфической иммунной защиты, а также регулируют цитотоксические ответы (ИЛ-2, ИНФγ). Для обеспечения долговременной защиты организма и быстрого развертывания иммунного ответа на вторичное инфицирование формируются Т-клетки памяти (Ткп), которые способны долгое время сохраняться в организме и передавать информацию об антигене другим клеткам [24].
Реакции гуморального иммунитета инициируются при встрече незрелого В-лимфоцита (В-0) с антигеном, эпитоп которого связывается с мембранной формой IgM - slgIgM на клеточной поверхности (рис. 2б). В-0 клетка после связывания с антигеном активируется при участии Т-хелперов и дифференцируется в плазматические клетки (ПК), способные синтезировать антитела. Важно отметить, что синтез антител В-клетками может быть усилен цитокинами, что подчеркивает влияние клеточного звена на гуморальное [23]. Продолжительность жизни каждой зрелой В-клетки (ПК) составляет всего несколько дней, в течение которых ею синтезируются антитела уникальной специфичности. Антитела являются рецепторами В-клеточных эпитопов. Некоторые активированные В-клетки способны переходить в стадию малых лимфоцитов, являющихся долгоживущими клонами В-клеток и получивших название клеток памяти (КП). Эти клетки обеспечивают быстрый синтез большого количества антител при повторном введении того же антигена.
Итак, при реализации системы специфической иммунной защиты организма важную роль играет ее способность к распознаванию огромного числа антигенных детерминант (эпитопов). Следовательно, эффективность рекомбинантной вакцины для индукции и формирования ответных защитных реакций организма в значительной мере будет определяться представлением наиболее эффективных эпитопов на поверхности искусственно созданной молекулы, имитирующей патоген. Таким образом, при создании субъединичных вакцин для формирования надежного иммунитета необходимо подбирать антигены, которые бы включали как Т-, так и В-клеточные эпитопы.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ РЕКОМБИНАНТНЫХ ВАКЦИН
Создание искусственных рекомбинантных молекул, способных имитировать патоген, базируется на четких представлениях об особенностях строения и организации того или иного патогена, а также ответных реакциях на его внедрение со стороны иммунной системы организма. Так, например, при создании противовирусных вакцин учитываются особенности строения вирусного капсида, поскольку именно капсидные белки контактируют непосредственно с клетками организма. Именно к отдельным участкам поверхностных белков (эпитопам) эволюционно сформированы рецепторы на поверхности клеток организма, контактирующих с вирусом. Наличие в арсенале современных исследователей мощных возможностей секвенирования геномов патогенов и создания биоинформатических баз данных их нуклеотидных последовательностей позволяет получать сведения о белках, способных к индукции иммунных ответных реакций организма. С другой стороны, развитие современных методов молекулярной биологии обеспечивает исследователей инструментами не только для клонирования нуклеотидных последовательностей из геномов любых организмов, но и для сборки из них сложных рекомбинантных молекул, включающих, в том числе, последовательности, обеспечивающие сворачивание кодируемых рекомбинантных белков в вирусоподобные частицы. Такие вирусоподобные частицы представляют собой “искусственные вирусы”, лишенные генетического аппарата (РНК или ДНК). При попадании в клетку они лишь только имитируют вирус, но не способны реплицироваться. Этот принцип конструирования рекомбинантных вакцин представляется как наиболее перспективный для усиления их иммуногенности [25]. Более полную информацию о перспективах создания рекомбинантных вакцин в виде вирусоподобных частиц, синтезируемых, в том числе, и в растительных системах экспрессии, можно найти в обзоре [26].
Рассмотрим в качестве примеров особенности создания рекомбинантных вакцин, синтезируемых на основе растительных платформ экспрессии, нацеленных на индукцию ответных иммунных реакций организма при его заражении различными типами патогенов.
Вирусы гриппа. Вирусы гриппа относятся к роду Orthomyxoviridae и способны инфицировать и вызывать заболевания у птиц, рыб и млекопитающих. Геном этих вирусов представлен одноцепочечной фрагментированной “минус”-цепью РНК. С точки зрения здравоохранения, наиболее агрессивными считаются вирусы гриппа серотипов А и В. Именно они вызывают крупные вспышки заболеваний в популяциях человека. Гемагглютинин (HA) и нейраминидаза (N) как поверхностные белки вирусного капсида являются его антигенами, индуцирующими продукцию специфических защитных антител, а также определяют подтип вируса. Антигенными свойствами обладает и внеклеточный домен трансмембранного белка М2 (М2е-пептид).
Наиболее успешным способом предотвращения вспышек заболеваний, вызываемых вирусом гриппа, несомненно, служит вакцинация. Поскольку вирусы гриппа подвержены непрерывным генетическим и антигенным изменениям, ВОЗ проводит постоянный мониторинг циркулирующих штаммов и дважды в год публикует рекомендации по составу вакцин (для Северного и для Южного полушария). Таким образом, производители вакцин стоят перед проблемой корректировки антигенного состава вакцин практически ежегодно. Для решения этой проблемы многие исследовательские коллективы и фармакологические компании ведут разработку универсальных противогриппозных вакцин [27, 28].
В настоящее время для профилактики гриппа доступны лицензированные инактивированные (убитые), аттенуированные (ослабленные) трех- и четырехвалентные вакцины, включающие вирусные компоненты из двух штаммов вируса гриппа А и одного штамма гриппа В, либо дополнительный вирус В, а также рекомбинантные вакцины. Для получения субъединичных вакцин используются вирусные белки, геммаглютинин и нейраминидаза, которые частично очищаются после химической обработки или расщепления детергентами [29]. В связи с тем, что получение рекомбинантных вакцин против гриппа представляется перспективным направлением, обеспечивающим мобильность в ответных реакциях на вирусную изменчивость, актуальной становится и проблема наработки отдельных вирусных компонентов в альтернативных системах экспрессии. Так, например, рекомбинантная субъединичная вакцина на основе гемагглютинина была получена в клетках насекомых [30].
Применение растительных систем экспрессии в качестве альтернативных для наработки отдельных компонентов генома вируса гриппа, кодирующих поверхностные белки-иммуногены, стало весьма привлекательным после разработки транзиентной системы экспрессии рекомбинантных белков [31]. Подтверждением перспективности данной системы экспрессии для обеспечения быстрой вакцинации населения и защиты от вспышек заболеваний послужили работы D’Aoust с соавт. [32], когда в растениях N. benthamiana были наработаны большие количества (50 мг/кг) антигенов из штаммов вируса гриппа H5N1 (AIV) и H1N1 (человек) менее чем за 3 недели с момента выделения вирусной последовательности. Именно сжатые сроки производства белков и быстрое масштабирование открывают большие возможности для производства крупных партий вакцин, особенно при необходимости экстренного реагирования.
При разработке кандидатных противогриппозных вакцин, получаемых в растительных системах экспрессии, в качестве антигенов применяют гемаглютинин и консервативный М2е-пептид [33]. Для усиления иммуногенного ответа используют прием представления иммунной системе антигена в виде вирусоподобных частиц [34], в т.ч. химерных. В состав таких химерных вирусоподобных частиц могут быть включены геммаглютенины сразу нескольких штаммов вируса гриппа, что значительно расширяет спектр действия вакцины [35]. Именно такая квадривалентная рекомбинантная вакцина (QVLР) против сезонного гриппа, включающая гемагглютинины диких штаммов, синтезируемые в растительных клетках (N. benthamiana) и собирающиеся в иммуногенные вирусоподобные частицы, была создана компанией “Medicago Inc.” (Канада). В ходе клинических испытаний этой вакцины выявлена высокая иммуногенность и сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ [36].
Для усиления иммуногенного ответа может быть использован флагеллин жгутиков простейших, способный к самосборке в вирусоподобную частицу. Рекомбинантные антигены вируса гриппа А, слитые с флагеллином на С-конце белковой молекулы и наработанные в транзиентной системе экспрессии N. benthamiana, формировали сильный антительный иммунный ответ [33].
Коронавирусы. Вспышка нового варианта коронавирусной инфекции, известной как COVID-19, произошла в конце 2019 г. в Китае, в г. Ухань, и была вызвана вирусом SARS-CoV-2. Данный вариант вируса характеризуется высокой степенью изменчивости и, как показывает сложившаяся ситуация по различным регионам Земного шара, способен приводить к прогрессирующему распространению инфекции в человеческой популяции и становиться причиной возникновения эпидемий. На данный момент времени на сайте ВОЗ можно найти информацию о состоянии завершенных разработок по созданию вакцин против SARS-CoV-2 [37]. В большей части работ по созданию этих вакцин разработчиками в качестве основы был использован иммуногенный белок S-1 коронавируса, представляемый иммунной системе разными путями [38]. Представляют интерес вакцины на основе рекомбинантных белков или пептидов. В качестве кандидатов на антигены при создании вакцин против SARS-CoV-2 рассматриваются полноразмерные белки или домены белков S, M и N. Для повышения иммуногенности таких белков дополнительно используют включение эпитопов, распознаваемых Т- и В-клетками иммунной системы [39]. Наиболее полно стратегии создания вакцин против SARS-CoV-2 и современное состояние исследований в этой области представлено в обзоре [40].
Следует отметить привлекательность растительных систем экспрессии для биотехнологического производства вакциногенных белков против COVID-19, прежде всего, по причине мобильности организации такого производства [41, 42]. Всесторонне обсуждаются возможности приложения уже существующих биотехнологических разработок для создания субъединичных вакцин на основе растительных систем экспрессии [43, 44]. Имеющиеся разработки по созданию растительных вакцин против гриппа на основе вирусоподобных частиц также легли в основу разработки вакцин против COVID-19 [45, 46]. Разработчики вакцин “Medicago Inc.” (Канада) использовали подход заякоревания рекомбинантного белка S-1 в липидной оболочке вирусоподобной частицы, сформированной из клеточной мембраны N. benthamiana [47]. Кандидатная вакцина, полученная на основе растительной системы экспрессии, успешно прошла две фазы клинических испытаний на добровольцах [48, 47] и находится в третьей фазе; более того, компанией заявлено формирование высоких титров антител у испытуемых.
В основу другой вакцины (KBP-201) против SARS-CoV-2, разработанной компанией “Kentuky Bioprocessing” (США), положено два компонента – вирусоподобная частица, образуемая белком вируса табачной мозаики, и рецепторсвязывающий домен (receptor-binding domain, RBD) S-белка. Оба эти компонента были совместно синтезированы в транзиентной системе N. benthamiana и затем химически сшиты в процессе очистки. Для повышения стабильности вакцины KBD-201 последовательность RBD белка S была слита с Fc-доменом IgG1 человека, а также с пептидом экстенсина N. benthamiana, обеспечивающим секрецию рекомбинантного белка в апопласт [49].
Вирус папилломы человека. Вирус папиломы человека (ВПЧ) является безоболочечным ДНК-вирусам семейства Papillomaviridae [50]. Выделено несколько десятков типов ВПЧ, которые условно разделены на три группы – с высокой, средней и низкой степенями риска развития онкологических заболеваний. ВПЧ относится к строго эпителиотропным типам, поскольку при проникновении в организм поражает базальный слой эпителия, тогда как в других слоях он способен только персистировать. Как и большинство ДНК-содержащих вирусов, ВПЧ также интегрирует часть своего генома в геном человека. Жизненный цикл вируса в организме хозяина при его заражении ВПЧ протекает в два этапа. Наиболее важным моментом первого этапа является активация генов, кодирующих белки Е6 и Е7, которые блокируют ключевые этапы деления клеток эпителия в месте проникновения вируса, инициируя их неконтролируемое деление с образованием папиллом. Второй этап жизненного цикла ВПЧ связан с экспрессией генов L1 и L2, кодирующих белки, отвечающие за сборку капсида. Вирусы папилломы человека разработали стратегии, позволяющие уклоняться от иммунной системы и создавать оптимальные условия для сохранения в организме хозяина в течение многих лет. Установлено, что доля онкологических заболеваний, связанных с ВПЧ, составляет около 5% [51].
Современные вакцины против ВПЧ являются профилактическими, они достаточно эффективны для предотвращения инфекций и неопластических заболеваний, однако не способны устранять ВПЧ, персистирующие в организме инфицированного человека. Именно это обстоятельство обуславливает разработку не только профилактических, но и терапевтических вакцин против ВПЧ. Основное назначение терапевтических вакцин состоит в запуске клеточного звена иммунитета, нацеленного на лечение уже имеющихся в организме ВПЧ и злокачественных новообразований [52]. В связи с этим особое значение имеет разработка противораковых вакцин, вызванных ВПЧ [53, 54].
В настоящее время существует три коммерчески доступные вакцины для профилактики ВПЧ: Cervarix® (“GlaxoSmithKline”, Великобритания), Gardasil®4 и Gardasil®9 (“Merck & Co”, США). Все они поливалентны и являются смесью очищенных капсидных белков L1, полученных от ВПЧ различных типов с использованием технологии рекомбинантных ДНК. Белок L1 наиболее консервативен из всех белков ВПЧ; более того, он способен формировать вирусоподобные частицы [52]. Именно поэтому он был выбран в качестве иммуногена при разработке рекомбинантных профилактических вакцин, представляющих собой вирусоподобные частицы, каждая из которых содержит белки L1 из разных типов вирусов. В результате вакцинации в организме образуются нейтрализующие антитела к белку L1, которые связываются с вирусными частицами и блокируют их проникновение в эпителиальные клетки организма. Установлено, что даже однократной вакцинации профилактическими вакцинами вполне достаточно для защиты от тех типов ВПЧ, против которых они были разработаны [55, 56]. Следует подчеркнуть, что ген, кодирующий белок L1, не экспрессируется на первой стадии жизненного цикла ВПЧ, поэтому профилактические вакцины, в основе которых использован белок L1, не способны устранять уже существующие инфекции [57, 58].
Разработки профилактических вакцин продолжаются, и на различных стадиях клинических испытаний сейчас находятся не менее пяти вакцин против ВПЧ [59]. Однако профилактические вакцины, нацеленные на гуморальные ответы иммунной системы, не приносят пользы людям, в организме которых персистирует ВПЧ. Для таких пациентов необходимо развивать другие подходы вакцинирования, нацеленные на формирование клеточного иммунитета, связанного с формированием Т-хелперов первого типа и цитотоксических Т-клеток, образующихся из CD4 + и CD8 + Т-клеток, соответственно [60]. Для разработки терапевтических вакцин используются белки Е6 и Е7, которые относятся к онкобелкам [61], а также белки Е1 и Е2, синтезируемые на первой стадии жизненного цикла вируса до его интеграции в геном клетки-хозяина [62, 63].
Необходимо отметить, что существующие методы наработки вакцин сопряжены с получением дорогостоящих продуктов [64], которые могут быть недоступными для стран с низкими доходами населения и высокой степенью его инфицирования ВПЧ. В качестве одного из путей решения данной проблемы может быть использование растительных систем экспрессии для наработки рекомбинантных белков, используемых для производства вакцин против ВПЧ [54]. Установлено, что L1-белок, нарабатываемый в транзиентной системе экспрессии (N. benthamiana), а также в хлоропластах транспластомных растений табака, образовывал вирусоподобные частицы, способные нейтрализовать гомологичные псевдовирионы ВПЧ [65, 66]. Наиболее полный список экспериментальных кандидатных вакцин против ВПЧ, синтезируемых в растительных системах экспрессии, приведен в обзоре B. Shanmugaraj с соавт. [54]. Другой многообещающей стратегией является разработка с использованием иммуноинформационных инструментов и вычислительных подходов мультиэпитопных или пептидных вакцин, способных стимулировать как гуморальный, так и клеточный иммунитет. Установлено, что такие искусственно созданные мультиэпитопные рекомбинантные молекулы, синтезируемые в растительной системе экспрессии и рассматриваемые в качестве кандидатов против ВПЧ, способны подавлять рост опухолей у животных [67].
Вирус гепатита B. Вирус гепатита B (ВГВ), вызывающий при заражении человека острые воспалительные поражения печени, которые могут перейти в хроническую форму вплоть до летального исхода, относится к семейству Hepadnaviridae. Несмотря на то, что около 257 млн человек в настоящее время заражены ВГВ [68], это заболевание поддается профилактике посредством безопасных, доступных и эффективных вакцин. Разработанные вакцины имеют в основе три иммуногенных белка, являющихся компонентами белковой оболочки вируса: короткий (S или HBsAg), средний (M или preS2-HBsAg) и большой (L или preS1-preS2-HBsAg). Эти вакцины, демонстрирующие хорошие результаты по формированию клеточного и гуморального иммунитета, применяются не только как профилактические, но и как терапевтические для лечения носителей ВГВ [69]. Для получения рекомбинантных вакцин против ВГВ используют системы экспрессии на основе дрожжей [70], клеток яичника китайского хомячка (СНО) [71].
Первым антигеном, полученным в растительной системе экспрессии для вакцинации человека в виде инъекций, а также для пероральной иммунизации, был S-антиген вируса гепатита В [2, 72, 73]. Установлено, что HBsAg, синтезируемый в растительных клетках, способен собираться в вирусоподобные частицы [74], при введении которых в организме формировались ответные иммунные реакции [75, 76]. История развития работ по созданию вакцин против ВГВ с использованием растительных систем экспрессии подробно представлена в обзоре [77].
Перспективной стратегией в области создания рекомбинатных вакцин против ВГВ является получение рекомбинантных химерных (слитых) белков, состоящих из фрагментов S, M и L вариантов HBsAg. Химерный белок, в котором preS1 из L варианта был встроен в антигенную петлю S HBsAg, сохранял способность к формированию вирусоподобных частиц и проявлял более высокую иммуногенность при иммунизации мышей по сравнению с S вариантом [78, 79]. Таким образом, высоко эффективная иммунизация препаратами растительного происхождения, включающими рекомбинантные HBsAg антигены, является толчком к развитию альтернативного источника получения простых в производстве и удобных для доставки в организм теплокровных растительных рекомбинантных вакцин.
Норовирусы. Причиной желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы в большинстве случаев являются норовирусы, принадлежащие к семейству Calciviridae. На данный момент не существует коммерчески доступной эффективной вакцины, с помощью которой можно было бы защитится от этой вирусной инфекции, однако над созданием такой вакцины исследователи активно работают с использованием в качестве систем экспрессии клетки животных [80] и растений [81– 83].
Для разработчиков вакцин наибольший интерес представляют самые распространенные штаммы норовируса GI и GII, выявляющиеся у подавляющего числа заболевших [83]. Вирион норовируса состоит из 90 димеров основного капсидного белка VP1, способного спонтанно формировать вирусоподобные частицы. При создании рекомбинантных вакцин именно этот белок используется в качестве основного иммуногена, тогда как для усиления степени защиты от разных штаммов норовируса применяют подход включения в вирусоподобную частицу разных мономеров и формирования смеси вирусоподобных частиц (например, NoV GI.1 + GII) [83]. Такая бивалентная кандидатная вакцина, наработанная в клетках животных, в целом оказалась хорошо переносимой и иммуногенной в различных группах людей [80].
Первые попытки экспрессии VP1 норовирусов в растительных системах были связаны с появлением идеи “съедобных вакцин”. Поскольку норовирусы размножаются в клетках желудочно-кишечного тракта и сталкиваются там с мукозальной иммунной системой, при пероральном введении иммуногена ожидается формирование наиболее адекватного иммунного ответа организма. Гены капсидных белков норовирусов были экспрессированы в табаке и клубнях картофеля [81], а также в плодах томатов [82]. Эти исследования подтвердили концепцию использования трансгенных растений в качестве растительных вакцин как безопасной и дешевой системы производства и доставки для развивающихся стран. Наибольшего успеха в создании кандидатной вакцины против норовирусов в растительных системах к настоящему времени достигли D.Tusе с соавт. [83]. Эта вакцина производится в транзиентной системе экспрессии N. bentamiana на платформе magnICON (“Icon Genetics”, Германия) и представляет собой неадъювантную, рекомбинантную двухвалентную композицию антигенов GI.4 + GII.4, формирующих вирусоподобные частицы, обозначенные как “rNV-2v”. Показано, что этот препарат не токсичен, безопасен для людей, а также способен формировать надежный иммунный ответ [84].
РЫНОК СОВРЕМЕННЫХ РЕКОМБИНАНТНЫХ ВАКЦИН РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Растущий в последние десятилетия спрос на фармацевтически ценные рекомбинантные белки послужил мощным стимулом для развития различных экспрессионных систем, включая системы на основе растений. Достижения последнего десятилетия в их разработке обеспечили привлекательную альтернативную платформу для получения рекомбинантных белков, в т.ч. в промышленных масштабах.
Первой одобренной растительной вакциной стала вакцина против вируса ньюкаслской болезни птиц (NDV) (“Dow Agrosciences”, США). Вакцина на 90% предотвращала заражение NDV [85] и была одобрена Министерством сельского хозяйства США в 2006 г. Компания не стала продолжать развитие своего продукта, но это событие открыло путь для коммерческого производства растительных вакцин. В настоящее время разработкой и испытанием рекомбинантных вакцин занимается ряд биотехнологических компаний. Большая часть перспективных для промышленности вакцин растительного происхождения получены в виде вирусоподобных частиц [86]. В таблице 1 приведены компании, которые в последние годы создали наиболее коммерчески перспективные кандидатные или уже одобренные вакцины растительного происхождения.
Таблица 1. Биотехнологические компании, разрабатывающие рекомбинантные вакцины растительного происхождения
Компания | Платформа | Кандидатные вакцины/ вакцины | Фаза клинических испытаний | Ссылки |
“Kentucky BioProcessing, Inc.”, США (https://kbio.com/) | Транзиентная экспрессия, N. benthamiana | Вакцина против сезонного гриппа | 1 | [87] |
Вакцина против SARS-CoV-2 | 1 | |||
Вакцина против пандемического гриппа | Доклинические испытания | |||
“Medicago Inc.”, Канада (https://www.medicago.com/en/) | VLPExpress™ system Транзиентная экспрессия в N. benthamiana | Вакцина против сезонного гриппа QVLP | Регистрация | |
Вакцина против SARS-CoV-2 | 3 | |||
Вакцина против пандемического гриппа | 2 | |||
Комбинированная вакцина против сезонного и пандемического гриппа | 1 | |||
Вакцина против ротавируса | 1 | |||
“Icon Genetics”, Германия подразделение “Denka Co., Ltd.”, Япония (https://www.icongenetics.com/) | magnICON® Агроинфильтрация N. benthamiana | Вакцина против норовируса | 1* | [84] |
“iBio Biotherapeutics” (ранее “Caliber Biotherapeutics”), США www.ibioinc.com | FastPharming® System’s Агроинфильтрация N. benthamiana | Вакцина против чумы свиней “IBIO-400” | регистрация в Министерстве сельского хозяйства США | [88] |
Вакцина против SARS-CoV-2 “IBIO-201” | доклинические и токсикологические испытания завершены | |||
Вакцина против SARS-CoV-2 “IBIO-202” | доклинические испытания | |||
“Bioapp”, Южная Корея (http://bioapp.co.kr/) | Трансгенные N. benthamiana | Вакцина против чумы свиней “HERBAVACTM CSF Green Marker” | одобрена для применения в Корее |
* – https://www.icongenetics.com/icon-genetics-clinical-development-of-its-novel-norovirus-vaccine-reaches-milestone-of-complete-dosing-of-the-first-cohort/
Наибольших успехов в продвижении вакцин на рынке достигла “Bioapp” (Южная Корея). Их инъекционная вакцина против чумы свиней “HERBAVACTM CSF Green Marker” прошла все фазы клинических испытаний. Было показано, что привитые свиноматки и поросята имели высокий титр антител в течение 100 дней, а при их заражении вирусом не проявляли клинических симптомов заболевания. Эта вакцина доступна на южнокорейском рынке [89, 90].
На данный момент две вакцины ждут регистрации от национальных регуляторов. Компания “Medicago Inc.” на платформе VLPExpress™ system создала вакцину QVLP против сезонного гриппа, которая успешно прошла все фазы клинических испытаний в Канаде. В испытаниях третьей фазы участвовали 10160 человек (5077 человек получили вакцину, 5083 человек получили плацебо), на данный момент это самые широкомасштабные испытания на людях вакцин растительного происхождения. Показано, что вакцина QVLP может обеспечить существенную защиту от симптомов, вызываемых вирусами гриппа у взрослых. Также QVLP оказалась достаточно безопасной, т.к. хорошо переносилась участниками испытаний. Вакцина против чумы свиней “IBIO-400” компании “iBio Biotherapeutics” (США), созданная на платформе FastPharming® System’s, также прошла все испытания, и ждет регистрации Министерством сельского хозяйства США. Эта вакцина эффективно предотвращает заражение животных и при этом формирует мощный гуморальный ответ [88].
Пандемия COVID-19 стала вызовом для всех производителей вакцин. Биотехнологические компании, занимающиеся разработкой вакцин растительного происхождения, также отреагировали на этот вызов. В настоящее время на разных стадиях испытаний находятся 4 таких вакцины против SARS-CoV-2: кандидатная вакцина компании “Kentucky BioProcessing Inc.” находится на первой стадии клинических испытаний, вакцины “IBIO-201” и “IBIO-202” (“iBio Biotherapeutics”) только готовятся к первой фазе, кандидатная вакцина SARS-CoV-2 (“Medicago Inc.”) находится в третей фаза клинических испытаний (табл. 1) [91].
Ранее так же сообщалось о том, что первые фазы клинически испытаний проходят ряд кандидатных рекомбинантных вакцин растительного происхождения [92]. Среди них, например, съедобная вакцина против гепатита В, синтезируемая в тканях латука [73] и клубнях картофеля [93], съедобная вакцина против холеры, накапливаемая в зернах риса [94, 95], и съедобная вакцина против бешенства в шпинате [96]. Следует отметить, что часть из вышеперечисленных работ не получила дальнейшего развития.
Консалтинговая фирма Coherent Market Insights оценивает мировой рынок вакцин на растительной основе в 43.7 млн долларов США в 2021 г. Кроме того, этой фирмой прогнозируется среднегодовой темп роста 49.9% в период 2021–2028 гг. (https://www.globenewswire.com/news-release/20291/06/04/2242076/0/en/Global-Plant-based-Vaccines-Market-to-Surpass-US-584-1-Million-by-2028-Says-Coherent-Market-Insights-CMI.html). Необходимо подчеркнуть, что вакцины растительного происхождения, нацеленные для профилактики вируса гриппа и коронавируса, продемонстрировали более высокую безопасность и эффективность по сравнению с традиционными [8, 36]. Разработка нановакцин – вакцин, в которых компоненты могут иметь гетерологическое происхождение и которые объединяются на одной из стадии производства, – позволит расширить и рынок растительных рекомбинантных компонентов для создания вакцин [97]. Кроме того, по разным оценкам стоимость, выходящих на рынок фармацевтических препаратов, полученных из растительных систем экспрессии, ниже, как минимум, на десятки процентов, чем полученных в других системах экспрессии [98, 99]. Таким образом, рынок рекомбинантных вакцин растительного происхождения находится в начальной точке своего развития и, по-видимому, в ближайшие годы следует ожидать появления новых компаний и препаратов на этом рынке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Привлекательность растительных систем экспрессии для наработки рекомбинантных белков, в т.ч. антигенов, выделенных из различных типов возбудителей заболеваний, обеспечивается низкой стоимостью по сравнению с другими системами экспрессии. Растительные системы рассматриваются в настоящее время не только как биофабрики для наработки сложных биологических молекул, сконструированных с применением методов генной инженерии, но и отдельных их частей, которые могут быть соединены впоследствии в полноценную активную молекулу с применением более простых химических методов. Важным преимуществом растений в получении биологически активных рекомбинантных белковых молекул является наличие разработанных условий круглогодичного их культивирования в помещениях закрытого типа с применением искусственного освещения, а также мобильность технологий получения желаемого количеств биологического материала в условиях начала пандемии. Особенно это важно при производстве достаточного количества вакцин в случае надвигающихся эпидемий, связанных с такими часто мутирующими возбудителями как вирусы гриппа или коронавирусы. Транскрипционно-трансляционная машина растений способна обеспечивать правильную сборку созданной разработчиками вакцин рекомбинантной молекулы, которая, в случае необходимости, способна собираться в вирусоподобную частицу, обеспечивая при этом концентрацию иммуногенов на ее поверхности, предоставляемых иммунной системе. При рассмотрении особенностей конструирования рекомбинантных молекул, нацеленных на защиту человека и животных от различных инфекционных заболеваний вирусного происхождения на примере различных типов вирусов (гриппа, коронавирусов, вируса папиломы человека, вируса гепатита В и норовирусов), наше внимание было направлено на перспективность разработки и использования растительных систем экспрессии для производства рекомбинантных вакцин.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования (грант № FWNR-2022-0022).
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Авторы Уварова Е.А. и Белавин П.А. внесли одинаковый вклад в эту работу.
About the authors
Е. А. Уварова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук”
Author for correspondence.
Email: uvarova@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Новосибирск
П. А. Белавин
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук”
Email: uvarova@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Новосибирск
Н. В. Пермякова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук”
Email: uvarova@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Новосибирск
Е. В. Дейнеко
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук”
Email: uvarova@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Новосибирск
References
- Tacket C.O., Mason H.S., Losonsky G., Clements J.D., Levine M.M., Arntzen C.J. Immunogenicity in humans of a recombinant bacterial antigen delivered in a transgenic potato // Nat. Med. 1998. V. 4. P. 607. https://doi.org/10.1038/nm0598-607
- Mason H.S., Lam D.M., Arntzen C.J. Expression of hepatitis B surface antigen in transgenic plants // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1992. V. 89. P. 11745. https://doi.org/10.1073/pnas.89.24.1174
- Lai T., Yang Y., Ng S.K. Advances in mammalian cell line development technologies for recombinant protein production // Pharmaceuticals. 2013. V. 26. P. 579. https://doi.org/10.3390/ph6050579
- Nielsen J. Production of biopharmaceutical proteins by yeast: advances through metabolic engineering // Bioengineered. 2013. V. 4. P. 207. https://doi.org/10.4161/bioe.22856
- Tripathi N.K., Shrivastava A. Recent developments in bioprocessing of recombinant proteins: Expression hosts and process development // Front. Bioeng. Biotechnol. 2019. V. 20. P. 420. https://doi.org/10.3389/fbioe.2019.00420
- Kumar M., Kumari N., Thakur N., Bhatia S.K., Saratale G.D., Ghodake G., Mistry B.M., Alavilli H, Kishor D.S., Du X., Chung S.M. A Comprehensive overview on the production of vaccines in plant-based expression systems and the scope of plant biotechnology to combat against SARS-CoV-2 virus pandemics // Plants. 2021. V.15. P. 1213. https://doi.org/10.3390/plants10061213
- Gerszberg A., Hnatuszko-Konka K. Compendium on food crop plants as a platform for pharmaceutical protein production // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 17. P. 3236. https://doi.org/10.3390/ijms23063236
- Hager K.J., Pérez Marc G., Gobeil P., Diaz R.S., Heizer G., Llapur C., Makarkov A.I., Vasconcellos E., Pillet S., Riera F., Saxena P., Geller Wolff P., Bhutada K., Wallace G., Aazami H., et al. CoVLP study team. Efficacy and safety of a recombinant plant-based adjuvanted Covid-19 vaccine // N. Engl. J. Med. 2022. V. 2. P. 2084. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2201300
- Kurup V.M., Thomas J. Edible vaccines: Promises and challenges // Mol. Biotechnol. 2020. V. 62. P. 79. doi: 10.1007/s12033-019-00222-1
- Paradia P.K., Bhavale R., Agnihotri T., Jain A. A review on edible vaccines and biopharmaceutical products from plants // Curr. Pharm. Biotechnol. 2023. V. 24. P. 495. https://doi.org/10.1007/s12033-019-00222-1
- Sahoo A., Mandal A.K., Dwivedi K., Kumar V. A cross talk between the immunization and edible vaccine: Current challenges and future prospects // Life Sci. 2020. V. 15. P. 118343. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118343
- Debnath N., Thakur M., Khushboo, Negi N.P., Gautam V., Kumar Yadav A., Kumar D. Insight of oral vaccines as an alternative approach to health and disease management: An innovative intuition and challenges // Biotechnol. Bioeng. 2022. V. 119. P. 327. https://doi.org/10.1002/bit.27987
- Singhal D., Mishra R. Edible vaccine – an effective way for immunization // Endocr. Metab. Immune Disord. Drug Targets. 2023. V. 23. P. 458. https://doi.org/10.2174/1871530322666220621102818
- Global vaccine action plan 2011–2020. https://www.who.int/publications/i/item/global-vaccine-action-plan-2011-2020
- Kennedy J. Should childhood vaccinations be mandatory? // Perspect. Public Health. 2020. V. 140. P. 23. https://doi.org/10.1177/1757913919883303
- Moyle P.M. Biotechnology approaches to produce potent, self-adjuvanting antigen-adjuvant fusion protein subunit vaccines // Biotechnol. Adv. 2017. V. 35. P. 375. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2017.03.005
- Silva-Gomes S., Decout A., Nigou J. Pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) // Encyclopedia of Inflammatory Diseases/ Eds. M. Parnham. Basel: Birkhauser, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-0348-0620-6_35-1
- Akira S., Uematsu S., Takeuchi O. Pathogen recognition and innate immunity // Cell. 2006. V. 124. P. 783. https://doi.org/10.1016/j.cell.2006.02.015
- Iwasaki A., Medzhitov R. Regulation of adaptive immunity by the innate immune system // Science. 2010 V. 15. P. 291. doi: 10.1126/science.1183021
- Takeuchi O., Akira S. Pattern recognition Receptors and Inflammation // Cell. 2010. V. 140. P. 805. https://doi.org/10.1016/j.cell.2010.01.022
- Liew F.Y., Xu D., Brint E.K., O’Neill L.A. Negative regulation of toll-like receptor-mediated immune responses // Nat. Rev. Immunol. 2005. V. 5. P. 446. doi: 10.1038/nri1630
- Inohara, Chamaillard, McDonald C., Nuñez G. NOD-LRR proteins: role in host-microbial interactions and inflammatory disease // Annu. Rev. Biochem. 2005. V. 74. P. 355. https://doi.org/10.1146/annurev.biochem.74.082803.133347
- Upasani V, Rodenhuis-Zybert I, Cantaert T. Antibody-independent functions of B cells during viral infections // PLOS Pathog. 2021. V. 22. e1009708. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009708
- Rahimi R.A., Luster A.D. Chemokines: critical regulators of memory T cell development, maintenance, and function // Adv. Immunol. 2018. V. 138. P. 71. https://doi.org/10.1016/bs.ai.2018.02.002
- Rybicki E.P. Plant molecular farming of virus-like nanoparticles as vaccines and reagents // Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechn. 2020. V. 12. e1587. https://doi.org/10.1002/wnan.1587
- Rozov S.M., Deineko E.V. Recombinant VLP vaccines synthesized in plant expression systems: current updates and prospects // Molecular Biology. 2024. V. 58. P. 402. https://doi.org/10.1134/S0026893324700043
- Krammer F., Palese P. Universal influenza virus vaccines that target the conserved hemagglutinin stalk and conserved sites in the head domain // J. Infect. Dis. 2019. V. 8. P. 62. https://doi.org/10.1093/infdis/jiy711
- Sautto G. A., Kirchenbaum G. A., Ross T. M. Towards a universal influenza vaccine: Different approaches for one goal // Virol. J. 2018. V. 15. P. 17. https://doi.org/10.1186/s12985-017-0918-y
- Soema P.C., Kompier R., Amorij J.P., Kersten G.F.A. Current and next generation influenza vaccines: Formulation and production strategies // Eur. J. Pharm. Biopharm. 2015. V. 94. P. 251. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2015.05.023
- Dunkle L.M., Izikson R., Patriarca P., Goldenthal K.L., Muse D., Callahan J., Cox M.M.J. Efficacy of recombinant influenza vaccine in adults 50 years of age or older // N. Engl. J. Med. 2017. V. 376. P. 2427. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1608862
- Ward B.J., Makarkov A., Séguin A., Pillet S., Trépanier S., Dhaliwall J., Libman M.D., Vesikari T., Landry N. Efficacy, immunogenicity, and safety of a plant-derived, quadrivalent, virus-like particle influenza vaccine in adults (18–64 years) and older adults (≥65 years): two Multicentre, randomised phase 3 trials // Lancet. 2020. V. 396. P. 1491. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32014-6
- D’Aoust M.A., Couture M.M., Charland N, Trépanier S., Landry N., Ors F., Vézina L.P. The production of hemagglutinin-based virus‐like particles in plants: A rapid, efficient and safe response to pandemic influenza // Plant Biotechnol. J. 2010. V. 8. P. 607. https://doi.org/10.1111/j.1467-7652.2009.00496.x
- Blokhina E.A., Mardanova E.S., Stepanova L.A., Tsybalova L.M., Ravin N.V. Plant-produced recombinant influenza A virus candidate vaccine based on flagellin linked to conservative fragments of M2 protein and hemagglutintin // Plants. 2020. V. 9. P. 162. https://doi.org/10.3390/plants9020162
- Sohrab S.S., Suhail M., Kamal M.A., Husen A., Azhar E.I. Recent development and future prospects of plant-based vaccines // Curr.t Drug Metab. 2017. V. 18. P. 831. https:doi.org/10.2174/1389200218666170711121810
- Eidenberger L., Kogelmann B., Steinkellner H. Plant-based biopharmaceutical engineering // Nat. Rev. Bioeng. 2023. V. 1. P. 426. https:doi.org/10.1038/s44222-023-00044-6
- Ward B.J.; Séguin A., Couillard J., Trépanier S., Landry N. Phase III: randomized observer-blind trial to evaluate lot-to-lot consistency of a new plant-derived quadrivalent virus like particle influenza vaccine in adults 18–49 years of age // Lancet. 2021. V. 396. P. 1491. https:doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.004
- Status of COVID-19 vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process https:extranet.who.int/prequal/sites/default/files/document_files/Status_COVID_VAX_08AUgust2023.pdf
- Mamedov T., Yuksel D., Gurbuzaslan I., Gulec B., Mammadova G., Ozdarendeli A., Pavel S.T.I., Yetiskin H., Kaplan B., Uygut M.A., Hasanova G. SARS-CoV-2 spike protein S1 subunit induces potent neutralizing responses in mice and is effective against Delta and Omicron variants // Fron. Plant Sci. 2023. V. 14. https:doi.org/10.3389/fpls.2023.1290042
- Marian A.J. Current state of vaccine development and targeted therapies for COVID-19: impact of basic science discoveries // Cardiovasc. Pathol. 2021. V. 50. P. 107278. https:doi.org/10.1016/j.carpath.2020.107278
- Mathew D.S., Pandya T., Pandya H., Vaghela Y., Subbian S. An overview of SARS-CoV-2 etiopathogenesis and recent developments in COVID-19 vaccines // Biomolecules. 2023. V. 24. P. 1565. https:doi.org/10.3390/biom13111565
- Chattopadhyay A., Jailani A.A.K., Mandal B. Exigency of plant-based vaccine against COVID-19 emergence as pandemic preparedness // Vaccines. 2023. V. 11. P. 1347. https:doi.org/10.3390/vaccines11081347
- Abou Baker D.H., Hassan E.M., El Gengaihi S. An overview on medicinal plants used for combating coronavirus: Current potentials and challenges // J. Agricult. Food Res.. 2023. V. 13. P. 100632. https:doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100632
- Capell T., Twyman R.M., Armario-Najera V., Ma J.K., Schillberg S., Christou P. Potential applications of plant biotechnology against SARS-CoV-2 // Trends Plant Sci. 2020. V. 25. P. 635. https:doi.org/10.1016/j.tplants.2020.04.009
- Ma C., Su S., Wang J., Wei L., Du L., Jiang S. From SARS-CoV to SARS-CoV-2: safety and broad-spectrum are important for coronavirus vaccine development // Microbes Infect. 2020. V. 22. P. 245. https:doi.org/10.1016/j.micinf.2020.05.004
- Hodgins B., Pillet S., Landry N., Ward B.J. Prime-pull vaccination with a plant-derived virus-like particle influenza vaccine elicits a broad immune response and protects aged mice from death and frailty after challenge // Immun. Ageing. 2019. V. 16. P. 27. https:doi.org/10.1186/s12979-019-0167-6
- Makarkov A.I., Golizeh M., Ruiz-Lancheros E., Gopal A., Costas-Cancelas I.N., Chierzi S., Pillet S., Charland N., Landry N., Rouiller I., Wiseman P.W., Ndao M., Ward B.J. Plant-derived virus-like particle vaccines drive cross-presentation of influenza A hemagglutinin peptides by human monocyte-derived macrophages // NPJ Vaccines. 2019. V. 4. P 17. https:doi.org/10.1038/s41541-019-0111-y
- Ward B.J., Gobeil P., Séguin A., Atkins J., Boulay I., Charbonneau P.Y., Couture M., D’Aoust M.A., Dhaliwall J., Finkle C., Hager K., Mahmood A., Makarkov A., Cheng M.P., Pillet S. et al. Phase 1 randomized trial of a plant-derived virus-like particle vaccine for COVID-19 // Nat. Med. 2021. V. 27. P. 1071. https:doi.org/10.3390/life13030617
- Pillet S., Couillard J., Trépanier S., Poulin J.F., Yassine-Diab B., Guy B., Ward B.J., Landry N. Immunogenicity and safety of a quadrivalent plant-derived virus like particle influenza vaccine candidate-Two randomized Phase II clinical trials in 18 to 49 and 50 years old adults // PLOS One. 2019. V. 14. https:doi.org/10.1371/journal.pone.0216533
- Royal J.M., Simpson C.A., McCormick A.A., Phillips A., Hume S., Morton J., Shepherd J., Oh Y., Swope K., De Beauchamp J.L., Webby R.J., Cross R.W., Borisevich V., Geisbert T.W., Demarco J.K. et al. Development of a SARS-CoV-2 vaccine candidate using plant-based manufacturing and a tobacco mosaic virus-like nano-particle // Vaccines. 2021.V. 9. P. 1347. https:doi.org/10.3390/vaccines9111347
- Van Doorslaer K., Chen Z., Bernard H.U., Chan P.K.S., DeSalle R., Dillner J., Forslund O., Haga T., McBride A.A., Villa L.L., Burk R.D. Ictv report consortium. ICTV virus taxonomy profile: Papillomaviridae // J. Gen. Virol. 2018. V. 99. P. 989. https:doi.org/10.1099/jgv.0.001105
- Chabeda A., Yanez R.J.R, Lamprecht R., Meyers A.E., Rybicki E.P., Hitzeroth I.I. Therapeutic vaccines for high-risk HPV-associated diseases // Papillomavirus Res. 2018. V. 5 P. 46-58. https:doi.org/10.1016/j.pvr.2017.12.006
- Kirnbauer R., Booy F., Cheng N., Lowy D.R., Schiller J.T. Papillomavirus L1 major capsid protein self-assembles into virus-like particles that are highly immunogenic // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1992. V. 15. P. 12180. https:doi.org/10.1073/pnas.89.24.12180
- Wong-Arce A., González-Ortega O., Rosales-Mendoza S. Plant-made vaccines in the fight against cancer // Trends Biotechnol. 2017. V. 35. P. 241. https:doi.org/10.1016/j.tibtech.2016.12.002
- Shanmugaraj B., Malla A., Bulaon C.J.I., Phoolcharoen W., Phoolcharoen N. Harnessing the potential of plant expression system towards the production of vaccines for the prevention of human papillomavirus and cervical cancer // Vaccines. 2022. V. 10. P. 2064. https:doi.org/10.3390/vaccines10122064
- Barnabas R.V., Brown E.R., Onono M.A., Bukusi E.A., Njoroge B., Winer R.L., Galloway D.A., Pinder L.F., Donnell D., Wakhungu I., Congo O., Biwott C., Kimanthi S., Oluoch L., Heller K.B. et al. Efficacy of single-dose HPV vaccination among young African women // NEJM Evid. 2022. V. 1. EVIDoa2100056. https:doi.org/10.1056/EVIDoa2100056
- Reyburn R., Tuivaga E., Ratu T., Young S., Garland S.M., Murray G., Cornall A., Tabrizi S., Nguyen C.D., Jenkins K., Tikoduadua L., Kado J., Kama M., Rafai E., Devi R. et al. A single dose of quadrivalent HPV vaccine is highly effective against HPV genotypes 16 and 18 detection in young pregnant women eight years following vaccination: a retrospective cohort study in Fiji // Lancet Reg. Health West. Pac. 2023. V. 14. P. 100798. https:doi.org/10.1016/j.lanwpc.2023.100798
- Hildesheim A., Gonzalez P., Kreimer A.R., Wacholder S., Schussler J., Rodriguez A.C., Porras C., Schiffman M., Sidawy M., Schiller J.T., Lowy D.R., Herrero R. Costa Rica HPV Vaccine Trial (CVT) Group. Impact of human papillomavirus (HPV) 16 and 18 vaccination on prevalent infections and rates of cervical lesions after excisional treatment // Am. J. Obstet. Gynecol. 2016. V. 215. P. 212. https:doi.org/10.1016/j.ajog.2016.02.021
- Hung C.F., Ma B., Monie A., Tsen S.W., Wu T.C. Therapeutic human papillomavirus vaccines: current clinical trials and future directions // Expert Opin. Biol. Ther. 2008. V. 8. P. 421. https:doi.org/10.1517/14712598.8.4.421
- de Oliveira C.M., Fregnani J.H.T.G., Villa L.L. HPV vaccine: updates and highlights // Acta Cytol. 2019. V. 63. P. 159. https:doi.org/10.1159/000497617
- van der Burg S.H., Melief C.J. Therapeutic vaccination against human papilloma virus induced malignancies // Curr. Opin. Immunol. 2011. V. 23. P. 252. https:doi.org/10.1016/j.coi.2010.12.010
- Morrow MP, Yan J, Sardesai NY. Human papillomavirus therapeutic vaccines: targeting viral antigens as immunotherapy for precancerous disease and cancer // Expert Rev. Vaccines. 2013. V. 12. P. 271. https:doi.org/10.1586/erv.13.23
- Šmídková M., Holá M., Brouzdová J., Angelis K. J. Plant production of vaccine against HPV: a new perspectives // Human Papillomavirus and Related Diseases-From Bench to Bedside-A Clinical Perspective / Eds. D. Vanden. Broeck. InTech, 2012. P. 7. http://dx.doi.org/10.5772/28948
- Rosales R., López-Contreras M., Rosales C., Magallanes-Molina J.R., Gonzalez-Vergara R., Arroyo-Cazarez J.M., Ricardez-Arenas A., Del Follo-Valencia A., Padilla-Arriaga S., Guerrero M.V., Pirez M.A., Arellano-Fiore C., Villarreal F. Regression of human papillomavirus intraepithelial lesions is induced by MVA E2 therapeutic vaccine // Hum. Gene Ther. 2014. V. 25. P. 1035. https:doi.org/10.1089/hum.2014.024
- Rybicki E.P. Plant-based vaccines against viruses // Virol. J. 2014. V. 3. P. 205. https:doi.org/10.1186/s12985-014-0205-0
- Naupu P.N., van Zyl A.R., Rybicki E.P., Hitzeroth I.I. Immunogenicity of Plant-Produced Human Papillomavirus (HPV) Virus-Like Particles (VLPs) // Vaccines. 2020. V 8. P. 740. https:doi.org/10.3390/vaccines8040740
- Muthamilselvan T., Khan M.R.I., Hwang I. Assembly of human papillomavirus 16 L1 protein in Nicotiana benthamiana chloroplasts into highly immunogenic virus-like particles // J. Plant Biol. 2023. V. 6. P. 1. https:doi.org/10.1007/s12374-023-09393-6
- Hancock G., Blight J., Lopez-Camacho C., Kopycinski J., Pocock M., Byrne W., Price M.J., Kemlo P., Evans R.I., Bloss A., Saunders K., Kirton R., Andersson M., Hellner K., Reyes-Sandoval A. et al. A multi-genotype therapeutic human papillomavirus vaccine elicits potent T cell responses to conserved regions of early proteins // Sci. Rep. 2019. V. 10. P. 18713. https:doi.org/10.1038/s41598-019-55014-z
- Revill P.A., Chisari F.V., Block J.M., Dandri M., Gehring A.J., Guo H., Hu J., Kramvis A., Lampertico P., Janssen H.L.A., Levrero M., Li W., Liang T.J., Lim S.G., Lu F., et al. Members of the ICE-HBV Working Groups; ICE-HBV Stakeholders Group Chairs; ICE-HBV Senior Advisors; Zoulim F. A global scientific strategy to cure hepatitis B // Lancet Gastroenterol. Hepatol. 2019. V. 4. P. 545. https:doi.org/10.1016/S2468-1253(19)30119-0
- Joung Y.H., Park S.H., Moon K.B., Jeon J.H., Cho H.S., Kim H.S. The last ten years of advancements in plant-derived recombinant vaccines against hepatitis B // Int. J. Mol. Sci. 2016. V. 13. P. 1715. https:doi.org/10.3390/ijms17101715
- Brocke P., Schaefer S., Melber K., Jenzelewski V., Müller F., Dahlems U., Bartelsen O., Park K.-N., Janowicz Z.A., Gellissen G. Recombinant Hepatitis B Vaccines: Disease Characterization and Vaccine Production // Production of Recombinant Proteins: Novel Microbial and Eukaryotic Expression Systems / Eds. G. Gellissen Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004. P. 319.
- Shouval D., Ilan Y., Adler R., Deepen R., Panet A., Even-Chen Z., Gorecki M., Gerlich W.H. Improved immunogenicity in mice of a mammalian cell-derived recombinant hepatitis B vaccine containing pre-S1 and pre-S2 antigens as compared with conventional yeastderived vaccines // Vaccine. 1994. V. 12. P. 1453. https:doi.org/10.1016/0264-410X(94)90155-4
- Thanavala Y., Yang Y.F., Lyons P., Mason H.S., Arntzen C. Immunogenicity of transgenic plant-derived hepatitis B surface antigen // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1995. V. 11. P. 3358. https:doi.org/10.1073/pnas.92.8.3358
- Kapusta J., Modelska A., Figlerowicz M., Pniewski T., Letellier M., Lisowa O., Yusibov V., Koprowski H., Plucienniczak A., Legocki A.B. A plant-derived edible vaccine against hepatitis B virus // FASEB J. 1999. V. 13. P. 1796 https:doi.org/10.1096/fasebj.13.13.1796
- Bruss V. Envelopment of the hepatitis B virus nucleocapsid // Virus Res. 2004. V 106. P. 199. https:doi.org/10.1016/j.virusres.2004.08.016
- Mechtcheriakova I.A., Eldarov M.A., Nicholson L., Shanks M., Skryabin K.G. Lomonossoff GP. The use of viral vectors to produce hepatitis B virus core particles in plants // J. Virol. Methods. 2006. V. 131. P. 10. https:doi.org/10.1016/j.jviromet.2005.06.020
- Pumpens P., Grens E. HBV core particles as a carrier for B cell/T cell epitopes // Intervirology. 2001. V. 44. P. 98. https:doi.org/10.1159/000050037
- Pniewski T. The twenty-year story of a plant-based vaccine against hepatitis B: stagnation or promising prospects? // Int. J. Mol. Sci. 2013. V. 21. P. 1978. https:doi.org/10.3390/ijms14011978
- Dobrica M.O., Lazar C., Paruch L., Skomedal H., Steen H., Haugslien S., Tucureanu C., Caras I., Onu A., Ciulean S., Branzan A., Clarke J.L., Stavaru C., Branza-Nichita N. A novel chimeric Hepatitis B virus S/preS1 antigen produced in mammalian and plant cells elicits stronger humoral and cellular immune response than the standard vaccine-constituent, S protein // Antiviral Res. 2017. V. 144. P. 256. https:doi.org/10.1016/j.antiviral.2017.06.017
- Pantazica A.M., Dobrica M.O., Lazar C, Scurtu C., Tucureanu C., Caras I., Ionescu I., Costache A., Onu A., Clarke J.L., Stavaru C., Branza-Nichita N. Efficient cellular and humoral immune response and production of virus-neutralizing antibodies by the Hepatitis B Virus S/preS116-42 antigen // Front. Immunol. 2022. V. 22. P. 941243. https:doi.org/10.3389/fimmu.2022.941243
- Sherwood J., Mendelman P.M., Lloyd E., Liu M., Boslego J., Borkowski A., Jackson A., Faix D., US Navy study team. Efficacy of an intramuscular bivalent norovirus GI.1/GII.4 virus-like particle vaccine candidate in healthy US adults // Vaccine. 2020. V. 22. P. 6442. https:doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.07.069
- Mason H.S., Ball J.M., Shi J.J., Jiang X., Estes M.K., Arntzen C.J. Expression of Norwalk virus capsid protein in transgenic tobacco and potato and its oral immunogenicity in mice // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1996. V. 28. P. 5335. https:doi.org/10.1073/pnas.93.11.5335
- Zhang X., Buehner N.A., Hutson A.M., Estes M.K., Mason H.S. Tomato is a highly effective vehicle for expression and oral immunization with Norwalk virus capsid protein // Plant Biotechnol. J. 2006. V. 4. P. 419. https:doi.org/10.1111/j.1467-7652.2006.00191.x
- Tusé D., Malm M., Tamminen K., Diessner A., Thieme F., Jarczowski F., Blazevic V., Klimyuk V. Safety and immunogenicity studies in animal models support clinical development of a bivalent norovirus-like particle vaccine produced in plants // Vaccine. 2022. V. 11. P. 977. https:doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.01.009
- Klimyuk V., Pogue G., Herz S., Butler J., Haydon H. Production of recombinant antigens and antibodies in Nicotiana benthamiana using ‘magnifection’ technology: GMP-compliant facilities for small- and large-scale manufacturing // Curr. Top. Microbiol. Immunol. 2014. V. 375. P. 127. https:doi.org/10.1007/82_2012_212
- Shahid N., Daniell H. Plant-based oral vaccines against zoonotic and non-zoonotic diseases // Plant Biotechnol. J. 2016. V. 14. P. 2079. https:doi.org/10.1111/pbi.12604
- Hadj Hassine I., Ben M’hadheb M., Almalki M.A., Gharbi J. Virus-like particles as powerful vaccination strategy against human viruses // Rev. Med. Virol. 2024. V. 34. P. e2498. https:doi.org/10.1002/rmv.2498
- Mallajosyula V.V., Citron M., Ferrara F., Lu X., Callahan C., Heidecker G.J., Sarma S.P., Flynn J.A., Temperton N.J., Liang X., Varadarajan R. Influenza hemagglutinin stem-fragment immunogen elicits broadly neutralizing antibodies and confers heterologous protection // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2014. V. 24. P. E2514. https:doi.org/10.1073/pnas.1402766111
- Laughlin R.C., Madera R., Peres Y., Berquist B.R., Wang L., Buist S., Burakova Y., Palle S., Chung CJ., Rasmussen M.V., Martel E., Brake D.A., Neilan J.G., Lawhon S.D., Adams L.G. et al. Plant-made E2 glycoprotein single-dose vaccine protects pigs against classical swine fever // Plant Biotechnol. J. 2019. V. 17. P. 410. https:doi.org/10.1111/pbi.12986
- Park Y., An D.J., Choe S., Lee Y., Park M., Park S., Gu S., Min K., Kim N.H., Lee S., Kim J.K., Kim H.Y., Sohn E.J., Hwang I. Development of recombinant protein-based vaccine against classical swine fever virus in pigs using transgenic Nicotiana benthamiana // Front. Plant Sci. 2019. V. 16. P. 624. https:doi.org/10.3389/fpls.2019.00624
- Oh Y., Park Y., Choi B.H., Park S., Gu S., Park J., Kim J.K., Sohn E.J. Field application of a new CSF vaccine based on plant-produced recombinant E2 marker proteins on pigs in areas with two different control strategies // Vaccines. 2021. V. 21. P. 537. https:doi.org/10.3390/vaccines9060537
- Shohag M.J.I., Khan F.Z., Tang L., Wei Y., He Z., Yang X. COVID-19 сrisis: How can plant biotechnology help? // Plants. 2021. V. 12. P. 352. https:doi.org/10.3390/plants10020352
- Takeyama N., Kiyono H., Yuki Y. Plant-based vaccines for animals and humans: recent advances in technology and clinical trials // Ther. Adv. Vaccines. 2015. V. 3. P. 139. https:doi.org/10.1177/2051013615613272
- Thanavala Y., Mahoney M., Pal S., Scott A., Richter L., Natarajan N., Goodwin P., Arntzen C.J., Mason H.S. Immunogenicity in humans of an edible vaccine for hepatitis B // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2005. V. 1. P. 3378. https:doi.org/10.1073/pnas.040989910
- Nochi T., Takagi H., Yuki Y., Yang L., Masumura T., Mejima M., Nakanishi U., Matsumura A., Uozumi A., Hiroi T., Morita S., Tanaka K., Takaiwa F., Kiyono H. Rice-based mucosal vaccine as a global strategy for cold-chain- and needle-free vaccination// Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2007. V. 26. P. 10986. https:doi.org/10.1073/pnas.0703766104
- Yuki Y., Mejima M., Kurokawa S., Hiroiwa T., Takahashi Y., Tokuhara D., Nochi T., Katakai Y., Kuroda M., Takeyama N., Kashima K., Abe M., Chen Y., Nakanishi U., Masumura T. et al. Induction of toxin-specific neutralizing immunity by molecularly uniform rice-based oral cholera toxin B subunit vaccine without plant-associated sugar modification // Plant Biotechnol J. 2013. V. 11. P. 799. https:doi.org/10.1111/pbi.12071
- Yusibov V., Hooper D.C., Spitsin S.V., Fleysh N., Kean R.B., Mikheeva T., Deka D., Karasev A., Cox S., Randall J., Koprowski H. Expression in plants and immunogenicity of plant virus-based experimental rabies vaccine // Vaccine. 2002. V. 19 P. 3155. https:doi.org/10.1016/S0264-410X(02)00260-8
- Lu L., Duong V.T., Shalash A.O., Skwarczynski M., Toth I. Chemical conjugation strategies for the development of protein-based subunit nanovaccines // Vaccines. 2021. V. 28. P. 563. https:doi.org/10.3390/vaccines9060563
- Rybicki E.P. Plant-produced vaccines: promise and reality // Drug Discov. Today. 2009. V. 14. P. 16. https:doi.org/10.1016/j.drudis.2008.10.002
- Eidenberger L, Kogelmann B, Steinkellner H Plant-based biopharmaceutical engineering // Nat. Rev. Bioeng. 2023. V 1 P. 426. https:doi.org/10.1038/s44222-023-00044-6
Supplementary files