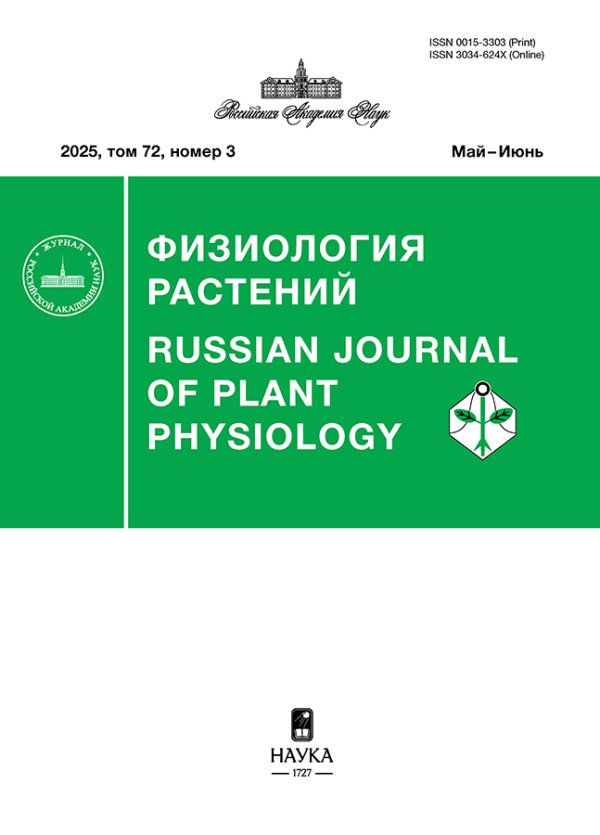Участие оксалатов в физиологических процессах у растений: потенциальная роль эндофитных бактерий – оксалотрофов
- Authors: Хайруллин Р.М.1, Максимов И.В.1
-
Affiliations:
- Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук
- Issue: Vol 71, No 6 (2024)
- Pages: 649-665
- Section: ОБЗОРЫ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0015-3303/article/view/272087
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0015330324060011
- EDN: https://elibrary.ru/MAWQVZ
- ID: 272087
Cite item
Full Text
Abstract
В обзоре изложены основные функции оксалатов (щавелевой кислоты и ее солей) в физиологических процессах у растений. Рассмотрено участие эндофитных бактерий – оксалотрофов и/или продуцентов щавелевой кислоты в регуляции ответных реакций растений на воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды биотической и абиотической природы. Сделан вывод о перспективах развития нового направления в исследовании роли эндофитных бактерий в формировании оксалат-опосредованного адаптивного потенциала у растений.
Keywords
Full Text
Сокращения: ЩК – щавелевая кислота.
ВВЕДЕНИЕ
Щавелевая кислота (ЩК) – низкомолекулярная органическая кислота (Low Molecular Weight Organic Acids, LMWOA) [1]. Ее содержание исследовано в тканях высших растений не менее 1305 видов из 76 семейств [2], как ксерофитов [3], так и гигрофитов [4]. Среднее количество растворимых оксалатов в кормовых травах может доходить до 30% сухой растительной массы, а концентрация этих веществ может колебаться в течение суток с наименьшим значением в полдень и наибольшим ночью [5]. В некоторых растительных тканях нерастворимые кристаллы оксалатов могут составлять до 80% сухой массы [1]. Исходя из этого можно предположить значимость ЩК в физиологических реакциях растений, в том числе на действие различных факторов среды. Какие же функции могут выполнять ЩК и оксалаты в растениях?
Можно выделить шесть основных функций ЩК и оксалатов в растениях: регуляция уровня кальция, регуляция ионного гомеостаза, детоксикация тяжелых металлов, защита от поедания млекопитающими и насекомыми [6] и фитопатогенов [7]. Интересно, что шестая функция – участие в фотосинтетических процессах предполагалась еще в 1908 г. [8], но подтвердилась лишь спустя почти 100 лет [5].
ФУНКЦИИ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ И ОКСАЛАТОВ В РАСТЕНИЯХ
Регуляция уровня свободного/связанного кальция и ионного гомеостаза. Известно, что оксалат кальция нерастворим в воде и в растениях часто находится в виде кристаллов, размеры и количество которых могут варьировать в мезофилле листьев при изменении концентрации ионов кальция в окружающей среде, исчезать в растительных тканях при дефиците этого элемента или активном росте растений [9]. Формирование кристаллов оксалата кальция и лишение мобильности Ca2+ и их участия в физиолого-биохимических процессах в растительных клетках таким образом зависит, в том числе, от уровня ЩК в тканях. Роль же самого кальция в растениях настолько многообразна, а “ответственность” его ионов за многие биохимические реакции в клетках так высока, что оксалаты кальция можно рассматривать как стратегическое депо этого элемента в организме [10].
Ионный гомеостаз играет ключевую роль в таких физиологических функциях растительных клеток, как компенсация отрицательных зарядов макромолекул, поддержание электронейтральности и тургора [11]. Прямым доказательством возможного участия ЩК в ионном гомеостазе через связывание кальция и превращение его в нерастворимую форму служит, например, стимуляция кальцием поглощения растениями K+ и NH4+ [12]. Кальций способен также регулировать поступление азота в форме различных ионов, в то же время минеральные соединения азота могут влиять на уровень свободного кальция в растительных тканях [13]. Механизмы поглощения NaCl растениями также обсуждаются вместе с ролью кальция в этих процессах [14]. С концентрацией ионов кальция, как в окружающей корни растений среде, так и внутри растительных тканей связан также гомеостаз фосфатов [11]. Перевод фосфат-иона в подвижную форму возможен через взаимодействие ЩК с фосфатами свинца или алюминия и формирование оксалатов этих катионов [15]. Связывая нитраты и другие анионы, поступающие в растения, ионы кальция могут регулировать концентрацию ионов водорода (pH) в компартментах растительных тканей. Концентрация самой свободной ЩК также способна определять кислотность клеточного сока. Таким образом, при обсуждении роли этой кислоты в ионном гомеостазе растений приходим к выводу и о роли ЩК в минеральном питании растений с участием соединений азота, фосфора и калия.
ЩК, связывая кальций, способна влиять на уровень свободных его ионов, как вторичного мессенджера в различных сигнальных путях в растительной клетке, например, через регуляцию кальцием уровня оксида азота [16]. Принимая во внимание участие Ca2+ в регуляции в растительной клетке уровня фитогормонов ИУК и АБК [17, 18] и связанных с ними физиологических процессов, ЩК, как регулятор количества подвижных Ca2+, может также оказывать влияние на фитогормональный баланс.
ЩК как антиоксидант. ЩК может связывать физиологически значимые катионы, например, меди [19], являющиеся активным центром растительных полифенолоксидаз [20]. Хелатирование Cu2+ и удаление его из активного центра белка может привести к падению активности полифенолоксидазы в растительных тканях. Поэтому ЩК рассматривается как селективный ингибитор указанного фермента и как природный антиоксидант. Например, обработка плодов груш раствором ЩК в концентрации 12 мМ поддерживала на протяжении 70 дней хранения активность в них супероксиддисмутазы и способствовала большему содержанию общих фенолов и аскорбиновой кислоты, по сравнению с контрольными необработанными плодами. Погружение листьев рукколы перед хранением в раствор ЩК с концентрацией 1 мМ уменьшало распад хлорофилла и способствовало более длительному сохранению у продукта товарного вида [21].
Окисление ЩК как источник активных форм кислорода. ЩК может не только положительно влиять на антиоксидантную активность в растениях, но и участвовать в реакции образования АФК благодаря наличию в растениях фермента оксалатоксидазы, окисляющего молекулу кислоты с образованием углекислого газа и пероксида водорода. Одним из первых растений, в тканях которого выявили активность оксалатоксидазы, был ячмень [22]. Затем было установлено, что подобную активность проявляет маркерный белок прорастания семян пшеницы, названный гермином, обнаруженный впоследствии в семенах и проростках большинства других злаков: кукурузы, овса, риса, ржи [23]. Гермин-подобные белки встречаются также у двудольных и голосеменных растений, у миксомицетов, причем белки этого семейства не обязательно проявляют способность окислять ЩК, но, подобно оксалатоксидазам однодольных, их гены экспрессируются в ответ на внедрение фитопатогенов, повреждение насекомыми, воздействие NaCl, ауксинов, АФК [24], АБК, салициловой кислоты, вирусов [25].
Анализ аминокислотной последовательности и трехмерной структуры белков, сходных с гермином пшеницы, имеющим общую последовательность из девяти аминокислот со стрессовым белком сферулином, вырабатываемым слизевиком Physarum polycephalum во время голодания, позволил объединить гермин и гермин-подобные белки в суперсемейство купинов (cupin), включающее не менее 18 функциональных субклассов белков [26]. Эта группа белков обладает не только оксалатоксидазной и оксалатдекарбоксилазной, но и диоксигеназной активностями [26].
Участие ЩК в процессе фотосинтеза. Идею об участии ЩК в процессе фотосинтеза высказал немецкий исследователь P. Schürhoff [8] в 1908 г., отметив, что кристаллы оксалата связаны с тонким слоем фотосинтетической ткани в листьях пеперомии (Peperomia). Позже, в 1978 г. Ю.С. Карпилов с соавт. [27] предположили, что образующиеся друзы кальциевых солей ЩК могут использоваться как источник CO2 в периоды, когда водно-температурный стресс вызывает закрытие устьиц. Однако эту идею авторы экспериментально не подтвердили. В 2001 г. Franceschi [28] предположил участие друз оксалата кальция в фотосинтезе, изучив расположение кристаллов в листьях растений шести различных видов. Предполагалось, что кристаллы могут помочь рассеять лишний свет во время периодических солнечных бликов, отражая их обратно к эпидермальной (window) ткани. Вывод об адаптивной роли кристаллов оксалата кальция в фотосинтезе Peperomia glabella на основе экспериментальной работы сделали Kuo-Huang с соавт. [29]. Авторы выявили изменения в положении кристаллов в клетках палисадной ткани листа в зависимости от интенсивности освещения. Предполагалось, что кристаллы в средней или нижней частях клеток при слабом освещении помогают распределить ограниченный свет на хлоропласты к нижней половине палисадной ткани и увеличивать захват квантов света; при высоких уровнях освещенности кристаллы в верхней части палисадных ячеек могут рассеивать лишний свет, отражая часть его обратно на эпидермальную ткань, тем самым защищая хлоропласты от фотоповреждения и минимизируя фотоингибирование.
В 2016 г. вышла экспериментальная работа [5], в которой авторы, используя показатель изотопного состава углерода PDB, сделали вывод, что образование кристаллов внутри специализированных клеток может рассматриваться как биохимический механизм, накапливающий углерод в форме оксалата кальция главным образом в ночное время, когда устьица закрыты и реакции фотосинтеза отсутствуют. В течение дня распад кристаллов обеспечивает растение дополнительным углеродом для фотосинтетической ассимиляции, особенно в условиях углеродного голодания, например, при водном стрессе. Так как стрессовым сигналом тревоги могла быть АБК, авторы этот новый путь фотосинтеза назвали “тревожным” или “аварийным” (alarm photosynthesis), который может функционировать у растений многих видов, независимо от пути восстановления СО2 (C3, C4 или CAM).
Фиксация атмосферного азота. Trinchant и Rigaud [30] предположили, что в условиях водного стресса у бобовых в холобионтной системе (не только для растений, но и для азотфиксирующих бактерий – симбионтов) ЩК может выступать в роли осморегулятора, а также как источник углерода для фиксации атмосферного азота.
Kost с соавт. [31] протестировали 58 штаммов 41 вида Burkholderia на их способность использовать оксалат в качестве единственного источника углерода и наличие связи между способностью азотфиксаторов колонизировать растения и их оксалотрофией. Все штаммы Burkholderia sp., принадлежащие к “кластеру полезных для растений” (plant-beneficial-environmental (PBE) Burkholderia cluster) [32], были оксалотрофными, за исключением B. phenazinium. Ни один из фитопатогенных штаммов бактерий этого рода (B. glumae, B. plantarii, B. gladioli, B. cepacia) не культивировался на среде с оксалатом, как единственным источником углерода. Чтобы оценить роль оксалотрофии в колонизации растений, ген оксалатдекарбоксилазы (OXC) был искусственно инактивирован у эндофитной бактерии B. phytofirmans PsJN, что привело к значительному ухудшению ее способности колонизировать корни люпина и кукурузы, по сравнению с диким типом. При инокуляции в консорциуме с диким типом у мутантных клеток B. phytofirmans PsJN∆oxc восстанавливалась способность к колонизации корней [31]. Соответственно, можно полагать, что бактериальные оксалатдекарбоксилазы вовлечены в систему формирования мутуалистических взаимоотношений растений с бактериями.
Интересно, что и у азотфиксирующих эндофитных штаммов бактерий (B. cereus/thuringiensis, B. megaterium и B. safensis/pumilus), выделенных из растений рода Oxalis, специфичных для одного из регионов Южной Африки, была выявлена оксалотрофия [33].
Участие ЩК и гермин-подобных белков в других фитофизиологических процессах. Растительная оксалатоксидаза активно включается в строительство клеточных стенок зерна пшеницы в стадии его молочной спелости, а также при прорастании семян, когда рост клеток примордий корней завершается протрузией корешков через покровные ткани [34], что свидетельствует об участии ЩК в этих процессах. Оксалатоксидаза локализуется в области колеоризы, способствуя продукции H2O2, которая в свою очередь участвует в механическом укреплении колеоризной ткани при протрузии корешков.
Кристаллы оксалата кальция могут способствовать выходу пыльцы из пыльников и ее прорастанию [35]. В пыльниках перца чили (Capsicum annuum) множество кристаллов сосредоточено в соединительной ткани и в гиподерме стомиума между прилегающими локулами. Предполагается, что ионы кальция систематически удаляются из цитоплазмы и клеточных стенок соединительной ткани и стомиума и включаются в кристаллы оксалата при созревании пыльцы. Это приводит к деградации и ослаблению клеточных стенок между локулами, за которыми следует разрушение соединительной ткани и стомиума, а затем слияние соседних локул. В пыльнике петунии (Petunia hybrida) кристаллы оксалата кальция скапливаются под стомиумом и прилипают к пыльцевым зернам [35]. Они перемещаются к рыльцу вместе с пыльцевыми зернами, когда пыльник расслаивается и пыльцевые зерна освобождаются. На рыльце петунии увеличение концентрации кальция происходит не из-за активности соответствующих процессов в самом рыльце, а из-за кристаллов оксалата, прилипших к пыльцевым зернам. Такие кристаллы оксалата кальция вокруг пыльцы могут усиливать опыление, обеспечивая этим элементом прорастание пыльцы и рост трубочек.
Показано, что гермин-подобные белки ассоциированы с такими специфическими стадиями развития, как соматический и зиготический эмбриогенез, индукция цветения, созревание плодов, развитие семян и созревание древесной ткани [34]. В большинстве случаев участие гермин-подобных белков в указанных процессах связано с формированием и/или укреплением клеточных структур и/или лигнификацией тканей. Согласно цитируемым авторам, экспрессия генов гермин-подобных белков горчицы (Sinapis alba), ипомеи нил (Pharbitis nil) и ячменя связаны также с суточными ритмами этих растений [5]. У ячменя минимум экспрессии гена HvGLP1 наблюдается в конце светового дня, максимум – ночью. Можно полагать, что такой ритм объясняется ролью ЩК как депо CO2, о чем было сказано выше [5].
Участие оксалатов в защите растений от повреждения млекопитающими и насекомыми. Предположение, что оксалаты могут защищать растения от поедания млекопитающими и насекомыми было высказано еще в 1900-х годах, однако уже в то время подвергалось сомнениям, так как считалось, что кристаллы “не способны ранить животных или отпугнуть их” [36]. Неблагоприятное воздействие оксалатов, в первую очередь кальция, на млекопитающих можно рассматривать с двух сторон: как токсичное, и как раздражающее. Известно, что в организме животных растворимые оксалаты способны вызывать нефропатию и даже остановку работы почек из-за повреждения эпителия почечных канальцев нерастворимыми оксалатами кальция и/или магния, вызывая гипокальциемию, гипомагниемию, образование мочевых камней [37]. Токсичность оксалатов для животных и отравление их солями ЩК считается возможными только при длительном и/или обильном поедании растений богатых оксалатами, и только в случае, если кормовая база животных ограничена такими растениями [38]. Также спорной является возможность раздражающего и отпугивающего действия на насекомых игольчатых (рафидных) кристаллов оксалатов и друз.
По мнению Paiva [6], примеры пагубного воздействия оксалатов кальция на жизнедеятельность насекомых редки. Автор рассматривает защитную функцию оксалатов не с позиции биохимической инсектицидности или токсичности, а механического воздействия кристаллов на перитрофический матрикс кишечника, как абразива, способного повреждать мембраны клеток насекомых. Перитрофический матрикс кишечника у одних насекомых может образовываться большинством клеток кишки, а у других специализированными клетками кардиального отдела передней кишки. Он рассматривается и как механический, и как физиологический барьеры с избирательной проницаемостью, предохраняющие кишечный эпителий от повреждений частицами пищи, позволяющие избежать контакта пищевого комочка с эпителием средней кишки, а также защищающие нежные эпителиальные микроворсинки от истирания частицами пищи [39]. Paiva [6] считает, что кристаллы оксалатов не вредны для слизистой оболочки кишечника насекомых, так как отсутствуют видимые повреждения у личинок чешуекрылых и других насекомых, питающихся тканями растений с кристаллами оксалата кальция, а насекомые успешно проходят свои жизненные циклы. Этот вывод подтверждается сообщением [40], согласно которому личинки гусениц Spodoptera exigua, питающихся растениями Medicago truncatula, содержащими кристаллы оксалата кальция, не имели повреждений кишечника.
На наш взгляд, эти данные позволяют прийти к двоякому выводу. С одной стороны, перитрофический матрикс защищает кишечник насекомых, так что кристаллы оксалатов не влияют на фитофагов. С другой стороны, наличие матрикса свидетельствует о необходимости защиты кишечника от абразивного действия твердых частиц, которыми могут быть, в том числе, рафиды или друзы. Второй вывод согласуется с мнением Paiva [6] о способности кристаллов оксалата кальция играть определенную роль в устойчивости растений к фитофагам, вопрос же заключается в оценке степени эффективности этой защиты. Вместе с тем этот же автор обращает внимание не на кристаллические оксалаты, а на саму ЩК и ее растворимые соли как на потенциальных факторов, формирующих устойчивость растений к насекомым. В подтверждение такого мнения можно привести сведения [41], что ЩК ингибировала рост Helicoverpa armigera, причем это было вызвано не антифидантным действием кислоты, а, по мнению авторов, как антибиотика.
На наш взгляд, наличие перитрофического матрикса, защищающего кишечник насекомых от абразивного действия твердых частиц, позволяет заключить, что рафиды или друзы оксалатов в растительных тканях все же могут неблагоприятно влиять на питание фитофагов.
Участие ЩК в ответных реакциях растений на абиотический стресс. В связи с формированием нерастворимых и, соответственно, биохимически неактивных комплексов с ионами различных металлов особый интерес представляют данные о роли ЩК в устойчивости растений к токсическому воздействию различных неорганических полютантов [42]. Используя трансформированные растения табака с геном изоформы гермина пшеницы и анализируя активность оксалатоксидазы Nowakowska [43] выявила активацию оксалатоксидазы и, таким образом, возможность вовлечения ЩК в ответные реакции растительного организма при действии NaCl и солей тяжелых металлов (Cd, Hg, Cu, Ni, Co). При этом воздействие салициловой кислоты, а также гипертермия, холодовой шок, ультрафиолетовое облучение не вызывали активацию фермента. Автор предположила, что образующийся при окислении оксалатоксидазой пероксид водорода может служить сигналом для запуска реакций устойчивости растений к токсикантам.
Ионы Mg являются активным центром хлорофилла и активаторами более 300 ферментов [44]. Образование кристаллов оксалата магния может играть роль в регуляции метаболических концентраций этого элемента в растениях, влияя таким образом на протекание определенных биохимических реакций [45]. Быстрое поступление ионов алюминия в цитозоль и его более сильное сродство к связыванию с АТФ при меньшем значении рН может изменять концентрацию свободных ионов Mg и влиять на Mg-зависимые процессы внутри клетки [44]. Связывание же ионов алюминия ЩК может предотвращать их токсическое действие на растения [44].
Несмотря на общепринятое мнение о возможном формировании ЩК нерастворимых соединений с токсичными ионами металлов, Jauregui-Zuniga с соавт. [46] выявили, что при добавлении солей цинка и свинца в питательную среду уменьшалось количество кристаллов оксалата кальция в растениях фасоли (Phaseolis vulgaris), но при этом тяжелые металлы не были обнаружены внутри формирующихся кристаллов оксалата. Исследователи предположили, что кристаллы кальция не играют основной роли в детоксикации тяжелых металлов у Ph. vulgaris.
Роль ЩК во взаимоотношениях растений с фитопатогенами. Роль ЩК во взаимоотношениях растений с фитопатогенами можно рассматривать с двух позиций: как первоисточника пероксида водорода, запускающего с помощью оксалатоксидазы защитные реакции растительных клеток, либо как фактора вирулентности у определенных фитопатогенных грибов – продуцентов ЩК. В любом из этих случаев мы вынуждены рассматривать не только роль самой кислоты, но и ферментов, участвующих в превращении ее в другие метаболиты, преимущественно, в пероксид водорода.
Известно, что некоторые фитопатогенные грибы, например, Sclerotinia sclerotiorum синтезируют значительные количества ЩК, уровень которых коррелировал со способностью патогенного грибка инфицировать ткани растений [47]. Такую функцию ЩК у фитопатогенов авторы объясняют возможностью ее участия в распаде пектина клеточных стенок растений активацией полигалактуроназы, снижением уровня рН растительных тканей и устойчивости кальций-пектиновых комплексов к деструкции, ингибированием растительной полифенолоксидазы и уменьшением количества окисленных защитных фенолов. С использованием двух изолятов гриба S. sclerotiorum, различающихся по уровню продукции ЩК, было показано, что ограничение способности изолята B24-ML к продукции ЩК приводит к потере вирулентности. По мере усиления тяжести заболевания в зараженных тканях растений концентрация ЩК увеличивалась, а рН и активность полифенолоксидазы уменьшались [47].
Обработка плодов груши раствором ЩК в концентрации 12 мМ продлевала срок их хранения [20], что по мнению авторов было связано с хелатированием ионов меди и подавлением активности полифенолоксидазы. В то же время внедрение продуцирующих ЩК патогенов в ткани зрелых плодов одновременно с деактивацией полифенолоксидазы может вызывать активацию полигалактуроназы [47]. Вместе с большим количеством накопленных в плодах сахаров или крахмала – пищи для микроорганизмов, выделяющих различные гидролазы, заражение плодов грибами – продуцентами ЩК должно приводить к быстрой их порче, что, как правило, и наблюдается в отношении такой продукции.
Cessna с соавт. [48], исследуя роль ЩК при вызванном грибом S. sclerotiorum патогенезе растений сои и подсолнечника, выявили, что увеличение уровня кислоты подавляет продукцию H2O2 и последующий за этим окислительный взрыв в клетках. При этом механизм подавления не был связан с подкислением среды или связыванием кислотой ионов Ca2+, способных выступать в роли вторичных сигнальных мессенджеров и компонентов укрепления клеточных стенок, и включался до стадии, предшествующей каталитической редукции молекулы O2. Таким образом, определенные фитопатогенные грибы, выделяя ЩК, могут не только вызывать деструкцию клеточных стенок растений, активируя полигалактуроназу, подкисляя среду и связывая ионы кальция, но и отключать их защитные сигнальные системы с участием АФК.
Патогенез растений бобов, вызванный грибом S. sclerotiorum, включает также дисфункцию устьичных клеток листа [49]. Оказалось, что ЩК в физиологической для гриба концентрации вызывает открытие устьиц в темноте, тем самым облегчает патогену колонизацию тканей листьев. Механизмы дисфункций устьичных клеток включают поглощение ионов калия, участвующих в осмосенсорной регуляции и тургоре замыкающих клеток, а также деградацию крахмала, приводящую к образованию низкомолекулярных сахаров, обеспечивающих дополнительную осмотическое давление для тургора клеток. В дополнении к действию ЩК темнота/синий свет также вызывают потерю крахмала в хлоропластах клеток, а снижение кислотой уровня рН и удаление из клеточных стенок ионов кальция облегчают действие эндополигалактуроназы и пектинметилэстеразы, что приводит к разрыхлению пектина и деструкции клеточных стенок, дополнительно способствуя развитию патогенеза. Еще одним негативным фактором ЩК гриба, подавляющим устойчивость растений, является нивелирование действия фитогормона АБК, отвечающего за закрытие устьиц у растений [49].
ЩК может существенно влиять на исход взаимоотношений растение-патоген в пользу последнего посредством связывания ионов магния, участвующих в таких генеральных процессах, как фотосинтез и других. Например, многочисленные ромбические кристаллы оксалата магния были обнаружены на нижней поверхности 3-недельных кофейных листьев, поврежденных грибом Mycena citricolor, вызывающим пятнистость [50]. Авторы предположили, что кристаллы оксалата магния, которые отсутствовали в здоровых растениях, образовывались в инфицированной ткани листьев в результате связывания магния ЩК, продуцируемой грибом.
Очевидно, что активация оксалатоксидазы растений или, например, эндофитных бактерий, что обсуждается далее, может повышать устойчивость хозяина к фитопатогенам-продуцентам ЩК. Dumas с соавт. [7] выявили активацию оксалатоксидазы в листьях ячменя при заражении грибом Erysiphe graminis f. sp. hordei и сделали вывод о возможной защитной роли этого фермента при патогенезе. Предполагалось [51], что пероксид водорода, образующийся при окислении ЩК оксалатоксидазой, может служить сигнальной молекулой для запуска защитных реакций, а также участвовать в лигнификации клеточных стенок или непосредственно подавлять развитие патогена. Возможность вовлечения ЩК с участием оксалатоксидазы в механизмы укрепления клеточных стенок показали Thordal-Christensen с соавт. [52], выявив непосредственную локализацию H2O2 в зоне формирования папилл в листьях, инфицированных E. graminis. Таким образом, ЩК, синтезируемая самим растением или определенным фитопатогеном, при окислении ее растительной оксалатоксидазой до H2O2 может быть первоисточником сигнальных молекул АФК, а также участвовать в защитных механизмах растений, например, в укреплении клеточных стенок на пути проникновения патогенов с участием ферментов, вовлеченных в лигнификацию.
Наиболее убедительным доказательством защитной роли оксалатоксидазы, кодируемой геном гермина пшеницы gf-2.8, является работа Donaldson с соавт. [53], в которой были получены трансгенные растения сои, экспрессирующие белок массой 130 кД, аналогичный гермину зародышей пшеницы и проявляющий оксалатоксидазную активность. В сравнении с дикими растениями трансформанты проявляли большую устойчивость к грибу S. sclerotiorum.
Роль ЩК в деструкции древесины грибами. Продуцентами ЩК являются также грибы, вызывающие бурую и белую гниль древесины, как, например, Fomitopsis palustris, Aspergillus niger и A. fumigatus [54]. По мнению исследователей, ЩК, вырабатываемая грибом, гидролизует гемицеллюлозу, нарушая ее каркас и увеличивая пористость древесины, повышая доступность субстратов для гидролитических ферментов гриба и облегчая проникновение его гиф [55]. В то же время H2O2, образующаяся при разложении ЩК, с участием ионов железа способна запускать реакцию Фентона, продуцирующую различные формы АФК и неблагоприятно действующую на гриб-деструктор. Вместе с тем формирование оксалата железа может защищать гифы гриба от действия указанной реакции, также как и гиперпродукция ЩК грибом может ингибировать продукцию АФК, защищая гриб от их нежелательного воздействия.
Другой путь деполимеризации лигнинового каркаса древесины связан с активностью Mn-пероксидазы грибов, например, Ceriporiopsis subvermispora, вызывающих белую гниль [56]. C. subvermispora продуцирует глиоксилат и оксалат, которые окисляются Mn(II)-пероксидазой до H2O2. Показано, что экстраклеточная ЩК может служить источником H2O2, необходимой для активности Mn-пероксидазы.
Роль ЩК в глобальной экологии. Формирование кристаллов оксалата кальция и магния приводит к биоминерализации – образованию твердых неорганических веществ в живых организмах. В отличие от большинства растительных соединений углерода, которые при отмирании растений распадаются с выделением углекислого газа обратно в атмосферу, значительный объем углерода в виде кристаллов оксалата кальция, например, как в тканях дерева ироко (Milicia excelsa) или кактуса карнегии гигантской (Carnegiea gigantea) могут попадать в окружающую среду в засушливых и полупустынных регионах Земли [35]. Превращаясь в твердый карбонат кальция по оксалатно-карбонатному пути оксалат таким образом способен связывать атмосферный углекислый газ с почвой в виде неорганического углерода, поэтому знания о биоминерализации углерода в растениях могут помочь смягчению нежелательного парникового эффекта в условиях глобального потепления и изменения климата.
ЩК, продуцируемая грибами Hebeloma velutipes, Piloderma byssinum, Paxillus involutus, Rhizopogon roseolus, Suillus bovinus, S. variegatus, а также сапротрофами Hypholoma fasciculare, H. capnoides [57] способна играть роль в биовыветривании горных пород и минералов. Образование оксалатов может привести к мобилизации металлов из таких твердых субстратов, благодаря ацидолизу и образованию подвижного комплекса оксалата с их ионами. Простые и сложные оксалаты образуют большинство ионов металлов, а также актиниды и лантаноиды [58].
Осаждение оксалата кальция оказывает существенное влияние на биогеохимические процессы в почвах, выступая в качестве резервуара кальция, а также меняя доступность фосфатов, когда ионы этого металла удаляются из фосфорсодержащих минералов [59]. Другим освобождающимся ЩК анионом может быть сульфат (гипса), что приводит к формированию оксалата кальция и доступности серы для растений [60].
В геосфере образование оксалата кальция может способствовать цементированию ранее существовавших известняков благодаря заполнению пор перекристаллизованным кальцитом. При этом в регуляции грибами потока оксалата кальция в природе ключевую роль играют также и оксалотрофные бактерии [61]. Биоминерализация углерода и создание в почве, окружающей корни растений, т. н. “оксалатного бассейна” возможны при совместном функционировании грибов – продуцентов ЩК и оксалотрофных бактерий, обладающих оксалатоксидазной и оксалатдекарбоксилазной активностями [62]. В связи с этим исследование взаимоотношений грибов-продуцентов ЩК и оксалотрофных бактерий для познания механизмов биогеохимических циклов представляет фундаментальный и практический интерес.
Оксалотрофные бактерии внутри растений. Выше отмечалось о распространенности оксалатов в тканях растений не менее 1305 видов [2] и содержании этих веществ в растительных тканях до 80% от сухой массы [1]. Таким образом, “оксалатный бассейн” [62] может формироваться не только в ризосфере, но и внутри растений. Следует признать, что внутренний “бассейн” ЩК даже небольшого количества, являясь источником сигнальных молекул АФК, благодаря активности оксалатоксидаз самого растения или эндофитов, населяющих его внутренние ткани, может сыграть принципиальную роль в определении в растительном организме глобальных физиологических процессов, формирующих его адаптивный потенциал.
Ферментные системы растений, преобразующие ЩК в H2O2, довольно детально определены, учитывая результаты исследований белков класса герминов (оксалатоксидаз). Кроме растительных герминов, деструкция ЩК внутри растительных тканей может осуществляться оксалатоксидазами и оксалатдекарбоксилазами некоторых эндофитных бактерий. Принимая во внимание множественную физиологическую активность ЩК по отношению к растениям, можно прийти к выводу о наличии множества мишеней – физиологических процессов у растений, на которые способны оказать воздействие эндофиты – деструкторы ЩК.
Jooste с соавт. [33] из внутренних тканей растений рода Oxalis выделили девять эндофитов, семь из которых обладали оксалотрофными свойствами, в том числе бациллы B. amyloliquefaciens, B. cereus, B. subtilis, B. vallismortis, а также Azospirillum brasilense, Methylobacterium oxalidis, Serratia fonticola. Сообщается [63] о способности бактерии Burkholderia phytofirmans PsJN к оксалатотрофии благодаря наличию гена OXC, кодирующего синтез оксалатдекарбоксилазы. Способность утилизировать оксалат корневых экссудатов растений, который может быть токсичным для бактерий, неспособных его усваивать, некоторые авторы [64] считают одним из признаков симбиотических видов Paraburkholderia.
Используя метод амплификации фрагментов генов FRC (formyl-CoA transferase) и OXC (oxalyl-CoA decarboxylase), Ghate с соавт. [65] выявили оксалотрофность бактерий, выделенных из эндосферы листьев растений таро (Colocasia esculenta) – Acinetobacter calcoaceticus MW784829, Acinetobacter sp. MW784830, Enterobacter sp. MW784831, а также из листьев ремусатии (Remusatia vivipara) – Acinetobacter baylyi MW784832, Pseudomonas sp. MW784833, Pectobacterium carotovorum MW784834, Enterobacter sp. MW784835. Перечисленные бактерии могли расти на среде с оксалатом калия в качестве единственного источника углерода. Carper с соавт. [66] исследовали популяцию эндофитных бактерий в растениях сосны Pinus flexilis и выявили в надземной части проростков высокую частоту встречаемости представителей семейств Oxalobacteraceae (56%) и Burkholderiaceae (10%). Авторы считают, что такое превалирование оксалотрофных бактерий может быть связано с содержанием ЩК в проростках и использованием ее микроорганизмами в качестве источника углерода, а также для привлечения полезных для растений представителей сложных бактериальных сообществ.
Согласно DeLeon-Rodriguez с соавт. [67], оксалотрофные бактерии принадлежат, преимущественно, к семействам Methylobacteriaceae и Oxalobacteraceae. По данным Ofek с соавт. [68], представители Massilia sp. (сем. Oxalobacteraceae) ассоциированы с растениями винограда, картофеля, огурца, могут встречаться внутри тканей растений и других видов. Кроме того, бактерии этого вида способны колонизировать гифы микоризных грибов. Kumar и Belur [69] из клубней таро (Colocasia esculenta) изолировали штамм бактерии Ochrobactrum intermedium CL6 с высокой оксалатоксидазной активностью. Клетки росли на среде с оксалатом натрия, но для индукции активности фермента были необходимы ионы марганца. Из внутренних тканей растений кукурузы выделен штамм Ochrobactrum pseudogrignonense CNPMS2088, у которого выявлен ген оксаладекарбоксилазы [70]. Кроме бактерий указанного вида в этих же растениях кукурузы носителями гомологичного гена были эндофиты Pantoea ananatis UFMG54, Microbacterium sp. UFMG61 и B. megaterium UFMG50 [70].
На основе приведенных данных о способности эндофитов к деструкции ЩК, благодаря наличию активности оксалатоксидазы с образованием не только молекул АФК, но и CO2, открываются новые пути регуляции бактериями физиологических процессов у растений.
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У РАСТЕНИЙ ЭНДОФИТАМИ – ДЕСТРУКТОРАМИ ЩК
Пути деструкции ЩК. Оксалат разрушается тремя основными различающимися путями.
Первый путь, как было показано выше, связан с окислением ЩК растительной оксалатоксидазой (гермином) с образованием двух молекул CO2 и одной молекулы H2O2:
(COOH)2 + O2 оксалатоксидаза 2CO2 + H2O2 [7]. Ферменты с подобной активностью обнаружены также и у грибов, например, Tilletia contraversa, Ceriporiopsis subvermispora, Abortiporus biennis [71].
Второй путь включает прямое декарбоксилирование молекулы ЩК с участием оксалатдекарбоксилазы, приводящий к выделению одной молекулы CO2 и одной молекулы муравьиной кислоты: (COOH)2 оксалатдекарбоксилаза CO2 + + HCOOH [72].
Декарбоксилирование ЩК характерно для ряда видов грибов, например, Collybia velutipes, Coriolus hersutus, Sclerotinia sclerotiorum, Myrothecium verrucaria, Aspergillus niger, а также бактерий (Bacillus subtilis, B. pumilus, Burkholderia pseudomallei) [72]. Показано, что оксалатдекарбоксилаза YvrK Bacillus subtilis – марганец-зависимый фермент, обладает активностью оксалатоксидазы [73].
Третий путь превращения кислоты – многоэтапный процесс с первоначальной активацией ЩК кофермент А(КоА)-трансферазой до оксалил-КoА (рис. 1). Подробные исследования свойств Pseudomonas oxalaticus, Bacillus halophilus и Oxalobacter formigenes позволили сделать вывод, что деградация оксалатов бактериями в основном опосредована тиаминзависимым ферментом оксалил-КоА-декарбоксилазой [74].
Рис. 1. Схема декарбоксилирования щавелевой кислоты оксалил-КоА-декарбоксилазой с образованием углекислого газа и формил-КоА (по [75]).
У оксалотрофных бактерий оксалат может использоваться аэробами и анаэробами для получения энергии различными путями (рис. 2). В обоих случаях оксалат вначале активируется КоА-трансферазой до оксалил-КоА, который с помощью оксалил-КоА-декарбоксилазы декарбоксилируется до формил-КоА. КоА-группа удаляется формил-КоА-трансферазой, оставляя формиат. Следующий шаг зависит от того, является ли микроорганизм аэробом или анаэробом. У аэробных бактерий формиат катаболизируется до CO2 формиатдегидрогеназой, образуя НАДН. У анаэробов используется антипортер оксалат:формиат, оксалат поступает в клетку по мере экспорта формиата, обеспечивая постоянный приток оксалата для декарбоксилирования в формиат. Несмотря на то, что два варианта формиатного пути в значительной степени различны, сообщалось, что анаэробная грамотрицательная бактерия Methylorubrum extorquens, обладает как оксалат-формиатным антипортером, так и формиатдегидрогеназой [75].
Рис. 2. Схема ферментативного пути превращения щавелевой кислоты бактерией Oxalobacter formigenes в углекислый газ и формиат (по [75]).
Предложен альтернативный аэробный катаболизм оксалатов по гликолатному пути, при котором оксалат преобразуется в глиоксилат оксалил-КоА-редуктазой для последующего синтеза углеводов через образование трифосфоглицерата [76]. Гликолатный путь был выявлен у бактерий Ralstonia oxalatica (Pseudomonas oxalaticus), R. eutropha (Alcaligenes eutrophus), Starkeya novella (Thiobacillus novellus), Oxalobacter formigenes и Oxalicibacterium flavum [77]. Глиоксилат может включаться также в одноименный цикл, т. н. модифицированную форму цикла трикарбоновых кислот.
Еще один путь катаболизма ЩК установлен у актинобактерии семейства Kribbellaceae, который включает образование серина и глицина с участием тетрагидрофолата [78]. Предполагается, что при этом может генерироваться энергия, поскольку при превращении серина в глицин образуется метильная группа, которая переходит в тетрагидрофолат. Всего же в катаболические пути превращения оксалата в различные соединения могут быть вовлечены не менее 28 ферментов с образованием С1–С4 промежуточных или конечных продуктов [75].
Активность оксалил-КоА-декарбоксилазы также была обнаружена у Neurospora crassa, Torula utilis, Saccharomyces cerevisiae, растений пшеницы, тыквы, гороха и фасоли [79].
У растений деструкция оксалата ацетилированием происходит с участием четырех ферментов. Первоначально оксалил-КоА-синтетазой оксалат превращается в оксалил-КоА:
ATP + CoA + оксалат оксалил-КоА-синтетаза AMP + дифосфат + оксалил-КoA [80].
Оксалил-КоА-синтетаза (oxalyl-КoA synthetase, КФ 6.2.1.8; оксалил-КоА-лигаза, ацилактивирующий фермент 3 (acyl activating enzyme 3, AAE3)) – АТФ-зависимый фермент, катализирующий связывание оксалата с КоА, образуя оксалил-КоА (рис. 3). Он обнаружен в растениях Arabidopsis thaliana, Medicago truncatula, Vigna umbellate, Oryza sativa, Glycine soja, а также в дрожжах Saccharomyces cerevisiae [80]. Затем оксалил-КоА превращается в формил-КоА и углекислый газ оксалил-КоА-декарбоксилазой. Формил-КоА превращается в формиат формил-КоА-гидролазой. На завершающем этапе формиат превращается в углекислый газ и воду формиатдегидрогеназой [81].
Рис. 3. Схема деградации щавелевой кислоты в растениях арабидопсиса (по [80]).
Эндофитные деструкторы ЩК и устойчивость растений к патогенам. Зная физиологическую активность ЩК по отношению к растениям, можно предположить участие оксалатдекарбоксилазы и оксалатоксидазы эндофитных бактерий в регуляции определенных биохимических реакций у растений. Известно, что у некоторых фитопатогенных грибов, например, Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum [54], Monilophthora perniciosa [82] ЩК является одним из факторов вирулентности. Очевидно, деструкция ЩК растительной оксалатоксидазой или ферментом эндофитных бактерий должна способствовать проявлению устойчивости растений к указанным фитопатогенам. Marina с соавт. [83] из ризосферы растений томата выделили два оксалотрофных штамма Stenotrophomonas sp., которые были способны эндофитно колонизировать растения арабидопсиса и защищать их от повреждений, вызванных высокими дозами ЩК, а также от фитопатогенов S. sclerotiorum и B. cinerea. Устойчивость к грибам сопровождалась индуцированным эндофитами отложением каллозы в клеточных стенках растений томата, экспрессией гена белка PR-1, связанного с патогенезом, а также с продукцией фенольных соединений.
Аналогичную способность уменьшать вредоносность фитопатогенов, продуцирующих ЩК, проявляют также не только эндофитные, но и ризосферные и почвенные оксалотрофные бактерии. Schoonbeek с соавт. [84] оценивали потенциал выделенных из почвы микробов, разрушающих оксалаты, в защите растений огурца, томата и винограда от грибов B. cinerea и S. sclerotiorum. Было выявлено четыре штамма бактерий, способных до 70% уменьшать симптомы поражения на листьях указанных растений. Наибольшую защитную активность проявили оксалотрофные изоляты Cupriavidus campinensis, C. necator и C. oxalaticus.
С поверхности ягод клубники был выделен оксалотрофный изолят бактерии Pseudomonas abietaniphila ODB36 [85]. С использованием патосистемы Botrytis-Arabidopsis у этой бактерии обнаружена способность защищать растения от фитопатогена. Геном бактерии содержал ген формил-КоА-трансферазы, отвечающей за деструкцию оксалата. Мутантный по этому гену штамм не защищал растения от инфекции, вызванной грибом B. cinerea, возбудителем серой гнили.
С целью поиска биологических методов защиты растений винограда от фитопатогена Lasiodiplodia theobromae, взывающего поражение сосудистых тканей, Saucedo-Bazalar с соавт. [86], используя масс-спектрометрию MALDI, провели поиск противогрибковых молекул эндофитных бактерий Bacillus velezensis M1 и B. amyloliquefaciens M2, выделенных из виноградной лозы. В качестве противогрибковых веществ, наряду с антибиотиками бактерий фенгицином, итурином и сурфактином, авторы указали также оксалатдекарбоксилазу.
Yu с соавт. [87] среди органических кислот культуральной жидкости Bacillus cereus AR156 идентифицировали ЩК и показали, что она может вызывать запрограммированную гибель клеток растений томатов в зоне инфицирования при патогенезе, вызванном Botrytis cinerea. Оксалат значительно уменьшал степень поражения растений, вызванного грибом, существенно не подавляя его рост in vitro. ЩК, продуцируемая бактериями Bacillus sp. в небольших концентрациях, предотвращала гибель растительных клеток, вызванную высокими концентрациями этой кислоты. Предварительная обработка растений ЩК в концентрации 0.08 мкМ приводила к накоплению антиоксидантных ферментов в листьях томатов и экспрессии генов, связанных с защитой от фитопатогена. Активация экспрессии генов находилась под контролем жасмоновой кислоты, но не салициловой. Авторы пришли к заключению, что ЩК, продуцируемая бактериями Bacillus spp., действует как ассоциированный с микроорганизмом молекулярный паттерн (microbe-associated molecular pattern, MAMP), индуцирующий системную устойчивость через жасмонат-этиленовый сигнальные пути.
Деструкторы ЩК и фотосинтез. Можно полагать, что углекислый газ, образующийся при деструкции оксалата бактериальной оксалатдекарбоксилазой или оксалил-КоА-декарбоксилазой способен вовлекаться в процесс фотосинтеза. Исследования оксалотрофных эндофитных бактерий в этом направлении не проводились, однако косвенные факты могут свидетельствовать об этом. Так, Tufail с соавт. [88], анализируя роль эндофитных штаммов бактерий в устойчивости растений к засухе, сделали вывод, что инокуляция клетками бактерий в условиях водного дефицита значительно увеличила концентрацию хлорофилла а (на 22%), хлорофилла b (на 19%), общее содержание хлорофилла (на 31%), скорость фотосинтеза (на 76%), относительное содержание воды (на 20%) и площадь листьев (на 94%) по сравнению с контрольными образцами, не заселенными эндофитами, а также по сравнению с действием эндофитных грибов. В значительном количестве экспериментов при инокуляции растений эндофитными бактериями в условиях стресса от засухи наблюдалось существенное увеличение показателя сухой биомассы. В связи с приведенными данными представляет интерес исследование влияния эндофитных оксалотрофов на фотосинтетические процессы растений-хозяев и возможность использования ими углерода ЩК в процессе фотосинтеза.
Эндофитные деструкторы ЩК и минеральное питание растений. Особый интерес представляет влияние деструкторов ЩК – эндофитов на минеральное питание растений. Используя метагеномный подход для изучения разнообразия и функций эпифитных бактериальных сообществ, связанных с подводными макрофитами, Wang с соавт. [89] показали, что бактерии семейства Oxalobacteraceae активно вовлекались в процессы ассимиляции и транспорта нитратов, а также контроля минерализации органических фосфатов. Выявлено, что флавоноидзависимые оксалобактерии (Oxalobacteraceae) способствовали развитию боковых корней растений кукурузы в бедной азотом почве, его усвоению и в конечном итоге росту растений при дефиците этого элемента питания [90]. При этом оксалобактерии не продуцировали ауксины и стимуляция роста корней, как авторы полагают, не была связана с активностью этого фитогормона.
Исследование влияния дефицита воды на активность редукции ацетилена корнями бобов (Vicia faba L.) с клубеньками, сформированными инокуляцией клетками трех штаммов Rhizobium leguminosarum bv. viciae выявила, что редукция сопровождалась в цитозоле клубеньков уменьшением концентрация оксалата на 55%, при этом одновременно наблюдалась стимуляция бактероидной оксалатоксидазы [30]. Инкубация бактероидов с оксалатом способствовала редукции ацетилена. Авторы сделали вывод, что оксалат, присутствующий в высокой концентрации в клубеньках растения, может играть роль дополнительного субстрата для бактероидов, замедляя активность фиксации азота, вызванную водным дефицитом.
Sahin [77] из корней кислицы козьей (Oxalis pes-caprae L.) выделил азотфиксирующую оксалатокисляющую бактерию, идентифицированную как Azospirillum, близкую, согласно анализа 16S рДНК, к бактериям Azospirillum brasilense, A. doebereinerae и A. lipoferum. Из измельченных черешков растений Rumex sp. Lang с соавт. [91] выделили грамотрицательную, подвижную, не образующую спор бактерию штамма NS12T, генетически наиболее близко связанную с видами Azorhizobium doebereinerae и A. caulinodans. На основе генетического, морфологического и биохимического сравнительных анализов авторы предложили отнести изолят к новому виду оксалотрофной бактерии A. oxalatiphilum sp. nov.
Очевидно, что деструкция ЩК оксалотрофами должна уменьшать подвижность фосфатов, например, кальция, так как освобождение фосфат-иона без связывания кислотой кальция невозможно. Продукция же ЩК эндофитами должна способствовать доступности минеральных форм фосфора. Несмотря на то, что нет данных о влиянии оксалотрофов и продуцентов ЩК на подвижность фосфатов, имеются сведения о фосфатмобилизующей активности бактерий видов, среди представителей которых распространены деструкторы и/или продуценты этой кислоты [92].
Оценивая способность эндофитных бактерий разрушать или продуцировать ЩК во взаимосвязи с минеральным питанием растений, следует отметить, что свойства таких эндофитов влиять на обмен азота или фосфора в растительном организме можно предположить только исходя из способности их расти in vitro на специфических безазотистых средах или содержащих нерастворимые фосфаты. Данные же о непосредственном влиянии оксалотрофных эндофитов или продуцентов ЩК на поступление соединений азота или фосфора в растительные ткани и метаболизм таких веществ внутри растительного организма отсутствуют, что открывает одно из новых направлений в исследованиях указанных бактерий.
Выше было отмечено, что ряд видов грибов, в том числе и патогенных, обладает способностью синтезировать ЩК, используя этот метаболит в качестве фактора вирулентности [87]. Обнаружено, что и микоризные грибы, формирующие эффективные симбиозы с растениями, синтезируют ЩК [93] и используют ее в качестве мобилизатора фосфора. Эндомикоризные грибы – продуценты ЩК и оксалотрофные бактерии-эндофиты могут одновременно проникать во внутрь корней растений и конкурировать за эту нишу. Эндофитные бактерии при наличии у них оксалатоксидазной активности способны уменьшать концентрацию ЩК в растительных тканях, а образующийся при этом пероксид водорода может приводить к защитным реакциям растительного организма, блокирующим микоризное инфицирование. Результат микоризно-бактериальной конкуренции является интригующим и вызывает интерес к изучению взаимоотношений эндофитных эндомикоризных продуцентов ЩК и оксалотрофных бактерий.
Эндофитные бактерии-продуценты ЩК и их роль во взаимоотношениях с растениями. В растениях ЩК образуется из глиоксилата, гликолята, оксалоацетата или аскорбата в процессе фотодыхания и глиоксилатного цикла [80]. Однако существует высокая вероятность того, что ее продуцентами могут быть также и бактерии, ассоциированные с растениями. Например, показано, что дитазотрофный азотфиксатор Burkholderia spp. UENF114111 в значительном количестве выделяет в среду ЩК [92]. На наш взгляд, выявление таких микроорганизмов и исследование их свойств представляет практический интерес. С целью выяснения механизмов поиска грибов, с которыми бактерии Paraburkholderia terrae вступают в ассоциацию, была проведена оценка роли ЩК как молекулы хемотаксиса микробов к грибам, а также как потенциального источника углерода [94]. Все изученные штаммы P. terrae проявляли хемотаксис на действие ЩК, при этом больший эффект проявлялся при низких концентрациях кислоты (0.1%) в сравнении с высокими. Эти же бактерии P. terrae проявляли также направленный хемотаксис по отношению к экссудатам штаммов почвенных грибов Lyophyllum sp. Karsten и Trichoderma asperellum 302, в метаболитах которых была выявлена ЩК. Авторы сделали вывод, что ЩК, продуцируемая грибами, возможно, в первую очередь действует для бактерий P. terrae как сигнальная молекула хемотаксиса.
Исследование долговременного воздействия ЩК на состав почвенных бактериальных сообществ показало, что, начиная с седьмого дня, в образцах, обработанных ЩК, преобладают бактерии, принадлежащие к таксонам Burkholderiales и Oxalobacteraceae [95]. Авторы предположили, что представители микроорганизмов этих видов могут быть вовлечены в минерализацию ЩК и играть потенциально важную роль в плодородии почвы, так как в эти семейства входят многочисленные эффективные солюбилизаторы фосфора и стимуляторы роста растений.
Kirkland с соавт. [96] выявили, что кратковременная обработка надосадочной жидкостью культуральной среды энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana вызывала смертность у клещей нескольких видов, в том числе у взрослых особей Amblyomma americanum (L.), A. maculatum Koch и Ixodes scapularis Say. Анализ супернатанта методом ВЭЖХ выявил наличие оксалата в культуральной жидкости в качестве одного из основных активных ингредиентов с акарицидной активностью. Не исключено, что подобный защитный эффект против клещей могут проявлять и бактерии – продуценты ЩК.
Одной из функций ЩК для эндофитов может быть усиление сидерофорной активности. Например, введение ЩК в среду культивирования эндофитной бактерии Serratia marcescens AL2-16 было более эффективно для продукции сидерофоров этим эндофитом, в сравнении с культивированием на среде с яблочной или янтарной кислотой [97].
В связи с представленными данными возникают вопросы: может ли ЩК выступать сигналом хемотаксиса и для эндофитных бактерий, и как выращивание растений на среде, обогащенной оксалатами, или непосредственная обработка растений кислотой влияют на видовую и количественную структуру эндофитного микробиома? Практический интерес вызывает также изучение влияния инокуляции растений оксалотрофными эндофитными бактериями или продуцентами ЩК на популяционный состав микроорганизмов в различных растительных тканях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основное практическое направление современных исследований свойств эндофитных бактерий связано, преимущественно, с последующим использованием наиболее эффективных штаммов в качестве основных компонентов биологических средств защиты сельскохозяйственных культур от фитопатогенов и вредных насекомых, а также стимуляторов роста и устойчивости растений к различным неблагоприятным фактором окружающей среды [97].
Механизмы защиты растений эндофитами от фитопатогенов включают продукцию бактериями антибиотиков, ферментов – деструкторов клеточных стенок грибов, а также синтез веществ, индуцирующих локальную или системную устойчивость растений [98]. Стимуляция роста растений эндофитами определяется в том числе продукцией бактериями соответствующих фитогормонов, либо индуцированным симбионтом запуском их синтеза самими растениями. Анализу указанных свойств эндофитов посвящен не один десяток обзорных научных статей. Экспериментальные же работы посвящены поиску новых антагонистических или стимулирующих рост растений эндофитов, поиску новых микробных антибиотиков и регуляторов физиологических реакций их хозяев.
Потребительские свойства эндофитов определяются не только областью их использования, но защищенностью от воздействия различных факторов, способных неблагоприятно влиять на численность и видовую структуру их популяции, либо на хозяйственно полезные качества самих растений, так как ниша обитания таких микроорганизмов находится внутри растительного организма.
В последние десятилетия отчетливо выделилось направление исследований не отдельных эндофитов внутри различных тканей растений, а фитомикробиома в целом [99]. Основываясь на выявлении некультивируемых эндофитов и прогрессом в области ДНК-диагностики микроорганизмов, обсуждая генетический аспект эндофитности, можно утверждать об исследованиях внутрирастительного микробиологического генома (микробиогенома), рассматривая эндофитов как набор микробных геномов, локализованных внутри органов растений (“microbial genomes located inside plant organs”) [99].
Мы уверены, что вместе с этим направлением впоследствии будет развиваться также и изучение метаболической активности эндофитов, связанной не только с продукцией антибиотических и стимулирующих рост растений веществ, индукторов синтеза защитных растительных соединений и фитогормонов, но и “обычных” тривиальных соединений, к которым можно отнести ЩК. Подобно тому как незначительные малые изменения метеорологических факторов могут привести к катастрофе (“эффект бабочки”) [100], незначительные концентрации в растительных тканях тривиальных, на первый взгляд, веществ, или невысокая активность определенных ферментов могут определять глобальные физиологические процессы всего органа или целого растения. В качестве примера можно привести результаты экспериментов [87], в которых ЩК, продуцируемая бактериями Bacillus sp. в низких концентрациях ингибировала гибель растительных клеток, вызванную высокими концентрациями этой кислоты, хемотаксис бактерий Paraburkholderia terrae к грибам развивался быстрее и сильнее при низких концентрациях ЩК в сравнении с высокими [94].
Анализ результатов исследований влияния ЩК на физиологические процессы у растений свидетельствует, что это соединение может выполнять несколько различных функций. Очевидно, что деструкция ЩК может препятствовать проявлению этим соединением указанных выше функций, при этом в ее катаболизме способны принимать участие не только собственные растительные ферменты, но и эндофитов. Изменяя количество ЩК в тканях растений и способствуя модификации в них уровня определенных молекул, например, АФК, оксалотрофные эндофиты или продуценты ЩК способны включаться в регуляцию уровня свободного/связанного кальция, ионного гомеостаза, фитогормонов, а также процессы минерального питания, кальций-зависимого сигналинга, фотосинтеза, фиксации атмосферного азота, строительства клеточных стенок на различных стадиях онтогенеза, созревания и прорастания пыльцевых зерен, соматического и зиготического эмбриогенеза, созревания плодов и древесной ткани, участвовать в индукции цветения, защите от повреждения млекопитающими и насекомыми, устойчивости растений к фитопатогенам и абиотическим стресс-факторам окружающей среды, в изменении уровня окислителей/антиоксидантов в растительных тканях.
Мы не претендуем на открытие нового направления в изучении эндофитных бактерий, но лишь ставим вопросы, способны ли оксалотрофные эндофиты или продуценты щавелевой кислоты, используя это вещество, регулировать указанные процессы и какими биохимическими путями.
Работа выполнена в рамках государственного задания № 122041400162-3.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Настоящая работа не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.
About the authors
Р. М. Хайруллин
Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук
Author for correspondence.
Email: krm62@mail.ru
Russian Federation, Уфа
И. В. Максимов
Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук
Email: krm62@mail.ru
Russian Federation, Уфа
References
- Palmieri F., Estoppey A., House G.L., Lohberger A., Bindschedler S., Chain P.S.G., Junier P. Oxalic acid, a molecule at the crossroads of bacterial-fungal interactions // Adv. Appl. Microbiol. 2019. V. 106. P. 49. https://doi.org/10.1016/bs.aambs.2018.10.001
- Lawrie N.S., Cuetos N.M., Sini F., Salam G.A., Ding H., Vancolen A., Nelson J.M., Erkens R.H.J., Perversi G. Systematic review on raphide morphotype calcium oxalate crystals in angiosperms // AoB Plants. 2023. V. 15: plad031. https://doi.org/10.1093/aobpla/plad031
- Hartl W.P., Klapper H., Barbier B., Ensikat H.J., Dronskowski R., Müller P., Ostendorp G., Tye A., Bauer R., Barthlott W. Diversity of calcium oxalate crystals in Cactaceae // Can. J. Bot. 2007. V. 85. P. 501. https://doi.org/10.1139/B07-046
- Ronzhina D.A., Ivanov L.A., Lambers G., P’yankov V.I. Changes in chemical composition of hydrophyte leaves during adaptation to aquatic environment // Russ. J. Plant Physiol. 2009. V. 56. P. 355. https://doi.org/10.1134/S102144370903008X
- Tooulakou G., Giannopoulos A., Nikolopoulos D., Bresta P., Dotsika E., Orkoula M.G., Kontoyannis C.G., Fasseas C., Liakopoulos G., Klapa M.I., Karabourniotis G. Alarm photosynthesis: calcium oxalate crystals as an internal CO2 source in plants // Plant Physiol. 2016. V. 171. P. 2577. https://doi.org/10.1104/pp.16.00111
- Paiva E.A.S. Do calcium oxalate crystals protect against herbivory? // Sci. Nat. 2021. V. 108: 24. https://doi.org/10.1007/s00114-021-01735-z
- Dumas B., Freyssinet C., Pallett K.E. Tissue-specific expression of germin-like oxalate oxidase during development and funga1 infection of barley seedlings // Plant Physiol. 1995. V. 107. P. 1091. https://doi.org/10.1104/pp.107.4.1091
- Schürhoff P. Ozellen und Lichtkondensoren bei einigen Peperomia // Biohefte Bot. Zentralblatt. 1908. V. 23. P. 14.
- Nakata P.A. Advances in our understanding of calcium oxalate crystal formation and function in plants // Plant Sci. 2003. V. 164. P. 901. https://doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00120-1
- Швартау В.В., Вирыч П.А., Маковейчук Т.И., Артеменко А.Ю. Кальций в растительных клетках // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2014. V. 22. P. 19. https://doi.org/10.15421/011403
- Mulet J.M., Campos F., Yenush L. Editorial: ion homeostasis in plant stress and development // Front. Plant Sci. 2020. V. 11: 618273. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.618273
- Fenn L.B., Hasanein B., Burks C.M. Calcium-ammonium effects on growth and yield of small grains // Agronomy J. 1995. V. 87. P. 1041. https://doi.org/10.2134/agronj1995.00021962008700060002x
- Glyan’ko A.K. Signaling systems of rhizobia (Rhizobiaceae) and leguminous plants (Fabaceae) upon the formation of a legume-rhizobium symbiosis // Appl. Biochem. Microbiol. 2015. V. 51. P. 494. https://doi.org/10.1134/S0003683815050063
- Li J., Yang Y. How do plants maintain pH and ion homeostasis under saline-alkali stress? // Front. Plant Sci. 2023. V. 14: 1217193. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1217193
- Li P., Liu C., Luo Y., Shi H., Li Q., PinChu C., Li X., Yang J., Fan W. Oxalate in plants: metabolism, function, regulation, and application // J. Agric. Food Chem. 2022. V. 70. P. 16037. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.2c04787
- Tian X., He M., Wang Z., Zhang J., Song Y., He Z., Dong Y. Application of nitric oxide and calcium nitrate enhances tolerance of wheat seedlings to salt stress // Plant Growth Regul. 2015. V. 77. P. 343. https://doi.org/10.1007/s10725-015-0069-3
- Elliott D.C. Calcium involvement in plant hormone action // Molecular and cellular aspects of calcium in plant development / Ed. A.J. Trewavas. Plenum Press. 1986. P. 285.
- Poovaiah B.W. Veluthambi K. The role of calcium and calmodulin in hormone action in plants: importance of protein phosphorylation, molecular and cellular aspects of calcium in plant development / Ed. A.J. Trewavas. Plenum Press. 1986. P. 83.
- Leitenmaier B., Küpper H. Compartmentation and complexation of metals in hyperaccumulator plants // Front. Plant Sci. 2013. V. 4: 374. https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00374
- Adhikary T., Gill1 P.P.S., Jawandha S.K., Kaur N., Sinha A. Exogenous application of oxalic acid improves the storage quality of Asian pears (Patharnakh) by regulating physiological and biochemical changes // Acta Physiol. Plant. 2024. V. 46: 1. https://doi.org/10.1007/s11738-023-03624-6
- Erbas D. Effect of oxalic acid treatments and modified atmosphere packaging on the quality attributes of rocket leaves during different storage temperatures // Hortic. 2023. V. 9. P. 718. https://doi.org/10.3390/horticulturae9060718
- Chiriboga J. Purification and properties of oxalic acid oxidase // Arch. Bioch. Bioph. 1966. V. 116. P. 516. https://doi.org/10.1016/0003-9861(66)90057-9
- Lane B.G., Dunwell J.M., Rag J.A., Schmitt M.R., Cumin A.C. Germin, a protein marker of early plant development, is an oxalate oxidase // J. Biol. Chem. 1993. V. 268. P. 12239. https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)31377-2
- Lu M., Han Y.P., Gao J.G., Wang X.J., Li W.B. Identification and analysis of the germin-like gene family in soybean // BMC Genom. 2010. V. 11: 620. https://doi.org/10.1186/1471-2164-11-620
- Wang T., Chen X., Zhu F., Li H., Li L., Yang Q., Chi X., Yu Sh., Liang X. Characterization of peanut germin-like proteins, AhGLPs in plant development and defense // PLoS One. 2013. V. 8: e61722. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0061722
- Dunwell J.M., Purvis A., Khuri S. Cupins: the most functionally diverse protein superfamily? // Phytochem. 2004. V. 65. P. 7. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2003.08.016
- Карпилов Ю.С., Кузьмин А.Н., Биль К.Я. Распределение ферментов гликолиза в ассимиляционных тканях листьев С4-растений и их связь с особенностями реакций фотосинтеза и фотодыхания // Физиология растений. 1978. Т. 25. С. 1120.
- Franceschi V. Calcium oxalate in plants // Trends Plant Sci. 2001. V. 6. P. 331. https://doi.org/10.1016/S1360-1385(01)02014-3
- Kuo-Huang L.L., Ku M.S.B., Franceschi V.R. Correlations between calcium oxalate crystals and photosynthetic activities in palisade cells of shade adapted Peperomia glabella // Bot. Stud. 2007. V. 48. P. 155.
- Trinchant J.C., Rigaud J. Bacteroid oxalate oxidase and soluble oxalate in nodules of faba beans (Vicia faba L.) submitted to water restricted conditions: possible involvement in nitrogen fixation // J. Exp. Bot. 1996. V. 4. P. 1865. https://doi.org/10.1093/jxb/47.12.1865
- Kost T., Stopnisek N., Agnoli K., Eberl L., Weisskopf L. Oxalotrophy, a widespread trait of plant-associated Burkholderia species, is involved in successful root colonization of lupin and maize by Burkholderia phytofirmans // Front. Microbiol. 2014. V. 4. P. 421. https://doi.org/10.3389/fmicb.2013.00421
- Suarez-Moreno Z.R., Caballero-Mellado J., Coutinho B.G., Mendonca-Previato L., James E.K., Venturi V. Common features of environmental and potentially beneficial plant-associated Burkholderia // Microb. Ecol. 2012. V. 63. P. 249. https://doi.org/10.1007/s00248-011-9929-1
- Jooste M., Roets F., Midgley G.F., Oberlander K.C., Dreyer L.L. Nitrogen-fixing bacteria and Oxalis – evidence for a vertically inherited bacterial symbiosis // BMC Plant Biol. 2019. V. 19. P. 441. https://doi.org/10.1186/s12870-019-2049-7
- Patnaik D., Khurana P. Germins and germin like proteins: an overview // Indian J. Exp. Biol. 2001. V. 39. P. 191. https://doi.org/10.1016/S0981-9428(01)01285-2
- He H., Veneklaas E.J., Kuo J., Lambers H. Physiological and ecological significance of biomineralization in plants // Trends Plant Sci. 2014. V. 19. P. 166. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2013.11.002
- Schneider А. The probable function of calcium oxalate crystals in plants // Bot. Gaz. 1901. V. 32. P. 142.
- Naude T.W., Naidoo V. Oxalates-containing plants // Veterinary toxicology: basic and clinical principles / Ed. R.C. Gupta. Elsevier. 2007. P. 880.
- Gwaltney-Brant S.M. Oxalate-containing plants // Small animal toxicology / Eds. M.E. Peterson, P.A. Talcott. Elsevier. 2013. P. 725. https://doi.org/10.1016/B978-1-4557-0717-1.000 68-5
- Grigorieva L.A., Amosova L.I. Peculiarities of the peritrophic matrix in the midgut of tick females of the genus ixodes (Acarina: Ixodidae) // Parazitologiya. 2004. V. 38. P. 3. https://doi.org/10.1016/j.abb.2004.08.032
- Park S., Doege S.J., Nakata P.A., Korth K.L. Medicago truncatula-derived calcium oxalate crystals have a negative impact on chewing insect performance via their physical properties // Entomol. Exp. Appl. 2009. V. 131. P. 208. https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.2009.00846.x
- Yoshida M., Cowgill S.E., Wightman J.A. Mechanism of resistance to Helicoverpa armigera (Lepidoptera, Noctuidae) in chickpea: role of oxalic acid in leaf exudate as an antibiotic factor // J. Econ. Entomol. 1995. V. 88. P. 1783. https://doi.org/10.1093/jee/88.6.1783
- Prasad P., Shivay Y.S. Oxalic acid/oxalates in plants: from self-defence to phytoremediation // Curr. Sci. V. 112. P. 1665. https://doi.org/10.18520/cs/v112/i08/1665-1667
- Nowakowska J. Gene expression and oxalate oxidase activity of two germin isoforms induced by stress // Acta Physiol. Plant. 1998. V. 20. P. 19. https://doi.org/10.1007/s11738-998-0039-8
- Bose J., Babourina O., Rengel Z. Role of magnesium in alleviation of aluminium toxicity in plants // J. Exp. Bot. 2011. V. 62. P. 2251. https://doi.org/10.1093/jxb/erq456
- He H., Bleby T.M., Veneklaas E.J., Lambers H., Kuo J. Precipitation of calcium, magnesium, strontium and barium in tissues of four Acacia species (Leguminosae: Mimosoideae) // PLoS One. 2012. V. 7: e41563. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041563
- Jauregui-Zuniga D., Ferrer M.A., Calderon A.A., Munoz R., Moreno A. Heavy metal stress reduces the deposition of calcium oxalate crystals in leaves of Phaseolus vulgaris // J. Plant Physiol. 2005. V. 162. P. 1183. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2005.03.002
- Magro P., Marciano P., Di Lenna P. Oxalic acid production and its role in pathogenesis of Sclerotinia sclerotiorum // FEMS Microbiol. Lett. 1984. V. 24. P. 9. https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1984.tb01234.x
- Cessna S.G., Sears V.E., Dickman M.B., Low P.S. Oxalic acid, a pathogenicity factor for Sclerotinia sclerotiorum, suppresses the oxidative burst of the host plant // Plant Cell. 2000. V. 12. P. 2191. https://doi.org/10.1105/tpc.12.11.2191
- Guimaraes R.L., Stotz H.U. Oxalate production by Sclerotinia sclerotiorum deregulates guard cells during infection // Plant Physiol. 2004. V. 136. P. 3703. https://doi.org/10.1104/pp.104.049650
- Rao D.V. Occurrence of magnesium oxalate crystals on lesions incited by Mycena citricolor on coffee // Phytopathology. 1989. V. 79. P. 783. https://doi.org/10.1094/Phyto-79-783
- Zhang Z., Collinge D.B., Thordal-Christensen H. Germin-like oxalate oxidase, a H2O2-producing enzyme, accumulates in barley attacked by the powdery mildew fungus // Plant J. 1995. V. 8. P. 139. https://doi.org/10.1046/j.1365-313X.1995.08010139.x
- Thordal-Christensen H., Zhang Z., Wei Y., Collinge D.B. Subcellular localization of H2O2 in plants. H2O2 accumulation in papillae and hypersensitive response during the barley-powdery mildew interaction // Plant J. 1997. V. 11. P. 1187. https://doi.org/10.1046/j.1365-313X.1997.11061187.x
- Donaldson P.A., Anderson T., Lane B.G., Davidson A.L., Simmonds D.H. Soybean plants expressing an active oligomeric oxalate oxidase from the wheat gf-2.8 (germin) gene are resistant to the oxalate-secreting pathogen Sclerotinia sclerotiorum // Physiol. Mol. Plant Pathol. 2001. V. 59. P. 297. https://doi.org/10.1006/pmpp.2001.0369
- Han Y., Joosten H.J., Niu W., Zhao Z., Mariano P.S., McCalman M., van Kan J., Schaap P.J., Dunaway-Mariano D. Oxaloacetate hydrolase, the C-C bond lyase of oxalate secreting fungi // J. Biol. Chem. 2007. V. 282. P. 9581. https://doi.org/10.1074/jbc.M608961200
- Watanabe T., Shitan N., Suzuki S., Umezawa T., Shimada M., Yazaki K., Hattori T. Oxalate efflux transporter from the brown rot fungus Fomitopsis palustris // Appl. Env. Microbiol. 2010. V. 76. P. 7683. https://doi.org/10.1128/AEM.00829-10
- Urzua U., Kersten P.J., Vicuna R. Manganese peroxidase-dependent oxidation of glyoxylic and oxalic acids synthesized by produces extracellular hydrogen peroxide // Appl. Environ. Microbiol. 1998. V. 64. P. 68. https://doi.org/10.1128/AEM.64.1.68-73.1998
- Johansson E.M., Fransson P.M.A., Finlay R.D., van Hees P.A.W. Quantitative analysis of exudates from soil-living basidiomycetes in pure culture as a response to lead, cadmium and arsenic stress // Soil Biol. Biochem. 2008. V. 40. P. 2225. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2008.04.016
- Gadd G.M., Bahri-Esfahani J., Li Q., Rhee Y.J., Wei Z., Fomina M., Liang X. Oxalate production by fungi: significance in geomycology, biodeterioration and bioremediation // Fungal Biol. Rev. 2014. V. 28. P. 36. https://doi.org/10.1016/j.fbr.2014.05.001
- Cromack J.K., Solkins P., Grausten W.C., Speidel K., Todd A.W., Spycher G., Li C.Y., Todd R.L. Calcium oxalate accumulation and soil weathering in mats of the hypogeous fungus Hysterangium crissum // Soil Biol. Bioch. 1979. V. 11. P. 463. https://doi.org/10.1016/0038-0717(79)90003-8
- Gharieb M.M., Sayer J.A., Gadd G.M. Solubilization of natural gypsum (CaSO4×2H2O) and the formation of calcium oxalate by Aspergillus niger and Serpula himantioides // Mycol. Res. 1998. V. 102. P. 825. https://doi.org/10.1017/S0953756297005510
- Verrecchia E.P., Braissant O., Cailleau G. The oxalate-carbonate pathway in soil carbon storage: the role of fungi and oxalotrophic bacteria // Fungi in Biogeochemical Cycles. Chapter 12 / Ed. G.M. Gadd. Cambridge University Press. 2006. P. 289. https://doi.org/10.1017/CBO9780511550522.013
- Cailleau G., Braissant O., Verrecchia E.P. Turning sunlight into stone: the oxalate-carbonate pathway in a tropical tree ecosystem // Biogeosciences. 2011. V. 8. P. 1077. https://doi.org/10.5194/bgd-8-1077-2011
- Sessitsch A., Coenye T., Sturz A.V., Vandamme P., Barka E.A., Salles J.F., Van Elsas J.D., Faure D., Reiter B., Glick B.R., Wang-Pruski G., Nowak J. Burkholderia phytofirmans sp. nov., a novel plant-associated bacterium with plant-beneficial properties // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2005. V. 55. P. 1187. https://doi.org/10.1099/ijs.0.63149-0
- Belles-Sancho P., Beukes C., James E.K., Pessi G. Nitrogen-fixing symbiotic Paraburkholderia species: current knowledge and future perspectives // Nitrogen. 2023. V. 4: 135. https://doi.org/10.3390/nitrogen4010010
- Ghate S.D., Shastry R.P., Rekha P.D. Rapid detection of oxalotrophic endophytic bacteria by colony PCR from Colocasia esculenta and Remusatia vivipara // Ecol. Genet. Genom. 2021. V. 21: 100102. https://doi.org/10.1016/j.egg.2021.100102
- Carper D.L., Carrell A.A., Kueppers L.M., Frank A.C. Bacterial endophyte communities in Pinus flexilis are structured by host age, tissue type, and environmental factors // Plant Soil. 2018. V. 428. P. 335. https://doi.org/10.1007/s11104-018-3682-x
- DeLeon-Rodrigueza N., Lathemb T.L., Rodriguez-R L.M., Barazeshc J.M., Andersond B.E., Beyersdorf A.J., Ziemba L.D., Bergin M., Nenes A., Konstantinidis K.T. Microbiome of the upper troposphere: species composition and prevalence, effects of tropical storms, and atmospheric implications // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2013. V. 110. P. 2575. https://doi.org/10.1073/pnas.1212089110
- Ofek M., Hadar Y., Minz D. Ecology of root colonizing Massilia (Oxalobacteraceae) // PLoS One. 2012. V. 7: e40117. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0040117
- Kumar K., Belur P.D. Production of oxalate oxidase from endophytic Ochrobactrum intermedium CL6 // J. Pure Appl. Microbiol. 2018. V. 12. P. 2327. https://doi.org/10.22207/JPAM.12.4.75
- Silva U.S., Cuadros-Orellana S., Silva D.R.C., Freitas-Junior L.F., Fernandes A.C., Leite L.R., Oliveira C.A., Dos Santos V.L. Genomic and phenotypic insights into the potential of rock phosphate solubilizing bacteria to promote millet growth in vivo // Front. Microbiol. 2020. V. 11: 574550. https://doi.org/10.3389/fmicb. 2020.574550
- Graz M., Rachwal K., Zan R., Jarosz-Wilkolazka A. Oxalic acid degradation by a novel fungal oxalate oxidase from Abortiporus biennis // Acta Bioch. Polonica. 2016. V. 63. P. 595. http://dx.doi.org/10.18388/abp.2016_1282
- Don Cowan A., Babenko D., Bird R., Botha A., Breecker D.O., Clarke C.E., Francis M.L., Gallagher T., Lebre P.H., Nel T., Potts A.J., Trindade M., Van Zyl L. Oxalate and oxalotrophy: an environmental perspective // Sustainable Microbiol. 2024. V. 1: qvad004. https://doi.org/10.1093/sumbio/qvad004
- Tanner A., Bowater L., Fairhurst S.A., Bornemann S. Oxalate decarboxylase requires manganese and dioxygen for activity: overexpression and characterization of Bacillus subtilis YvrK and YoaN // J. Biol. Chem. 2001. V. 276. P. 43627. https://doi.org/10.1074/jbc.m107202200
- Svedruzic D., Jonsson S., Toyota C.G., Reinhardt L.A., Ricagnoc S., Lindqvist Y., Richards N.G. The enzymes of oxalate metabolism: unexpected structures and mechanisms // Arch. Biochem. Biophys. 2005. V. 433. P. 176. https://doi.org/10.1016/j.abb.2004.08.032
- Schneider K., Skovran E., Vorholta J.A. Oxalyl-coenzyme a reduction to glyoxylate is the preferred route of oxalate assimilation in Methylobacterium extorquens AM1 // J. Bacteriol. 2012. V. 194. P. 3144. https://doi.org/10.1128/jb.00288-12
- Ensign S.A. Revisiting the glyoxylate cycle: alternate pathways for microbial acetate assimilation // Mol. Microbiol. 2006. V. 61. P. 274. https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2006.052 47.x
- Sahin N. Isolation and characterization of a diazotrophic, oxalate-oxidizing bacterium from sour grass (Oxalis pes-caprae L.) // Res. Microbiol. 2005. V. 156. P. 452. https://doi.org/10.1016/j.resmic.2004.10.009
- Robertson C.F.M., Meyers P.R. Oxalate utilisation is widespread in the actinobacterial genus Kribbella // Syst. Appl. Microbiol. 2022. V. 45: 126373. https://doi.org/10.1016/j.syapm.2022.126373
- Kumar V., Irfan M., Datta A. Manipulation of oxalate metabolism in plants for improving food quality and productivity // Phytochem. 2019. V. 158. P. 103. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2018.10.029
- Goldsmith M., Barad S., Peleg Y., Albeck S., Dym O., Brandis A., Mehlman T., Reich Z. The identification and characterization of an oxalyl-CoA synthetase from grass pea (Lathyrus sativus L.) // RSC Chem. Biol. 2022. V. 3. P. 320. https://doi.org/10.1039/D1CB00202C
- Foster J., Kim H.U., Nakata P.A., Browse J. A previously unknown oxalyl-CoA synthetase is important for oxalate catabolism in Arabidopsis // Plant Cell. 2012. V. 24. P. 1217. https://doi.org/10.1105/tpc.112.096032
- Da Silva L.F., Dias C.V., Cidade L.C., Mendes J.S., Pirovani C.P., Alvim F.C., Pereira G.A., Aragão F.J., Cascardo J.C., Costa M.G. Expression of an oxalate decarboxylase impairs the necrotic effect induced by nep1-like protein (nlp) of Moniliophthora perniciosa in transgenic tobacco // Mol. Plant Microbe Interact. 2011. V. 24. P. 839. https://doi.org/10.1094/MPMI-12-10-0286
- Marina M., Romero F.M., Villarreal N.M., Medina A.J., Gárriz A., Rossi F.R., Martinez G.A., Pieckenstain F.L. Mechanisms of plant protection against two oxalate-producing fungal pathogens by oxalotrophic strains of Stenotrophomonas spp. // Plant Mol. Biol. 2019. V. 100. P. 659. https://doi.org/10.1007/s11103-019-00888-w
- Schoonbeek H.J., Jacquat-Bovet A.C., Mascher F., Metraux J.P. Oxalate-degrading bacteria can protect Arabidopsis thaliana and crop plants against Botrytis cinerea // Mol. Plant Microbe Interact. 2007. V. 20. P. 1535. https://doi.org/10.1094/MPMI-20-12-1535
- Lee Y., Choi O., Kang B., Bae J., Kim S., Kim J. Grey mould control by oxalate degradation using non-antifungal Pseudomonas abietaniphila strain ODB36 // Sci. Rep. 2020. V. 10: 1605. https://doi.org/10.1038/s41598-020-58609-z
- Saucedo-Bazalar M., Masias P., Nouchi-Moromizato E., Santos C., Mialhe E., Cedeño V. MALDI mass spectrometry-based identification of antifungal molecules from endophytic Bacillus strains with biocontrol potential of Lasiodiplodia theobromae, a grapevine trunk pathogen in Peru // Curr. Res. Microb. Sci. 2023. V. 5: 100201. https://doi.org/10.1016/j.crmicr.2023.100201
- Yu Y.Y., Si F.J., Wang N., Wang T., Jin Y., Zheng Y., Yang W., Luo Y.M., Niu D.D., Guo J.H., Jiang C.H. Bacillus-secreted oxalic acid induces tomato resistance against gray mold disease caused by Botrytis cinerea by activating the JA/ET pathway // Mol. Plant Microbe Interact. 2022. V. 35. P. 659. https://doi. org/10.1094/MPMI-11-21-0289-R
- Tufail M.A., Ayyub M., Irfan M., Shakoor A., Chibani C.M., Schmitz R.A. Endophytic bacteria perform better than endophytic fungi in improving plant growth under drought stress: a meta-comparison spanning 12 years (2010-2021) // Physiol. Plant. 2022. V. 174: e13806. https://doi.org/10.1111/ppl.13806
- Wang X., Liu Y., Qing C., Zeng J., Dong J., Xia P. Analysis of diversity and function of epiphytic bacterial communities associated with macrophytes using a metagenomic approach // Microb. Ecol. 2024. V. 87: 37. https://doi.org/10.1007/s00248-024-02346-7
- Yu P., He X., Baer M., Beirinckx S., Tian T., Moya Y.A.T., Zhang X., Deichmann M., Frey F.P., Bresgen V., Li C., Razavi B.S., Schaaf G., von Wirén N., Su Z. et al. Plant flavones enrich rhizosphere Oxalobacteraceae to improve maize performance under nitrogen deprivation // Nat. Plants. 2021. V. 7. P. 481. https://doi.org/10.1038/s41477-021-00897-y
- Lang E., Schumann P., Adler S., Sproer C., Sahin N. Azorhizobium oxalatiphilum sp. nov., and emended description of the genus Azorhizobium // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2013. V. 63. P. 1505. https://doi.org/10.1099/ijs.0.045229-0
- Busato J.G., Lima L.S., Aguiar N.O., Canellas L.P., Olivares F.L. Changes in labile phosphorus forms during maturation of vermicompost enriched with phosphorus-solubilizing and diazotrophic bacteria // Bioresour. Technol. 2012. V. 110. P. 390. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.01.126
- Andrino A., Guggenberger G., Kernchen S., Mikutta R., Sauheitl L., Boy J. Production of organic acids by arbuscular mycorrhizal fungi and their contribution in the mobilization of phosphorus bound to iron oxides // Front. Plant Sci. 2021. V. 12: 661842. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.661842
- Haq I.U., Zwahlen R.D., Yang P., van Elsas J.D. The response of Paraburkholderia terrae strains to two soil fungi and the potential role of oxalate // Front. Microbiol. 2018. V. 9: 989. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00989
- Macias-Benitez S., Garcia-Martinez A.M., Jimenez P.C., Gonzalez J.M., Moral M.T., Parrado Rubio J. Rhizospheric organic acids as biostimulants: monitoring feedbacks on soil microorganisms and biochemical properties // Front. Plant Sci. 2020. V. 11: 633. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00633
- Kirkland B.H., Eisa A., Keyhani N.O. Oxalic acid as a fungal acaracidal virulence factor // J. Med. Entomol. 2005. V. 42. P. 346. https://doi.org/10.1093/jmedent/42.3.346
- Devi K.A., Pandey P., Sharma G.D. Plant growth-promoting endophyte Serratia marcescens AL2-16 enhances the growth of Achyranthes aspera L., a medicinal plant // HAYATI J. Biosci. 2016. V. 23: 173. https://doi.org/10.1016/j.hjb.2016.12.006
- Maksimov I.V., Maksimova T.I., Sarvarova E.R., Blagova D.K., Popov V.O. Endophytic bacteria as effective agents of new-generation biopesticides // Appl. Biochem. Microbiol. 2018. V. 54. P. 128. https://doi.org/10.1134/S0003683818020072
- Bulgarelli D., Schlaeppi K., Spaepen S., van Themaat E.V.L., Schulze-Lefert P. Structure and functions of the bacterial microbiota of plants // Ann. Rev. Plant Biol. 2013. V. 64. P. 807. https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-050312-120106
- Chen N., Tian Sh., Wang F., Shi P., Liu L., Xiao M., Liu E., Tang W., Rahman M., Somos-Valenzuela M. Multi-wing butterfly effects on catastrophic rockslides // Geosci. Front. 2023. V. 14: 101627. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101627
Supplementary files