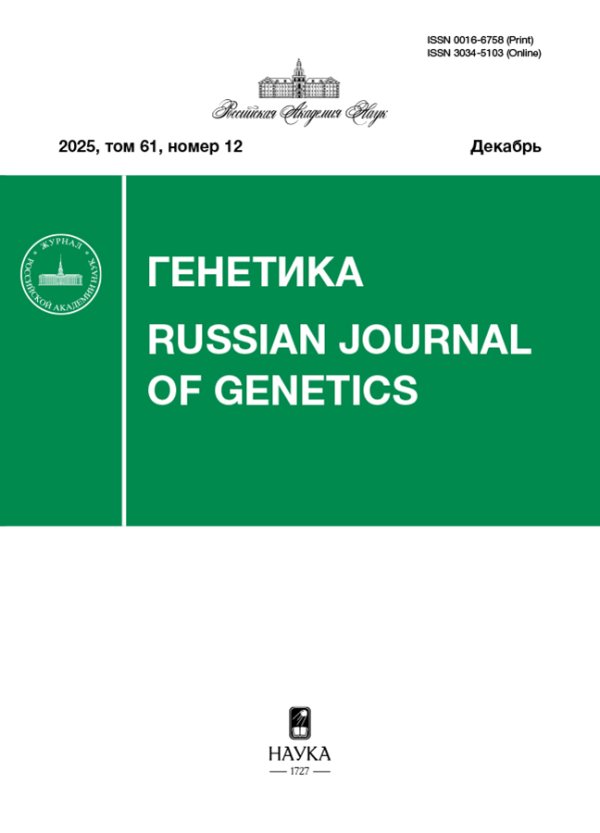Genetic Differentiation and Clonality in a Local Population of the Caucasian Endemic Trifolium polyphyllum C.A. Mey. (Fabaceae)
- Authors: Zelenova O.B.1, Galkina M.A.2, Onipchenko V.G.1, Schanzer I.A.2
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Tsitsin Main Botanical Garden of Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 60, No 1 (2024)
- Pages: 69-79
- Section: ГЕНЕТИКА РАСТЕНИЙ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0016-6758/article/view/255585
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0016675824010051
- ID: 255585
Cite item
Full Text
Abstract
Trifolium polyphyllum is a Caucasian endemic of the Fabaceae family peculiar for its inability of nitrogen fixation. Despite this unique trait, the species is insufficiently studied, in particular, little is known about its propagation and dispersal modes. Analyses of ISSR markers in a sample from a population at Malaya Khatipara Mountain revealed that the species is capable to both sexual and vegetative propagation; however, the former mode dominates. We found out that separate patches within a local population are considerably genetically differentiated within an area of about 2000 square meters (PhiPT = 0.349; p = 0.001). We suppose this may happen due to lack of adaptations to seed dispersal. We also suppose that the observed concentration of genetically admixed individuals in upper parts of slopes is due to peculiarities of pollinators’ behavior. The size of vegetative clones does not exceed 1 square meter.
Full Text
Trifolium polyphyllum С.A. Mey. – травянистый многолетник, эндемик Кавказа, викарирующий вид к европейскому клеверу T. alpinum L. [1]. Встречается в субнивальном поясе Большого Кавказа [2], в частности на Эльбрусе, в Верхней Сванетии [3], а также в Западном Закавказье и в Кабардино-Балкарии [4], в известняковых горах Западной Грузии [5]. Trifolium polyphyllum представляет особый интерес, поскольку на данный момент является единственным известным видом семейства Fabaceae холодных областей, не фиксирующим атмосферный азот [6, 7]. Анализ корневой системы показал практически полное отсутствие клубеньков [8].
Trifolium polyphyllum является одним из доминирующих видов сосудистых растений альпийских лишайниковых пустошей [9]. Альпийские пустоши в пределах Кавказского заповедника распространены в интервале высот 2000–2700 м [10]. Они развиваются в условиях малой мощности (менее 0.3 м) или отсутствия снежного покрова, поэтому характерны преимущественно для выпуклых участков склонов, гребней хребтов и платообразных поверхностей. По мнению В.В. Акатова [11] распределение T. polyphyllum по массивам альпийских лугов и пустошей не соответствует его экологическим предпочтениям и может быть связано с ограничением поступления диаспор с других горных массивов и с отсутствием вида в субнивальном поясе.
Исследуемая популяция T. polyphyllum произрастает на Кавказе, где этот вид встречается в субальпийском, альпийском и субнивальном поясах, доходя до высот 3150–3180 м [12]. Однако этот вид не относится к специфичным видам субнивального пояса, поэтому встречается и на высоте ниже 3000 м. В работе А.В. Егорова и В.Г. Онипченко [13] T. polyphyllum был отмечен девять раз на склонах восточного, западного, южного румбов и на интервале крутизны склонов 30º–80º.
Trifolium polyphyllum относится к короткоцветущим растениям [14], цветет в июне–июле, плодоносит в августе, боб одно–двухсемянный, семена бурые, около 2 мм в поперечнике [15]. Имеет стержневой корень, при этом диаметр площади захвата корневой системы очень обширен и составляет около 120 см [4]. С.Х. Шхагапсоев [4] указывает на наличие у T. polyphyllum вегетативного размножения. Отмершие листья довольно плотно окружают побеги текущего года, а надземные побеги образуют так называемую “подушку”. Согласно С.Х. Шхагапсоеву [4], у растения сильно развита партикуляция, однако пространственного разделения сформированных структур, способных к самостоятельному существованию, не происходит, и подземные побеги, выносимые на поверхность каждой партикулой, образуют единую “подушку”. На альпийских пустошах этот вид образует куртины площадью от 0.01 до 3 м2 [8]. Для T. polyphyllum характерно слабое варьирование числа побегов по годам, что считается вызванным независимостью клональных растений от семенного размножения и приживаемости проростков в суровых условиях высокогорий [6].
Таким образом, данные литературы свидетельствуют о преобладании вегетативного размножения в высокогорных популяциях T. polyphyllum. Для проверки этого предположения и оценки размеров вегетативных клонов мы провели исследование генетического полиморфизма одной локальной популяции этого вида с горы Малая Хатипара Большого Кавказского хребта. В качестве генетических маркеров мы использовали межмикросателлитные участки ДНК (ISSR – inter simple sequence repeats). Этот мультилокусный метод анализа позволяет оценить вариабельность большей части генома, в том числе у видов, ранее не изученных в молекулярно-генетическом отношении [16], так как не требует предварительного знания последовательностей ДНК. Анализ межмикросателлитных участков ДНК позволяет оценить внутри- и межпопуляционную генетическую изменчивость, определить генетически идентичные особи, возникшие путем вегетативного размножения, и отличить их от растений семенного происхождения. Данный тип маркеров широко используется в популяционно-генетических исследованиях различных видов растений [17–21] благодаря его дешевизне, простоте и достаточно хорошей воспроизводимости результатов. В том числе, ISSR-маркеры неоднократно использовались в работах по изучению генетической структуры популяций разных видов клевера [22–28]. В наших собственных исследованиях мы успешно использовали ISSR-маркеры для изучения генетической структуры популяций видов из различных групп растений, в том числе с целью выявления вегетативных клонов. Так, например, исследование ряда локальных популяций Mentha aquatica L. (Lamiaceae) позволило установить, что не только отдельные прибрежные сплавины у этого растения имеют чисто вегетативное происхождение, но и все сплавины на протяжении 5 км вдоль течения р. Усманка в Воронежской области представляют собой один единственный вегетативный клон [29]. При этом в других исследованных популяциях из Абхазии и Западной Украины наблюдается как вегетативное, так и семенное размножение. Другой пример можно привести из семейства Fabaceae. В ходе наших исследований генетической изменчивости популяций редкого полупустынного растения Eversmannia subspinosa (Fisch. ex DC.) B.Fedtsch. в Астраханской обл. и Калмыкии [30] нам удалось показать, что в популяции этого вида в Калмыкии присутствует как семенное, так и вегетативное размножение. При этом вся популяция северного макросклона горы Большое Богдо в Астраханской обл. представляет собой один вегетативный клон.
Задача настоящего исследования – определение степени распространенности вегетативного и семенного размножения в локальной популяции T. polyphyllum на одном из склонов горы Малая Хатипара и оценка пространственных размеров вегетативных клонов.
Материалы и методы
Сбор материала проводили в июле–августе 2021 г. на горе Малая Хатипара в Тебердинском национальном парке на высоте 2800 м. над ур. моря (рис. 1,а). На одном из склонов возле стационара Малая Хатипара в месте произрастания T. polyphyllum были заложены две трансекты (N43°26'51.2" E41°41'37.6"; N43°26'52.4" E41°41'37") размером 20 × 0.5 м, расстояние между которыми вдоль склона составляло 33 м. При этом вторая трансекта располагалась приблизительно (по показаниям анероида) на 5 м выше первой по вертикали, т. е. крутизна склона составляла около 9°.
Рис. 1. а – Положение исследованной популяции на Кавказе (красный треугольник), б – “подушка” T. polyphyllum (фото В. Онипченко); в – расположение мест отбора образцов на горе Малая Хатипара: 1 – первая трансекта, 2 – вторая трансекта, 3 – первая “подушка”, 4 – вторая “подушка”. Трансекты разбиты на прямоугольные участки 1 × 0.5 м, с которых отбирали образцы. Изображение горы получено с помощью сервиса Google Earth (https://earth.google.com/web/). Масштабная линейка 60 м.
Каждая из трансект была разделена на 20 участков 1 × 0.5 м, с краю которых отбирались образцы (второй снизу лист). Всего было отобрано 40 образцов. Также были выбраны две компактные “подушки” (рис. 1,б), располагавшиеся в отдалении от трансект (более 30 м) и на расстоянии около 30 м друг от друга. С каждой “подушки” было взято по пять образцов, которые вошли в первую выборку вместе с образцами, собранными по всей длине двух трансект (табл. 1). Детально схема положения мест отбора образцов показана на рис. 1,в. Дополнительно было отобрано по 20 образцов с двух участков 1 × 0.5 м на каждой из трансект, эти образцы вошли во вторую выборку. Общая площадь исследованной локальной популяции составила около 2000 м2.
Таблица 1. Номера образцов T. polyphyllum, использованных для ISSR-анализа
Выборка 1 | Выборка 2 | |
Трансекта 1 | 1–5, 7, 12–16, 19, 20, 44, 84, 86, 87, 95, 97 | 40–59 |
Трансекта 2 | 29–32, 34–38, 73, 108–111, 114–118 | 60–71, 73–79 |
“Подушка” 1 | 122–125, 127 | – |
“Подушка” 2 | 141–145 | – |
Примечание. Нумерация образцов связана не с их положением на трансектах, а с последовательностью их использования в анализе.
Помимо этого, с целью косвенной оценки системы размножения, нами были отобраны по 50 генеративных побегов с четырех площадок, расположенных на разных склонах и гребне хребта, всего 200 побегов. На них у 1746 цветков был произведен подсчет семязачатков и развивающихся семян в незрелых бобах. Для выделения ДНК из высушенных в силикагеле листьев использовали набор “ДНК-Экстран-3” (ООО “Синтол”, Москва). Использованные ISSR-праймеры с температурами отжига и числом полученных фрагментов приведены в табл. 2.
Таблица 2. Использованные в работе ISSR-праймеры
Код праймера | Последовательность праймера | Т отжига, °С | Число амплифицированных фрагментов в 1/2 выборках | Число полиморфных фрагментов в 1/2 выборках | % полиморфных локусов в 1/2 выборках |
М2 | (AC)8(C/T)G | 50 | 16/5 | 11/1 | 68.8/20.0 |
М11 | (САСАСА)2(A/G) | 37 | 13/0 | 12/0 | 92.3/0 |
М12 | (CA)6RY | 50 | 7/4 | 6/4 | 85.7/100 |
М13 | (AGC)4(C/T) | 50 | 8/8 | 5/3 | 62.5/37.5 |
HB13 | (CAG)3GC | 50 | 10/8 | 6/4 | 60.0/50.0 |
UBC841 | (GA8)YG | 45 | 13/0 | 10/0 | 76.9/0 |
Реакционная смесь (20 мкл) содержала 10–20 нг ДНК, 20 пМ праймера и 4 мкл реакционной смеси MasterMix 5× MagDDMIX-2025 (200 мкМ каждого dNTP, 1.5 мМ MgCl2, 1.5 ед. Taq-полимеразы и буфер, Диалат Лтд., Россия). ПЦР с предварительной денатурацией (94°С – 3 мин) проводили в амплификаторе Т-100 (Biorad Laboratories, США) в течение 35 циклов в режиме: денатурация при 94°С – 30 с, отжиг при 37–50°С – 30 с, элонгация при 72°С – 1 мин + прибавление 2 с на каждый цикл с финальной элонгацией в течение 3 мин. Разделение продуктов ПЦР проводили электрофорезом в 1.7%-ном агарозном геле (Amresco, США) в 0.5× TBE (pH 8.3) буфере с окрашиванием бромидом этидия (0.5 мкг/мл) при 125 В в течение 1 ч 15 мин и фотографировали в УФ-свете. Фотографии электрофореграмм ISSR-маркеров типировали в программе Cross Checker 2.91 [31]. Типировались только четкие и воспроизводимые маркеры. Неясно амплифицированные маркеры кодировались как отсутствующие данные. В результате была получена матрица присутствия/отсутствия фрагментов одинаковой длины (1 – есть/ 0 – нет/? – нет данных).
Дальнейшую обработку матрицы проводили в программе РAST 4.06b [32] методами кластерного анализа (UPGMA) и неметрического многомерного шкалирования (NMDS) с использованием дистанции Жаккара. Бутстреп-поддержки узлов дендрограмм оценивали по 100 репликам. Популяционно-генетические параметры выборок рассчитывали с помощью макроса GenAlEx 6.5 [33, 34] в MSExcel.
Полученная матрица была также проанализирована в программе Structure v. 2.3.4 [35] методом Байеса. Для каждого предполагаемого числа кластеров K от 1 до 7 проводили по три независимых запуска Марковских цепей Монте-Карло с 300000 предварительных итераций (burn-in) и 600000 основных итераций. Использовали модель генетического смешения (admixture) со скоррелированными частотами аллелей. Оптимальное число K определяли методом ΔK [36], основанном на стандартизованном ускорении изменения логарифма функции вероятности lnP(K), с использованием программы Structure Harvester [37]. Столбчатые диаграммы распределения образцов по кластерам построены с использованием программы CLUMPAK [38].
Коме этого, были секвенированы нуклеотидные последовательности ITS 1–2 участка ядерной ДНК и некодирующего межгенного спейсера trnL-trnF хлоропластной ДНК для восьми образцов T. polyphyllum с обеих трансект (образцы 1, 4, 29, 32, 44, 97, 114, 118) и четырех образцов из обеих “подушек” (122, 123, 144, 145). Для ПЦР использовались праймеры nnc18s10 и с26А для участка ITS 1–2 [39] и праймеры С и F для участка trnL-trnF [40]. Температура отжига составляла 580С в обоих случаях. Очистку ПЦР-продукта для секвенирования осуществляли путем переосаждения продуктов ПЦР в смеси ацетата аммония с этанолом. Очищенный ПЦР-продукт был секвенирован в двух направлениях с теми же праймерами на ДНК-анализаторе 3730 DNA Analyzer (Life Technologies, США) в ООО “Синтол” (Москва, Россия). Полученные нуклеотидные последовательности были выравнены вручную в программе BioEdit 7.0.5.3 [41]. Номера последовательностей, присвоенные GenBank NCBI: OQ058972–OQ058983 (ITS) и OQ067882–OQ067893 (trnL-trnF).
Результаты
Подсчет семязачатков и семян в завязях
Число семязачатков в завязях варьировало от одного до трех, в большинстве случаев их было два (в 1560 случаях из 1746). Оба семени завязались в 163 случаях, одно их двух – в 851 случае. В 666 случаях завязывания семян в бобах не произошло, что мы интерпретировали как отсутствие оплодотворения. В целом по выборке завязываемость семян составила 0.3 (1070 из 3546 семязачатков).
Секвенированные последовательности
Все секвенированные последовательности, как ядерные ITS, так и пластидные trnL-trnF, оказались идентичными и в дальнейшем анализе не рассматривались.
Межмикросателлитные (ISSR) маркеры
Первая выборка. По первой выборке было в общей сложности получено 67 маркеров (табл. 3) для 49 образцов. С одним из образцов из второй “подушки” ПЦР не удалось провести, поэтому он был исключен из дальнейшего анализа и число образцов здесь было сокращено до четырех. Анализ полученной матрицы разделил все образцы (2 трансекты и 2 “подушки”) методом неметрического многомерного шкалирования (NMDS) на четыре не перекрывающиеся группы (рис. 2,а). Из этого анализа был исключен образец 33 со второй трансекты, как резко отличавшийся ото всех остальных, вероятно, из-за большого числа (8) плохо амплифицированных фрагментов, обозначенных как отсутствующие данные. Дополнительно проведенный кластерный анализ (UPGMA, дистанция Жаккара) показал, что все образцы, отобранные с трансект, кроме двух, различаются по составу ISSR фрагментов (рис. 2,б). Образцы 34 и 35 со второй трансекты оказались идентичными. Несмотря на низкие бутстреп поддержки большинства узлов (что мы связываем с небольшим числом полученных маркеров) анализ однозначно показал генетическую гетерогенность выборки. Напротив, среди образцов, отобранных с “подушек”, идентичными по составу ISSR-фрагментов оказались 3 из 5 образцов с первой “подушки” и 2 из 4 – со второй. Бутстреп поддержки в данном случае оказались высокими (рис. 2,в).
Рис. 2. Результаты исследования первой выборки. а – Ординация методом NMDS: 1 – первая трансекта, 2 – вторая трансекта, 3 – первая “подушка”, 4 – вторая “подушка”; б – кластеризация образцов первой и второй трансект методом UPGMA, дистанция Жаккара; в – кластеризация образцов первой и второй “подушек” методом UPGMA, дистанция Жаккара. Значения бутстреп-поддержки выше 60% показаны около соответствующих узлов. Образцы с первой трансекты обозначены красным цветом, со второй – зеленым; с первой “подушки” – синим, со второй “подушки” – малиновым.
Таблица 3. Основные показатели генетического разнообразия в локальной популяции T. polyphyllum
“Популяция” | 1 Трансекта | 2 Трансекта | 3 “Подушка” | 4 “Подушка” | Всего |
Число фрагментов | 63 | 65 | 51 | 53 | 67 |
Число уникальных фрагментов | 1 | 1 | 0 | 1 | |
He* | 0.188 ± 0.026 | 0.236 ± 0.025 | 0.040 ± 0.016 | 0.017 ± 0.01 | 0.12 ± 0.012 |
Na* | 1.33 ± 0.048 | 1.408 ± 0.047 | 1.076 ± 0.032 | 1.03 ± 0.019 | 1.211 ± 0.021 |
I* | 0.278 ± 0.036 | 0.35 ± 0.035 | 0.056 ± 0.023 | 0.025 ± 0.015 | 0.177 ± 0.017 |
P* | 52.24 | 64.18 | 8.96 | 4.48 | 32.46 ± 15.09 |
* He – средняя ожидаемая гетерозиготность, *Na – эффективное число аллелей, *I – информационный индекс Шеннона, *P – процент полиморфных локусов.
Результаты анализа популяционной структуры, проведенного в GenAlEx, приведены в табл. 3. Для целей анализа каждая трансекта и “подушка” рассматривались как отдельные “популяции”.
Индекс генетического сходства Нэи варьировал от 0.895 между двумя трансектами до 0.724 между первой трансектой и второй “подушкой”. Между двумя “подушками” он составил 0.771. Соответственно, генетические дистанции Нэи (h) варьировали от 0.111 между двумя трансектами до 0.322 между 1 трансектой и второй “подушкой”. Анализ молекулярной изменчивости AMOVA показал, что 65% изменчивости приходится на полиморфизм внутри “популяций” и 35% – на изменчивость между ними. При этом среднее значение PhiPT (аналог Fst для мультилокусных маркеров), оценивающее степень генетической дифференциации “популяций” оказалось равным 0.349 (p = 0.001). Попарные значения PhiPT варьировали от 0.247 между трансектами до 0.725 между “подушками”.
Анализ в программе STRUCTURE определил оптимальное число генетических кластеров равным четырем согласно критерию ΔK (рис. 3,а). Образцы обеих трансект и “подушек” оказались отнесены каждая к своему кластеру с разной степенью генетического смешения. Столбчатая диаграмма вероятностей отнесения образцов к разным кластерам и распределение этих образцов в пределах двух трансект показаны на рис. 3,б. На схемах трансект кружками обозначены образцы, вероятность отнесения которых к соответствующему кластеру выше 95%, а треугольниками – генетически смешанные образцы. Цвет значка соответствует наибольшей вероятности отнесения образца к тому или иному кластеру. Как видно из рис. 3,б, все образцы с первой трансекты, кроме одного, оказались генетически сходными и отнесенными к первому кластеру с вероятностью выше 95%. То же самое можно сказать и о “подушках”: из пяти образцов первой “подушки” четыре отнесены к соответствующему 3-му кластеру со 100%-ной вероятностью, а один показывает некоторое генетическое смешение с кластером 4 (вторая “подушка”). Все четыре образца из второй “подушки” отнесены к 4-му кластеру со 100%-ной вероятностью. Иная картина наблюдается на второй трансекте. Здесь значительное число образцов оказались генетически смешанными с первой трансектой, а один – с 3-м кластером (первая “подушка”). Эти же данные были проанализированы методом неметрического многомерного шкалирования (NMDS), результаты которого показаны на рис. 3, в. Из рисунка хорошо видно, что генетически не смешанные образцы образуют наиболее удаленные друг от друга группы, а генетически смешанные располагаются между соответствующими группами.
Рис. 3. Результаты исследования первой выборки в программе STRUCTURE. а – График ΔK; б – столбчатая диаграмма апостериорных вероятностей отнесения образцов к генетическим кластерам для К = 4 и расположение образцов на трансектах, кружками обозначены образцы с вероятностью отнесения к соответствующему кластеру >95%, треугольниками – генетически смешанные образцы, цвет соответствует кластеру, к которому образец относится с наибольшей вероятностью, трансекты и расположение образцов на них изображены схематично; в – ординация методом NMDS, обозначения образцов те же, цифры указывают номера кластеров, дроби – номера кластеров, к которым образец относится с наибольшей/меньшей вероятностью. Трансекты и расположение образцов на них изображены схематично над столбчатой диаграммой и обозначены соответственно цифрами 1 и 2.
Вторая выборка. Данная выборка состояла из 40 образцов, взятых по 20 с одного из участков каждой из трансект с целью более тщательно оценить клональное происхождение близко расположенных образцов. Всего по этой выборке было в получено 25 маркеров, что связано, с одной стороны, с меньшим генетическим разнообразием на участке малой площади, а с другой – плохой амплификацией фрагментов с частью праймеров. Выборка была проанализирована методами NMDS и кластерного (UPGMA) анализа. На диаграмме разброса NMDS (рис. 4,а) четко разделены образцы, происходящие с двух трансект. Внутри каждого облака они образуют группы генетически более близких образцов. Кластерный анализ (рис. 4,в) не разделил образцы с двух трансект на отдельные кластеры, но выявил несколько групп генетически идентичных или почти идентичных образцов. Это образцы: 40+41+43+46+53; 42+45+55; 48+49; 44+50+51 – с первой трансекты и 60+69+70+71; 61+62+64+67+75+77+79; 73+74; 63+78 – со второй трансекты. Остальные образцы оказались генетически отличными от них.
Рис. 4. Результаты анализа образцов второй выборки. а – Ординация методом NMDS, 1 – первая трансекта, 2 – вторая трансекта; б – кластеризация образцов с первой и второй трансект методом UPGMA, дистанция Жаккара; образцы с первой трансекты обозначены красным цветом, со второй – зеленым.
Обсуждение
Отсутствие каких-либо различий между исследованными образцами по нуклеотидным последовательностям ITS и trnL-trnF не вызывает удивления, так как все они относятся к одной популяции единственного вида, а внутрипопуляционный полиморфизм по таким маркерам встречается достаточно редко. Проведенный анализ ISSR-маркеров выявил внутрипопуляционный полиморфизм, однако он оказался неожиданно высоким. По такому параметру, как генетическая дистанция Неи, различия между трансектами и “подушками” оказались выше (0.111–0.321), чем между географически разделенными популяциями T. pratense L. со всей территории Литвы (от 0.041 до 0.14), также определенными по сходному числу (79) ISSR-маркеров [42]. В цитируемой работе анализ молекулярной изменчивости AMOVA показал, что только 17% общей изменчивости приходится на межпопуляционный полиморфизм, что вдвое ниже, чем в нашем случае четырех участков одной локальной популяции. В работе, посвященной сравнительному изучению генетического полиморфизма двух однолетних самоопыляемых видов клевера T. steudneri Schweinfur и T. quartinianum A. Rich в Эфиопии [23] авторы также использовали близкое число ISSR-маркеров (87). Согласно их расчетам AMOVA, на межвидовой полиморфизм двух близких видов пришлось 28.93% общей изменчивости, а 71.07% – на внутривидовую изменчивость, что ниже, чем в нашем случае у T. polyphyllum. Хотя авторы не рассчитывали генетические дистанции между этими видами и их изученными популяциями, приведенные цифры достаточно ярко характеризуют исключительно высокую генетическую дифференциацию в пределах изученной нами локальной популяции T. polyphyllum. Об этом же говорят и весьма высокие значения PhiPT, сравнимые со значениями генетической дифференциации, наблюдаемыми для географических популяций и близких видов клевера [24], получаемых по данным ISSR-маркирования. Вместе с тем, внимательное изучение полученных нами результатов анализа в программе STRUCTURE и характера распределения образцов разных кластеров на местности выявляет интересную закономерность. Если для первой трансекты и обеих “подушек” характерно полное преобладание образцов, однозначно отнесенных программой к соответствующим кластерам, то на второй трансекте преобладают генетически смешанные образцы. Генетическое смешение идет, преимущественно, с образцами первой трансекты. Так как последняя, а также и обе “подушки”, располагались ниже на том же самом склоне, мы предполагаем, что причина генетического смешения не может быть связана с приносом семян с выше расположенных частей склона, которые теоретически могут перемещаться талыми водами. Семена T. polyphyllum относительно крупные (ок. 2 мм) и не имеют специальных приспособлений для распространения, так что после созревания они высыпаются в непосредственной близости от материнских растений. Это, вероятно, создает предпосылки для столь мелкомасштабной генетической дифференциации в пределах одной локальной популяции.
Однако проявление эффектов генетического смешения в расположенных выше по склону участках популяции выглядит довольно загадочно. Объяснение этого явления на наш взгляд может быть связано с сочетанием двух факторов: системы размножения T. polyphyllum и локальными особенностями поведения опылителей. Высокий уровень генетического полиморфизма при низкой завязываемости семян позволяет с уверенностью предположить, что T. polyphyllum, как и большинство изученных в этом отношении многолетних видов клевера [43–46], является облигатно перекрестно опыляемым самонесовместимым видом. Низкая, около 30%, завязываемость семян может быть связана не только с внутренними факторами и условиями окружающей среды [47–49], но и с низкой активностью опылителей, которая наблюдалась нами непосредственно в полевых условиях. Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что около трети цветков вообще не завязала семян, вероятно, из-за отсутствия оплодотворения. Все виды клевера опыляются преимущественно разными видами шмелей и, в меньшей степени, пчел [50, 51].
Согласно имеющимся данным специальных исследований, проводившихся в горных районах Швеции и Северной Америки, шмели предпочитают строить свои гнезда в зоне альпийских и субальпийских лугов, более богатых источниками пищи [52, 53]. При этом радиус активности шмелиной семьи никогда не превышает 1 км, а нередко и меньше 300 м [54, 55]. Мы предполагаем, что в нашем случае гнезда шмелей, опыляющих T. polyphyllum, расположены в более низких частях склона. Вероятно, растения на второй трансекте, расположенной дальше всех от предполагаемых мест размещения гнезд, посещаются ими в последнюю очередь. Мы полагаем, что именно из-за такого однонаправленного переноса пыльцы, генетическое смешение наблюдается преимущественно на выше расположенной трансекте. Дополнительным фактором, который может стимулировать однонаправленное перемещение опылителей, может быть ветер, дующий вдоль склона в направлении вершины горы. Анализ данных метеостанции пос. Теберда (https://www.meteoservice.ru/archive/teberda/) за июнь и июль 2019 г. и 2022 г. во время цветения T. polyphyllum показывает, что в это время преобладают северные ветра, по силе варьирующие от 1 до 5 м/с, часто с порывами до 10–12 м/с. За эти два месяца ветра южных румбов наблюдались только в течение шести дней в 2019 и пяти дней в 2022 г. Это означает, что на исследованном нами склоне горы Малая Хатипара практически постоянно дуют северные ветра слабой или умеренной силы в направлении от подножия к вершине, что может дополнительно сказываться на особенностях перемещения опылителей при посещении ими цветков клевера.
Таким образом, результаты нашего исследования однозначно свидетельствуют о преобладании семенного размножения у T. polyphyllum. Несмотря на это, на нескольких участках все же удалось выявить генетически идентичные или почти идентичные образцы. Неполная идентичность отдельных образцов может быть, в том числе, связана и с ошибками типирования. Такие генетически идентичные образцы были выявлены, главным образом, в “подушках” и во второй выборке при отборе образцов с побегов, располагавшихся на близком расстоянии друг от друга. Мы полагаем, что они представляют собой раметы. На второй трансекте была выявлена единственная пара таких образцов (34 и 35), располагавшихся на расстоянии 92 см друг от друга. В других случаях расстояния точно не измерялись, однако учитывая, что размеры “подушек” были менее 1 × 1 м, а во второй выборке образцы отбирали с площадок 1 × 0.5 м, можно полагать, что размеры вегетативных клонов у T. polyphyllum не превышают 1 м2, а чаще оказываются и меньшими. Для сравнения, у T. calcaricum J.L. Collins & T.F. Wieboldt – эндемика известняковых пустошей в предгорьях Аппалачей на востоке США, размеры вегетативных клонов были оценены с использованием флуоресцентно меченых ISSR-маркеров как достигающие 100 м в поперечнике [28]. При этом среди 46 исследованных образцов было выявлено только 14 генет. В нашем случае подавляющее большинство образцов представлено отдельными генетами (44 генеты из 49 образцов первой выборки).
Однако, учитывая размеры вегетативных клонов, здесь корректнее сравнивать результаты, полученные по второй выборке, в которой из 40 изученных образцов было выявлено 18 генет. Результаты, таким образом, оказываются сопоставимыми. Можно сказать, что в изученной популяции T. polyphyllum умеренно присутствует вегетативное размножение, однако размеры клонов невелики и семенное размножение преобладает. Обнаруженная нами значительная генетическая дифференциация в пределах одной локальной популяции T. polyphyllum делает этот вид интересным модельным объектом для изучения микроэволюционных процессов у растений и их связи с опылителями и особенностями переноса семян и пыльцы.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с использованием в качестве объекта животных.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием в качестве объекта людей.
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ГБС РАН № 122042700002-6 (М.А. Галкина, И.А. Шанцер) и при финансовой поддержке исследовательской программы Министерства науки и высшего образования РФ (№ 075-15-2021-1396) (О.Б. Зеленова, В.Г. Онипченко). Авторы также благодарят Министерство науки и высшего образования РФ за поддержку ЦКП “Гербарий ГБС РАН”, грант № 075-15-2021-678, на базе которого проведено молекулярно-генетическое исследование.
About the authors
O. B. Zelenova
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: ischanzer@gmail.com
Russian Federation, Moscow
M. A. Galkina
Tsitsin Main Botanical Garden of Russian Academy of Sciences
Email: ischanzer@gmail.com
Russian Federation, Moscow
V. G. Onipchenko
Lomonosov Moscow State University
Email: ischanzer@gmail.com
Russian Federation, Moscow
I. A. Schanzer
Tsitsin Main Botanical Garden of Russian Academy of Sciences
Email: ischanzer@gmail.com
Russian Federation, Moscow
References
Supplementary files