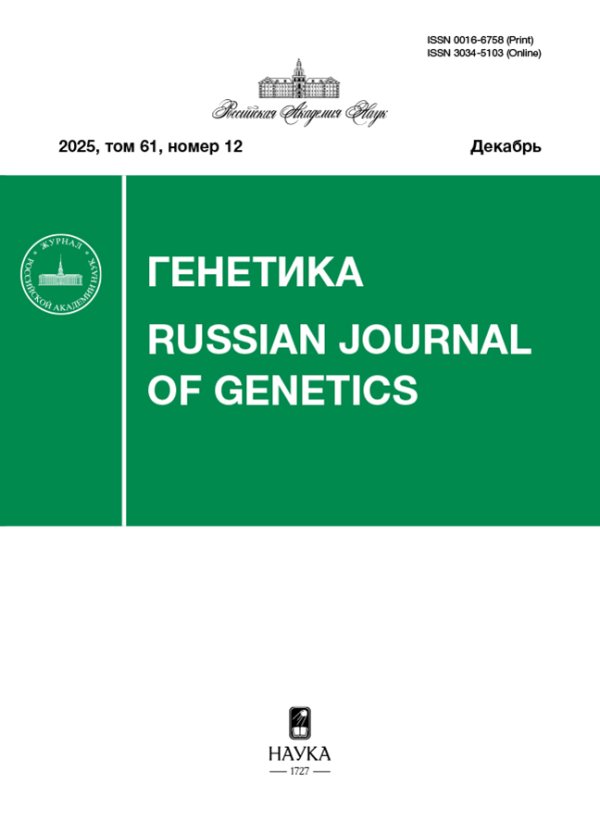Генетическая структура популяций волка Северной Евразии: оценка влияния исключения из анализа родственных особей
- Авторы: Казимиров П.А.1,2, Белоконь Ю.С.1, Белоконь М.М.1, Бондарев А.Я.3, Давыдов А.В.4, Захаров Е.С.5, Леонтьев С.В.6, Политов Д.В.1,2
-
Учреждения:
- Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук
- Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды
- Алтайский государственный аграрный университет
- Федеральный научно-исследовательский центр развития охотничьего хозяйства
- Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
- ТОО “Национальный центр биотехнологии”
- Выпуск: Том 60, № 7 (2024)
- Страницы: 31-44
- Раздел: ГЕНЕТИКА ЖИВОТНЫХ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0016-6758/article/view/267639
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0016675824070034
- EDN: https://elibrary.ru/BIIKDR
- ID: 267639
Цитировать
Полный текст
Аннотация
По данным о полиморфизме 20 аутосомных микросателлитных локусов проведен анализ генетической структуры популяции и пространственной автокорреляции у волка, Canis lupus Linnaeus, 1758, Северной Евразии (территории Российской Федерации и Республики Казахстан). С помощью молекулярных маркеров выявлены скрытые генеалогические паттерны на различных дистанциях, наиболее сильно проявляющиеся на географических дистанциях до 150 км, но прослеживающиеся и на более широком пространственном масштабе (до 700–1600 км). Показано, что выявление и исключение родственных генотипов несущественно влияет на внутрипопуляционные оценки генетического разнообразия. Однако данная процедура рекомендуется для более адекватной оценки популяционно-генетической структуры, позволяя оптимизировать ряд статистических процедур. Полученные данные, таким образом, демонстрируют интегрирующий эффект натальной миграции, действующей против дифференцирующего влияния филопатрии. Кроме того, мы продемонстрировали, что исключение подобных особей из выборок после анализа родства может приводить к снижению генетических дистанций между выборками.
Ключевые слова
Полный текст
Волк (Canis lupus Linnaeus, 1758) является крупным широко распространенным хищником, в целом характеризующимся выраженной территориальностью, но в то же время обладающим высокой способностью к расселению. Стая, состоящая в большинстве случаев из взрослой размножающейся пары и ее потомков, занимает участок, площадь которого может варьировать от нескольких десятков до нескольких тысяч квадратных километров. На размер участка влияет множество факторов: особенности ландшафта, доступность пищевых ресурсов и т. д. [1, 2]. В результате на определенной части ареала возникает семейная структура, что потенциально может приводить к инбридингу и негативно влиять на последующие поколения вследствие инбредной депрессии. В то же время высокая мобильность большинства молодых особей обеспечивает перемешивание генетического материала и интеграцию видового генофонда в целом. Процессы расселения у волка представлены преимущественно натальной миграцией – молодыми потомками, покидающими родительскую территорию и составляющими основную массу нетерриториальных особей. При этом по данным GSM-трекинга мигрирующие волки могут преодолевать сотни километров [3]. В популяции, как правило, присутствуют нетерриториальные особи, способные перемещаться на еще большие расстояния [1, 2]. Таким образом, дифференцирующий эффект генетического дрейфа и локального естественного отбора вследствие ограничения панмиксии семейной (демовой) структурой комбинируется с интегрирующим влиянием потока генов, и оба процесса уравновешивают друг друга.
Генетические методы позволяют с высокой точностью реконструировать семейную структуру волка на конкретной территории. При этом чаще всего такие исследования родственных связей проводятся с использованием неинвазивных образцов [4–6]. В то же время при проведении популяционно-генетических исследований на более широкой географической шкале высокая территориальность вида может создать препятствия к интерпретации результатов, так как при отборе нескольких проб на территории одной стаи значительно повышается вероятность того, что пробы окажутся от близкородственных особей, которые впоследствии, по мере взросления, имеют все более низкие шансы остаться на этой территории вследствие конкуренции с родителями и другими членами стаи. Не менее сильно подобный эффект может быть выражен при использовании инвазивных проб, в частности материала, полученного от охотников, так как при охоте на волков часто добывают семейную группу целиком или большую ее часть (например, волчицу с волчатами). Чтобы более четко выявить географические тренды и снизить эффект демовой организации на пространственную структуру популяций, ряд исследователей исключает из анализа близкородственных особей (по одной особи из родственных пар или исключают из анализа отпрысков, оставляя родителей) [7, 8]. Однако, с другой стороны, подобная элиминация может привести к потере информации о мигрантах, так как образцы от близкородственных особей могут быть собраны на значительных расстояниях в случае, если часть волков из такой группы мигрировали.
Имеющиеся данные о волках Европы, юга азиатской части ареала и большей части Северной Америки относятся к популяциям с антропогенно нарушенной генетической структурой, находящимся в состоянии депрессии, восстанавливающимся или недавно восстановившимся после прохождения “бутылочного горлышка”. В Новом Свете широкомасштабные исследования на пространствах в миллионы квадратных километров возможны только в Канаде и на Аляске. В Северной Евразии обширные географически связанные территории с относительно ненарушенной популяционно-генетической структурой волка остались только в лесной зоне России, где несмотря на все усилия по регулированию численности хищника, обитают наиболее интактные популяционные группировки. Имеющаяся в нашем распоряжении коллекция образцов волка с территории России, дополненная выборками с территории Республики Казахстан, позволяет впервые исследовать вопрос о дальности миграции родственных особей на материале, собранном с большей части ареала бореальной макропопуляции волка.
В настоящей работе мы поставили своей целью описать паттерны родственной структуры волка на широком спектре географических дистанций с использованием бипарентально наследуемых молекулярно-генетических маркеров (аутосомных микросателлитных локусов), а также определить степень влияния присутствующих в выборке близкородственных особей на результаты популяционно-генетического анализа. Обсуждаются также полученные данные о генетической дифференциации волка на исследованной территории.
Материалы и методы
Характеристика материала. В данном исследовании в качестве материала использовано 878 образцов от животных, добытых в 48 регионах России и Республики Казахстан. Данный набор включает 326 генотипов особей, вошедших в ранее опубликованную статью [9]. Высушенные или заспиртованные образцы шкур из большинства регионов РФ были собраны в рамках договора с ФГБУ “Федеральный научно-исследовательский центр развития охотничьего хозяйства” (П.М. Павлов, а также авторы статьи А.Я. Бондарев и А.В. Давыдов), сборы из Республики Саха (Якутия) осуществлены одним из авторов (Е.С. Захаров), с территории Республики Казахстан – сбор организован С.В. Леонтьевым [9]. Все особи на территории Российской Федерации добыты в рамках программ регулирования численности волка по официально выданным разрешениям, образцы биоматериала получены по запросам Министерства природных ресурсов и экологии РФ от региональных уполномоченных органов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. На территории Казахстана исследуемые особи были добыты легально, по специальным разрешениям на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию, выданным уполномоченным государственным органом. Для целей первичной обработки образцы были отнесены к географическим популяциям. Важно отметить, что если информация о тесных родственных связях уже была в сопроводительной информации к той или иной серии образцов, такие очевидные родственники исключались нами уже на этом этапе. Таким образом, мы исследовали скрытые генеалогические связи в матрице генотипов, представляющей огромную территорию – большую часть ареала бореальной макропопуляции волка.
Выделение ДНК и проведение полимеразной цепной реакции (ПЦР). Выделение ДНК проводили наборами “ДНК-Экстран-2” производства компании “Синтол” (Москва, Россия) в соответствии с протоколом производителя. Дополнительно после лизиса проводили осаждение жиров с использованием тетрахлорметана – равный объем CCl4 добавляли к лизату, встряхивали на вортексе 5–10 с, центрифугировали при 15000 об./мин 3 мин, после чего отбирали супернатант – водную фазу, содержащую лизат, – в чистые пробирки.
Генетический анализ изначально проводили с использованием 27 микросателлитных локусов ядерной локализации. Состав мультиплексных ПЦР-реакций (8 панелей) и режимы амплификации соответствовали протоколу, приведенному в [4]. Фрагментный анализ проводили на капиллярном секвенаторе с использованием коммерческого сервиса в компании “Синтол”. Расшифровку генотипов по хроматограммам проводили при помощи программы STRand v2.4.110 [10]. После формирования матрицы многолокусных генотипов из нее удалялись локусы и особи с более чем 15 и 10% отсутствующих данных соответственно.
Статистическая обработка матрицы генотипов. Оценка минимального количества локусов, необходимых для дифференциации генотипов, проводилась в пакете poppr [11, 12] для среды R [13] с числом итераций для каждого количества локусов 50000. Оценка полиморфности локусов (Polymorphism Information Content, PIC) проводилась в пакете polysat [14, 15], отклонение от равновесия Харди – Вайнберга в пакете pegas [16] с использованием 100000 MCMC (Монте-Карло с марковскими цепями) итераций. Оценка частоты присутствия нуль-аллеля для каждой пары популяция – локус проводилась в R-пакете popgenreport [17, 18]. Значимость отличия индекса фиксации (F) от нуля рассчитывали через χ2-тест при помощи программы GenAlEx [19, 20] и базовых функций среды R.
Локусы, для которых наблюдалось одновременное значимое отклонение от равновесия Харди – Вайнберга и индекса фиксации от нуля и высокая (> 0.15) частота нуль-аллеля в более чем половине географических популяций, исключались из анализа.
Оценка индексов родства. Сравнение методов оценки родственных связей проводилось при помощи функции “compareestimator” пакета Related [21] с количеством симулированных пар для каждого уровня родства (неродственные; полусибсы; полные сибсы; родитель – потомок) – 1000. Функция симулирует заданное количество пар на основе частот аллелей, рассчитанных по таблице генотипов, после чего определяет корреляцию между индексом родства, полученным различными методами оценки, с ожидаемыми значениями индексов для каждой из выбранных степеней родства (0; 0.25; 0.5). Дальнейшую оценку индексов родства методом, выбранным на основе предыдущего шага, проводили функцией “coancestry” пакета Related.
Расчет координат сбора образцов. Так как точное место сбора (населенный пункт) было доступно лишь для части образцов, в качестве координат сбора для образцов без точной географической локализации использовали координаты географического центра субъекта РФ, в котором была собрана проба, или района субъекта, если таковой был указан в сопроводительных документах. Для некоторых видов анализа в географические данные вносили случайный шум. Для этого при помощи базовых инструментов среды R к описанным выше координатам добавляли случайное значение вплоть до: 1 градуса широты/долготы если место сбора было известно до субъекта РФ; 0.7 градуса если место сбора было известно до района; 0.1 градуса если место сбора было известно до населенного пункта/точной географической точки.
Работа с датами сбора. Работу с данными о датах сбора для тех образцов, для которых эти данные были доступны, проводили с использованием пакета lubridate [22] для среды R. Даты сбора были стандартизированы в формате год – месяц. Для образцов с неизвестным месяцем сбора он был указан как январь. Расчет временных промежутков между сбором образцов проводили с точностью до года: 0 – добыты в один год, 1 – добыты с разницей в один год и т. д.
Корреляции между уровнем родства и географическим расстоянием и датами сбора. Расчет корреляций между переменными проводился в среде R (пакет rstatix [23]) и в программе STATISTICA [24]. Корреляции рассчитывали между следующими парами переменных:
индекс родства – расстояние между местами добычи в километрах;
индекс родства – разница во времени добычи в годах.
Расчет моделей двухступенчатой пороговой регрессии (threshold regression) проводили в пакете chngpt [25] с параметрами bootstrap = 1000, model = “segmented”. Значение p для модели рассчитывалось при помощи пакета lmtest [26] функцией “lrtest”, выполняющей тест отношения правдоподобия (asymmetric likelihood ratio test) в сравнении с моделью, предусматривающей отсутствие корреляции (данный тест рекомендуется авторами пакета chngpt).
Пространственная автокорреляция и тест Мантела. Расчет пространственной автокорреляции и тест Мантела проводили в программе GenAlEx. Расчет географических дистанций для этого этапа анализа проводили как на реальных значениях координат, так и на координатах с внесенным случайным шумом. И расчет пространственной автокорреляции, и тест Мантела проводили с 999 итерациями.
Исключение близкородственных особей и анализ популяционной структуры. Для определения влияния близкородственных особей на выявленную популяционную структуру было проведено два анализа: один с использованием данных по всем особям, добытым на территории РФ, второй с использованием сокращенного набора данных, из которого были исключены близкородственные особи. Для исключения близкородственных особей были идентифицированы пары особей с индексом родства более или равным 0.5 и добытые на расстоянии менее 100 км. Данная отсечка по расстоянию была выбрана на основе полученных данных по зависимости индекса родства от расстояния, а также в связи с описанными выше особенностями данных о месте добычи волков – при отсечке в 100 км набор особей, отобранный с использованием координат с внесенным случайным шумом и без него, не различался. Из отобранных пар исключалась либо особь с большим процентом отсутствующих данных, либо случайная особь (при равном проценте отсутствующих данных). Если одна из особей в паре уже была исключена ранее, вторая особь по умолчанию включалась в анализ.
Анализ популяционной структуры методами байесовского анализа проводили в программе Structure v2.3.4 [27–29] со следующими параметрами: длина периода “разогрева” (“burn-in”) – 25000; количество итераций MCMC повторов после “разогрева” – 250000; модель наследования – “admixture”; число кластеров K – 1–8, с 10 повторами для каждого K, флаг UsePopInfo = 0. Так как в рамках анализа предусматривалось сравнение полученных результатов для двух наборов данных, была использована опция “use sequential integer random seed”, которая позволяет задать “зерно”, используемое для расчетов случайных параметров. Таким образом, случайные аспекты для соответствующих итераций по обоим наборам данных будут одинаковыми, что позволяет более точно оценить вклад исключения родственных особей в результаты. В качестве стартового “зерна” использовалось число 1758.
Для работы с результатами программы STRUCTURE использовался пакет pophelper [30] для среды R, за исключением процесса “выравнивания” кластеров между итерациями (присвоения одинаковым кластерам одинакового номера), для которого использовался скрипт, специально написанный с использованием базовых функций среды R. На основе анализа генетической структуры проводилось определение наиболее вероятного числа исходных кластеров (K) при помощи метода Эванно [31].
Для выделенных популяций в программе GenAlEx были рассчитаны основные популяционно-генетические параметры: среднее число аллелей на локус – Na; число эффективных аллелей – Ne; индекс Шеннона – I; средняя наблюдаемая гетерозиготность – HO; средняя ожидаемая гетерозиготность – HE; внутрипопуляционный индекс фиксации – F; несмещенная оценка ожидаемой гетерозиготности – uHE; показатель межпопуляционной дифференциации – FST; теоретическое число мигрантов между популяциями на поколение при наблюдаемом значении FST – Nm; среднее число приватных (специфичных для популяции) аллелей – Np.
Результаты
Характеристика матриц генотипов
После исключения особей и локусов с долей отсутствующих данных выше принятых пороговых значений для дальнейшего анализа оказались доступны данные по 738 особям и 22 локусам. По результатам оценки отклонения от равновесия Харди – Вайнберга, индекса фиксации и частоты нуль-аллелей из дальнейшего анализа были исключены также локусы AHT126 и 2006, так как у них наблюдались отклонения по всем трем параметрам в половине или более географических популяций (9 и 6 соответственно). Таким образом, итоговый набор данных составил 738 особей, генотипированных по 20 локусам (2137, 2010, CXX253, vWf, 2079, PEZ03, AHT119, 2201, 2096, CXX250, CXX225, 2140, 2054, 2168, 2159, AHT138, CXX123, CXX204, AHT106, 2001).
По результатам анализа минимального количества локусов, необходимых для дифференциации генотипов, максимальная информативность возможна уже при шести локусах и стабильно достигается (медиана уникальных генотипов = максимальному числу генотипов) при 17 локусах (рис. 1). По результатам анализа PIC используемые локусы показали средний уровень информативности – медиана значения PIC по всем локусам по общему набору данных составила 0.55, максимум 0.83 (локус vWf), минимум 0.23 (локус 2054).
Рис. 1. Зависимость числа уникальных многолокусных генотипов от числа использованных локусов.
Оценка коэффициентов родства
По результатам сравнения методов оценки коэффициентов родства (r) мы обнаружили наиболее сильную корреляцию между ожидаемыми и наблюдаемыми показателями (0.892) по индексу Wang [32]. Индексы Li [33] и Queller–Goodnight [34] показали практически идентичные значения корреляции ~0.89, а индекс Lynch–Ritland [35] – наименьшее значение r = 0.819 (рис. 2). На основании этих результатов для дальнейших расчетов мы использовали индекс Wang [32].
Рис. 2. Сравнение различных коэффициентов родства на основе 1000 симулированных родственных пар. Коэффициенты родства: L&L – Li; L&R – Lynch-Ritland; Q&G – Queller-Goodnight; W – Wang.
При рассмотрении всего набора данных целиком ожидаемо наблюдалась низкая (близкая к нулю) степень родства между особями с медианой 0.043.
Корреляция коэффициента родства с расстоянием
При рассмотрении простой линейной модели зависимости r от расстояния наблюдается значимая корреляция (p < 0.001; индекс корреляции Спирмена −0.159). Однако, подобная модель объясняет лишь малую часть дисперсии в коэффициентах родства – R2 = 0.028. Практически идентичные результаты (с отклонением ~0.0001 для R2 и индекса корреляции) были получены при использовании матриц расстояний, рассчитанных по координатам с внесенным случайным шумом.
Основываясь на данных о семейной и территориальной структуре популяций волка, мы предположили, что зависимость r от расстояния может иметь ступенчатый характер — на малых расстояниях уровень родства будет меняться больше на единицу расстояния, чем на больших дистанциях.
При рассмотрении ступенчатой (пороговой) регрессии были идентифицированы две точки преломления на отметках в 633.63 и 124.49 км (ст. ошибка 17.60 и 12.14 км соответственно). В данном анализе наблюдались различия в результатах при использовании координат с внесенным случайным шумом. Для них точки преломления составили 652.83 и 153.11 км (ст. ошибка 16.19 и 6.47 км соответственно) (рис. 3).
Рис. 3. График определения точки изменения линейной модели путем расчета по координатам без внесенного случайного шума (а) и с ним (б). Верхний график – зависимость индекса родства от расстояния в км; средний график – логарифм вероятности положения точки изменения модели; нижний график – результаты бутстрэп-анализа точки изменения модели.
На основе полученных точек преломления были рассчитаны линейные модели для расстояний менее 120 км; от 120 до 633 км и более 633 км. Во всех трех случаях модели имели высокий уровень статистической значимости (p < 0.001). Наибольшее значение R2 наблюдалось при расстояниях до 120 км – 0.031. Для двух других моделей значения R2 составили 0.004 и 0.008 соответственно. При построении линейных моделей на основе дистанций с внесенным случайным шумом и соответствующих точек преломления статистическая значимость сохранялась (p < 0.001). Значения R2 для данных моделей составили 0.027, 0.005 и 0.008. Коэффициенты корреляции Спирмена составили –0.180, –0.065, –0.087 соответственно для моделей на основе оригинальных координат и –0.145, –0.070, –0.086 для координат с внесенным случайным шумом.
Значимой корреляции между r и разницей во времени сбора не наблюдалось.
Пространственная автокорреляция и тест Мантела
При проведении анализа пространственной автокорреляции с использованием размера классов в 100 км (рис. 4) наблюдается значение автокорреляции r = 0.120 на расстояниях < 100 км, к отметке в 200 км значение r снижается до 0.045 и сохраняется на этом уровне до отметки в 500 км, после чего резко снижается до 0.014 на отметке в 700 км. Далее значение r плавно снижается и теряет статистическую значимость на отметке в 1600 км, после чего колеблется в районе 0 вплоть до 2800 км. После этой отметки значения r приобретают значимо отрицательные значения (вплоть до –0.034) и сохраняют их вплоть до отметки в 6700 км, где происходит повторная потеря статистической значимости отклонения r от 0. Схожая картина с более сглаженными изменениями значений r наблюдается при использовании координат с внесенным случайным шумом.
Рис. 4. Результаты анализа пространственной автокорреляции с использованием размерных классов в 200 км. r – индекс пространственной автокорреляции; U, L – верхний и нижний доверительные интервалы для отсутствия автокорреляции.
При использовании размера классов в 25 км (рис. 5) выявляется более плавное снижение r с 0.139 на расстояниях до 25 км до 0.051 на отметке в 125 км. Понижение значений r после 500 км также идет более плавно. При использовании координат с внесенным случайным шумом динамика снижения r дополнительно снижается. В этом случае первичное снижение происходит с 0.131 на расстояниях до 25 км до 0.047 на отметке 150 км. Следующий этап снижения также начинается после отметки в 500 км. Стоит отметить близость границ этапов снижения значения r с точками преломления, выявленными при анализе ступенчатой регрессии.
Рис. 5. Пространственная автокорреляция с использованием размерных классов в 25 км. r – индекс пространственной автокорреляции; U, L – верхний и нижний доверительные интервалы для отсутствия автокорреляции.
Тест Мантела показал значимую (p < 0.001) корреляцию между генетическими и географическими дистанциями со значением R2 = 0.016 вне зависимости от того, использовались координаты с внесенным случайным шумом или без него. При использовании логарифмированных географических дистанций значение R2 составило 0.031 и 0.028 для координат с внесением случайного шума и без него соответственно.
Влияние близкородственных особей на результаты анализа популяционно-генетической структуры
Для получения сокращенного набора генотипов из анализа были исключены 124 особи, таким образом, размеры сокращенного набора данных составили 614 особей, не являющихся близкими родственниками.
При анализе обоих наборов генотипов наблюдался консенсус между всеми 10 итерациями Structure вплоть до K = 3, т. е. во всех итерациях особи относились к одному и тому же кластеру примерно с одинаковой вероятностью (рис. 6). В обоих случаях наблюдалось отклонение одной итерации от консенсуса для K = 4 и K = 6 (в последнем случае при анализе полного набора генотипов также наблюдались легкие отклонения для четырех итераций). Для К = 5 наблюдалось отклонение от консенсуса двух итераций при анализе полного набора генотипов, но не при анализе сокращенного. Для K = 7 число итераций с отклонением от консенсуса составило пять и три для полного и сокращенного наборов генотипов соответственно.
Рис. 6. Результаты анализа методом Эванно для полного (1) и сокращенного (2) набора генотипов.
При анализе обоих наборов данных наибольшее значение ∆K наблюдалось для K = 2 (рис. 7), что соответствует разделению популяции на европейский и сибирский кластеры. Второе наибольшее значение ∆K наблюдалось для K = 3, при котором обособляется кластер, соответствующий популяции Чукотки. Начиная с K = 4 значения ∆K выходили на плато. При K = 4 в отдельный кластер выделялись популяции юга России, а также некоторые западносибирские популяции. При расчете ∆K без учета K = 1 максимальное значение наблюдалось для K = 3.
Рис. 7. График консенсуса между итерациями STRUCTURE для полного (а) и сокращенного (б) набора генотипов. В каждой ячейке по вертикали – вероятность отнесения особи к номинальному кластеру для данной итерации, по горизонтали – вероятность отнесения особи к номинальному кластеру для первой итерации. Организация ячеек по вертикали – значение K, по горизонтали – порядковый номер итерации STRUCTURE.
При сравнении результатов распределения особей по генетическим кластерам на основе полного и сокращенного наборов генотипов также наблюдались различия, не ассоциированные с расхождениями между результатами итераций Structure. Так, при использовании сокращенного набора генотипов при K = 6 популяции Волго-Вятского региона объединялись в один, отдельный от популяций севера и северо-запада европейской части России, кластер, в который также вошли приуральские популяции и некоторые популяции Западной Сибири. Этого выделения не наблюдалось при использовании полного набора генотипов. По причине наличия таких значительных различий именно K = 6 было выбрано для сравнения значений популяционно-генетических параметров (рис. 8).
Рис. 8. Результаты байесовского анализа популяционной структуры для полного (а) и сокращенного (б) набора генотипов STRUCTURE.
Результаты анализа внутрипопуляционной изменчивости для шести генетических кластеров приведены в табл. 1. Примечательно, что наблюдались минимальные различия в значениях показателей внутрипопуляционного генетического разнообразия для полного и сокращенного наборов генотипов. Наибольшие изменения наблюдались по общему и эффективному числу аллелей для первого и шестого кластеров, связанного с перераспределением особей из одного в другой. Для большинства других параметров разница между значениями для полного и сокращенного наборов генотипов находилась в пределах двух стандартных ошибок.
Таблица 1. Средние значения показателей внутрипопуляционной изменчивости для каждого кластера, рассчитанные по полному и сокращенному наборам генотипов
Кластер | N | Na | Ne | I | HO | HE | uHE | F |
1 полный | 212.75 | 11.30 | 5.71 | 1.88 | 0.68 | 0.80 | 0.81 | 0.16 |
± 1.36 | ± 0.91 | ± 0.44 | ± 0.08 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | |
1 сокращенный | 96.30 | 9.90 | 5.43 | 1.83 | 0.71 | 0.80 | 0.80 | 0.11 |
± 1.03 | ± 0.71 | ± 0.41 | ± 0.07 | ± 0.02 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | |
Разность | 116.45 | 1.40 | 0.28 | 0.04 | –0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
2 полный | 186.65 | 10.70 | 5.37 | 1.81 | 0.67 | 0.79 | 0.79 | 0.15 |
± 2.19 | ± 0.77 | ± 0.44 | ± 0.08 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | |
2 сокращенный | 161.25 | 10.70 | 5.46 | 1.83 | 0.67 | 0.79 | 0.79 | 0.15 |
± 1.87 | ± 0.81 | ± 0.45 | ± 0.08 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | |
Разность | 25.40 | 0.00 | –0.08 | –0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 полный | 91.40 | 8.75 | 4.56 | 1.68 | 0.68 | 0.76 | 0.77 | 0.10 |
± 1.26 | ± 0.66 | ± 0.30 | ± 0.07 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | |
3 сокращенный | 80.05 | 8.65 | 4.63 | 1.69 | 0.68 | 0.76 | 0.77 | 0.11 |
± 0.94 | ± 0.63 | ± 0.31 | ± 0.07 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | |
Разность | 11.35 | 0.10 | –0.07 | –0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | –0.01 |
4 полный | 108.70 | 9.55 | 5.20 | 1.80 | 0.67 | 0.79 | 0.79 | 0.15 |
± 1.26 | ± 0.65 | ± 0.35 | ± 0.07 | ± 0.03 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.04 | |
4 сокращенный | 106.60 | 9.75 | 5.36 | 1.82 | 0.66 | 0.80 | 0.80 | 0.17 |
± 1.03 | ± 0.63 | ± 0.36 | ± 0.07 | ± 0.03 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.04 | |
Разность | 2.10 | –0.20 | –0.16 | –0.02 | 0.01 | –0.01 | –0.01 | –0.02 |
5 полный | 68.30 | 8.60 | 4.59 | 1.66 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.08 |
± 0.42 | ± 0.54 | ± 0.35 | ± 0.07 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | |
5 сокращенный | 61.85 | 8.55 | 4.63 | 1.67 | 0.70 | 0.76 | 0.77 | 0.08 |
± 0.28 | ± 0.54 | ± 0.35 | ± 0.07 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | |
Разность | 6.45 | 0.05 | −0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 полный | 41.40 | 7.20 | 4.51 | 1.60 | 0.64 | 0.75 | 0.76 | 0.14 |
± 0.22 | ± 0.55 | ± 0.34 | ± 0.08 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | |
6 сокращенный | 85.80 | 10.00 | 5.66 | 1.84 | 0.65 | 0.79 | 0.80 | 0.17 |
± 0.51 | ± 0.74 | ± 0.48 | ± 0.09 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | |
Разность | –44.40 | –2.80 | –1.15 | –0.24 | –0.02 | –0.05 | –0.04 | –0.03 |
Оценка генетических дистанций между популяциями показала, что в большинстве пар при анализе полного набора генотипов полученные значения больше, чем при анализе сокращенного набора (табл. 2). Наибольшая разница в полученных значениях наблюдалась между 5 и 6, 1 и 6 кластерами (0.08), что вероятно связано с перераспределением особей между кластерами. Для двух пар наблюдалось повышение значений генетических дистанций при использовании сокращенного набора генотипов (1 и 2, 1 и 5 кластеры).
Таблица 2. Генетические дистанции между кластерами, рассчитанные по полному (ниже диагонали) и сокращенному (выше диагонали) наборам генотипов
Кластеры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0.000 | 0.151 | 0.243 | 0.123 | 0.214 | 0.104 |
2 | 0.151 | 0.000 | 0.216 | 0.124 | 0.110 | 0.133 |
3 | 0.243 | 0.216 | 0.000 | 0.243 | 0.187 | 0.292 |
4 | 0.123 | 0.124 | 0.243 | 0.000 | 0.207 | 0.115 |
5 | 0.214 | 0.110 | 0.187 | 0.207 | 0.000 | 0.214 |
6 | 0.104 | 0.133 | 0.292 | 0.115 | 0.214 | 0.000 |
Среднее число мигрантов по всем популяциям составило 5.71 ± 0.43 для полного набора генотипов и 7.16 ± 0.51 для сокращенного набора.
Обсуждение
В большинстве регионов мира популяции волка находятся или в состоянии депрессии после длительного истребления, или в фазе роста после депрессии. Исследования родства проводились традиционно в основном на малых популяциях волка, подвергшихся недавнему “бутылочному горлышку”, например, скандинавской, где вследствие реколонизации (после полного истребления) несколькими мигрантами с территории СССР с 1980-х гг. [36] обитает высокоинбредная популяция волка, в которой наблюдаются выраженные признаки инбредной депрессии [37]. Подобные результаты были получены и в отношении небольших фрагментированных популяций мексиканского подвида волка, Canis lupus baileyi [38]. Однако ситуация на большей части России иная – на огромных пространствах лесной зоны, горно-лесных экотопов и, в меньшей степени, тундры и степи волк никогда не был доведен до депрессии. Если локально это и удавалось (в степях, некоторых территориях зоны тундры и в антропогенных ландшафтах), то восстановление происходило естественным образом из окружающих группировок с высокой численностью и нативной генетической структурой. В целом волк с территории России является уникальной моделью относительно ненарушенной (квазинативной) макропопуляции бореального волка Северной Евразии.
Исходя из полученных нами данных, можно заключить, что на изученной территории влияние семейной и территориальной структуры наиболее выражено на расстояниях до 125–150 км. При этом даже на таких дистанциях пространственное распределение особей объясняет лишь небольшую долю вариации в генетической близости. На расстояниях ~150–500 км все еще заметно влияние филопатрии и вызванной ею пространственной структуры, однако в значительно меньшей степени. Предположительно это является следствием процессов расселения и миграции на средне-дальние расстояния. На расстояниях 500–600 км и более влияние пространственной структуры популяции практически сходит на нет, но все еще остается достоверно положительным вплоть до ~1600 км. Очевидно, это обеспечивается дальними миграциями, особенно “пассионарными” в плане миграционной активности особей, а также, вероятно, несколькими поколениями средне-дальних миграций, если мы предположим, что способность к ним в какой-то значительной степени наследуется. Таким образом, можно заключить, что генетическая структура каждой популяции может быть подвержена влиянию со стороны популяций, находящихся на расстояниях вплоть до 1600 км, при этом сила эффекта падает с расстоянием.
Стоит отметить, что в исследованиях, проводившихся на небольшом географическом масштабе, значения автокорреляции достигали нуля и негативных значений на значительно меньших расстояниях в ~10–20 км [5, 6, 39]. В то же время метаанализ популяционно-генетических исследований европейских популяций волка показал, что значения автокорреляции остаются достоверно положительными вплоть до 850 км [40], что больше соотносится с нашими данными, однако наши оценки примерно вдвое выше. Можно предположить, что анализ на малых масштабах не захватывает миграционных процессов внутри большей популяционной группировки − так, при рассмотрении всего нескольких стай стоит ожидать, что значения автокорреляции будут отрицательными на расстояниях, выходящих за границы территории каждой из стай. При рассмотрении больших территорий возможно захватить большее количество расселившихся и мигрировавших особей, что приводит к положительным значениям автокорреляции на больших расстояниях.
Тем не менее полученные нами наиболее высокие значения автокорреляции, которые можно отнести к родственным животным из одной стаи, все еще наблюдаются вплоть до расстояний (125 км), значительно превышающих упомянутые выше. Это может быть связано с тем, что наши данные включают в себя волков, обитающих в степных и тундровых экотопах, для которых описан значительно больший размер участков [1, 2]. Таким образом, на данных территориях особи, принадлежащие к одной семейной группировке, могут быть добыты на больших расстояниях.
Полученные нами результаты указывают на то, что удаление из выборок близкородственных особей позволяет более однозначно определить генетическую структуру исследуемых популяций, по крайней мере оценить ту часть изменчивости, которая относится к автохтонной компоненте и отражает локальные адаптации особей. При элиминации из матрицы для расчетов родственников не происходит существенного изменения в получаемых данных о внутрипопуляционной изменчивости. Наблюдаемое некоторое снижение генетических дистанций между популяциями было ожидаемо (нивелируется эффект межвыборочного смещения частот аллелей из-за разной представленности семейных групп), однако за исключением кластеров, претерпевших перераспределение особей, даже эти изменения находятся на достаточно низком уровне, лишь для двух пар превышая 0.01.
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности удаления близкородственных особей, добытых в непосредственной близости друг от друга, для повышения информативности кластерного анализа популяционной структуры. Тем не менее расчеты с родственными генотипами вносят свой вклад, отражают естественную ситуацию, позволяют, в частности, оценить эффекты дальней миграции. Кроме того, нами продемонстрировано, что основные черты проявляющейся популяционно-генетической структуры при анализе с родственниками в матрице и с их исключением из расчетов остаются неизменными. Так, в нашем случае на пространствах Северной Евразии (Россия и Казахстан) в обоих вариантах анализа выявлялись одни и те же территориальные группировки: 1) юг европейской части России (ЕЧР); 2) центр, север, и северо-запад ЕЧР; 3) северо-восток ЕЧР и Урал; 4) часть Западной Сибири; 5) Западная и Средняя Сибирь; 5) Восточная Сибирь и 6) Чукотка. При расчетах байесовской кластеризации с исключенными родственниками мы наблюдали лишь некоторое перераспределение доли исходных кластеров между североевропейскими, уральскими и частью западносибирских группировок.
Оценки генетического родства являются необходимой компонентой знаний о популяционной структуре не только потому, что помогают получить новые данные о комплексе поведенческих особенностей особей, составляющих биологические виды, и их территориальных и экологических группировок [41], но и поскольку пространственный автокорреляционный анализ косвенно, но объективно оценивает паттерны миграции, в первую очередь натальной (от рождения до первой репродукции), на исследуемой части видового ареала. На небольшой географической шкале анализ родства незаменим в реконструкции семейной структуры и социальной организации [42]. На взятой нами в качестве полигона для исследований макрогеографической шкале на первый план выходят паттерны миграции. В нашей матрице данных исходно не было заведомо родственных генотипов волка, т. е. большая часть близких родственников элиминировалась на этапе выбора образцов для включения в анализ, и лишь скрытые, неочевидные родственные связи были объектом исследования. Несмотря на такой подход, наличие шлейфа особей с достоверно отличающимися от нуля коэффициентами родства прослеживалось на масштабе в сотни километров от места происхождения подобных особей.
Полученные данные, таким образом, демонстрируют интегрирующий эффект натальной миграции, действующей против дифференцирующего влияния филопатрии. Кроме того, мы продемонстрировали, что исключение подобных особей из выборок после анализа родства может приводить к занижению оценок генетических дистанций между выборками. При этом исключение родственных генотипов помогает более адекватно оценить некоторые параметры популяционно-генетической структуры, но в то же время наличие семейных кластеров является в определенных условиях частью реальной картины, которая остается за кадром, если родственники вообще исключаются из анализа. Так, для волков Центрально-Лесного государственного биосферного заповедника было показано, что в резком увеличении численности волка в Тверской области в исследованный период времени большую роль играли “резидентные” особи, натальная миграция которых предполагалась лишь на небольшие дистанции [43]. Однако лишь применение технологий молекулярно-генетического анализа дает возможности изучить эти процессы более детально с получением количественных оценок параметров пространственной генетической структуры.
В целом мы можем заключить, что оба вида анализа (по полной матрице и с исключением родственных генотипов) информативны и дополняют друг друга, позволяя получить и дополнительные данные для характеристики генетической структуры вида.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-24-00635, https://rscf.ru/project/23-24-00635/.
Этические нормы обращения с животными не нарушались, ни одно животное не было добыто специально для данного исследования. Все образцы взяты от законно добытых особей. Все применимые международные, национальные и/или институциональные принципы использования животных были соблюдены.
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
П. А. Казимиров
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук; Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды
Автор, ответственный за переписку.
Email: farenklaw@gmail.com
Россия, 119991, Москва; 117628, Москва
Ю. С. Белоконь
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук
Email: farenklaw@gmail.com
Россия, 119991, Москва
М. М. Белоконь
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук
Email: farenklaw@gmail.com
Россия, 119991, Москва
А. Я. Бондарев
Алтайский государственный аграрный университет
Email: farenklaw@gmail.com
Россия, 656049, Барнаул
А. В. Давыдов
Федеральный научно-исследовательский центр развития охотничьего хозяйства
Email: farenklaw@gmail.com
Россия, 105118, Москва
Е. С. Захаров
Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Email: farenklaw@gmail.com
Россия, 677000, Якутск
С. В. Леонтьев
ТОО “Национальный центр биотехнологии”
Email: farenklaw@gmail.com
Казахстан, 010000, Астана
Д. В. Политов
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук; Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды
Email: dmitri_p@inbox.ru
Россия, 119991, Москва; 117628, Москва
Список литературы
- Mech L.D., Boitani L. Wolves: behavior, ecology, and conservation. Chicago: Univ. Chicago Press, 2006. 472 p.
- Бибиков Д.И. Волк. Происхождение, систематика, морфология, экология. М.: Наука, 1985. 608 с.
- Mysłajek R.W., Tracz M., Tracz M. et al. Spatial organization in wolves Canis lupus recolonizing north-west Poland: Large territories at low population density // Mamm. Biol. 2018. V. 92. P. 37–44. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2018.01.006
- Åkesson M., Liberg O., Sand H. et al. Genetic rescue in a severely inbred wolf population // Mol. Ecol. 2016. V. 25. № 19. P. 4745–4756. https://doi.org/10.1111/mec.13797
- Caniglia R., Fabbri E., Galaverni M. et al. Noninvasive sampling and genetic variability, pack structure, and dynamics in an expanding wolf population // J. Mamm. 2014. V. 95. № 1. P. 41–59. https://doi.org/10.1644/13-MAMM-A-039
- Randall D.A., Pollinger J.P., Argaw K. et al. Fine-scale genetic structure in Ethiopian wolves imposed by sociality, migration, and population bottlenecks // Cons. Genet. 2010. V. 11. № 1. P. 89–101. https://doi.org/10.1007/s10592-009-0005-z
- Szewczyk M., Nowak S., Niedźwiecka N. et al. Dynamic range expansion leads to establishment of a new, genetically distinct wolf population in Central Europe // Sci. Rep. 2019. V. 9. № 1. P. 1–16. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55273-w
- Pilot M., Dabrowski M.J., Hayrapetyan V. et al. Genetic variability of the grey wolf Canis lupus in the Caucasus in comparison with Europe and the Middle East: distinct or intermediary population? // PLoS One. 2014. V. 9. № 4. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0093828
- Казимиров П.А., Леонтьев С.В., Нечаева А.В. и др. Популяционно-генетическая структура степного волка России и Казахстана по микросателлитным локусам // Генетика. 2022. Т. 58. № 11. С. 1261–1272. https://doi.org/10.31857/S0016675822110042
- Toonen R.J., Hughes S. Increased throughput for fragment analysis on ABI Prism 377 automated sequencer using a membrane comb and STRand software // Biotechniques. 2001 V. 31 P. 1320–1324. http://www.vgl.ucdavis.edu/STRand
- Kamvar Z.N., Brooks J.C., Grünwald N.J. Novel R tools for analysis of genome-wide population genetic data with emphasis on clonality // Front. Genet. 2015. V. 6. https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00208
- Kamvar Z.N., Tabima J.F., Grünwald N.J. Poppr: An R package for genetic analysis of populations with clonal, partially clonal, and/or sexual reproduction // PeerJ. 2014. V. 2. https://doi.org/10.7717/peerj.281
- R Core Team R: A language and environment for statistical computing. 2022. Available online at https://www.R-project.org/
- Clark L.V., Drauch Schreier A. Resolving microsatellite genotype ambiguity in populations of allopolyploid and diploidized autopolyploid organisms using negative correlations between allelic variables // Mol. Ecol. Res. 2017. V. 17. № 5. P. 1090–1103. https://doi.org/10.1111/1755-0998.12639
- Clark L.V., Jasieniuk M. Polysat: An R package for polyploid microsatellite analysis // Mol. Ecol. Res. 2011. V. 11. № 3. P. 562–566. https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2011.02985.x
- Paradis E. pegas: An R package for population genetics with an integrated–modular approach // Bioinformatics. 2010. V. 26. P. 419–420. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp696
- Adamack A.T., Gruber B. PopGenReport: Simplifying basic population genetic analyses in R // Meth. Ecol. Evol. 2014. V. 5(4). 384–387. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12158
- Gruber B., Adamack A.T. Landgenreport: A new R function to simplify landscape genetic analysis using resistance surface layers // Mol. Ecol. Res. 2015. V 15(5). 1172–1178. doi: 10.1111/1755-0998.12381
- Peakall R., Smouse P.E. GENALEX 6: Genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research // Mol. Ecol. Notes. 2006. V. 6. № 1. P. 288–295. https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2005.01155.x
- Peakall R., Smouse P.E. GenAlEx 6.5: Genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research-an update // Bioinformatics. 2012. V. 28. № 19. P. 2537–2539. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts460
- Pew J., Wang J., Muir P., Frasier T. Related: an R package for analyzing pairwise relatedness data based on codominant molecular markers // Mol. Ecol. Res. 2015. V. 15. P. 557–561. https://doi.org/10.1111/1755-0998.12323
- Grolemund G., Wickham H. Dates and times made easy with lubridate // J. Stat. Software. 2011. V. 40. № 3. P. 1–25. https://doi.org/10.18637/jss.v040.i03
- Kassambara A. rstatix: Pipe-Friendly Framework for Basic Statistical Tests // 2023. https://cran.r-project.org/web/packages/rstatix/index.html
- StatSoft, Inc. STATISTICA (data analysis software system), version 8. 2007. www.statsoft.com
- Fong Y., Huang Y., Gilbert P., Permar S. chngpt: Threshold regression model estimation and inference // BMC Bioinformatics. 2017. V. 18. № 454. https://doi.org/10.1186/s12859-017-1863-x
- Zeileis A., Hothorn T. Diagnostic checking in regression relationships // R News. 2002. V. 2. № 3. P. 7–10.
- Falush D., Stephens M., Pritchard J.K. Inference of population structure using multilocus genotype data: Linked loci and correlated allele frequencies // Genetics. 2003. V. 16. № 4. P. 1567–1587. https://doi.org/10.1093/genetics/164.4.1567
- Hubisz M.J., Falush D., Stephens M., Pri Tchard J. K. Inferring weak population structure with the assistance of sample group information // Mol. Ecol. Res. 2009. № 9. P. 1322–1332. https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2009.02591.x
- Pritchard J.K., Stephens M., Donnelly P. Inference of population structure using multilocus genotype data // Genetics. 2000. V. 155. № 2. P. 945–959. https://doi.org/10.1093/genetics/155.2.945
- Francis R.M. pophelper: An R package and web app to analyse and visualize population structure // Mol. Ecol. Res. 2017 V. 17. P. 27–32. https://doi.org/10.1111/1755-0998.12509
- Evanno G., Regnaut S., Goudet J. Detecting the number of clusters of individuals using the software STRUCTURE: A simulation study // Mol. Ecol. 2005. V. 14. № 8. P. 2611–2620. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2005.02553.x
- Wang J. An estimator for pairwise relatedness using molecular markers // Genetics. 2002. V. 160. № 3. P. 1203–1215. https://doi.org/10.1093/genetics/160.3.1203
- Li C.C., Weeks D.E., Chakravarti A. Similarity of DNA fingerprints due to chance and relatedness // Human Heredity. 1993. V. 43. № 1. P. 45–52. https://doi.org/10.1159/000154113
- Queller D.C., Goodnight K.F. Estimating relatedness using genetic markers // Evolution. 1989. V. 43. № 2. P. 258–275. https://doi.org/10.2307/2409206
- Lynch M., Ritland K. Estimation of pairwise relatedness with molecular markers // Genetics. 1999. V. 152. № 4. P. 1753–1766. https://doi.org/10.1093/genetics/152.4.1753
- Ellegren H. Inbreeding and relatedness in Scandinavian grey wolves Canis lupus // Hereditas. 1999. V. 130. № 3. P. 239–244. https://doi.org/10.1111/j.1601-5223.1999.00239.x
- Liberg O., Andren H., Pedersen H.C. et al. Severe inbreeding depression in a wild wolf (Canis lupus) population // Biol. Letters. 2005. V. 1. № 1. P. 17–20. https://doi.org/10.1098/rsbl.2004.0266
- Fredrickson R.J., Siminski P., Woolf M., Hedrick P.W. Genetic rescue and inbreeding depression in Mexican wolves // Proc. Royal Soc. B-Biol. Sci. 2007. V. 274. № 1623. P. 2365–2371. https://doi.org/10.1098/rspb.2007.0785
- Korablev M.P., Korablev N.P., Korablev P.N. Genetic diversity and population structure of the grey wolf (Canis lupus Linnaeus, 1758) and evidence of wolf× dog hybridisation in the centre of European Russia // Mamm. Biology. 2020. P. 1–14. https://doi.org/10.1007/s42991-020-00074-2
- Hindrikson M., Remm J., Pilot M. et al. Wolf population genetics in Europe: A systematic review, meta-analysis and suggestions for conservation and management // Biol. Reviews. 2017. V. 92. № 3. P. 1601–1629. https://doi.org/10.1111/brv.12298
- Gompper M.E., Wayne R.K. Genetic relatedness among individuals within carnivore societies // Carnivore Behavior, Ecol. and Evol. V. 2. Ithaca and London: Cornell Univ. Press, 1996. P. 429–452. https://doi.org/10.7591/9781501745829-020
- Jędrzejewski W., Branicki W., Veit C. et al. Genetic diversity and relatedness within packs in an intensely hunted population of wolves Canis lupus // Acta Theriologica. 2005. V. 50. № 1. P. 3–22. https://doi.org/10.1007/BF03192614
- Кочетков В.В. Филопатрия и дисперсия в популяции волка (Canis lupus L.) // Сиб. экол. журн. 2015. Т. 22. № 3. С. 388–397. https://doi.org/10.15372/SEJ20150306
Дополнительные файлы