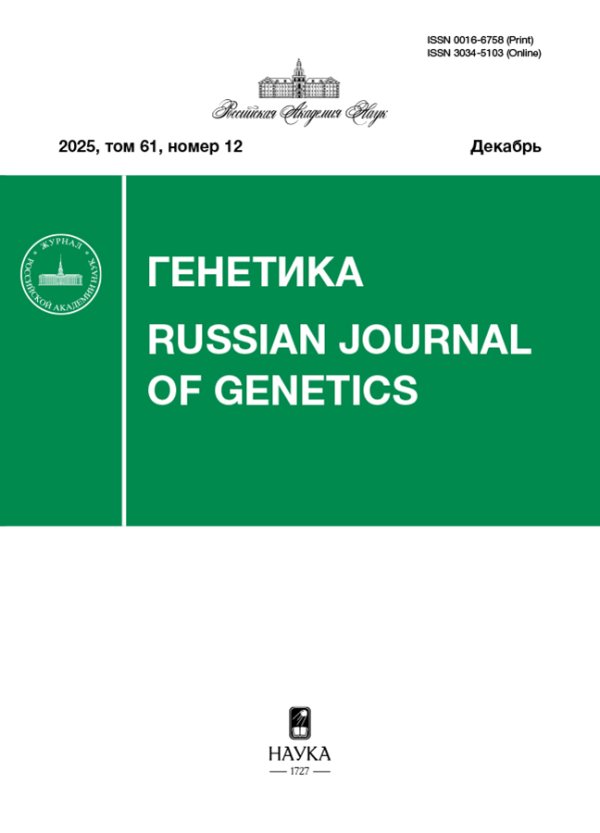Dynamics of the Population Structure of the South of Central Russia Over a 130-Year Period. Migration Processes
- Authors: Sergeeva K.N.1, Sokorev S.N.1, Batlutskaya I.V.1, Sorokina I.N.1
-
Affiliations:
- Belgorod National Research University
- Issue: Vol 60, No 8 (2024)
- Pages: 100-117
- Section: ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА
- URL: https://journal-vniispk.ru/0016-6758/article/view/271461
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0016675824080103
- EDN: https://elibrary.ru/bfiyqj
- ID: 271461
Cite item
Full Text
Abstract
This article assesses the dynamics of indicators characterizing marriage and migration parameters among the population of the south of Central Russia from 1890 to 2018. In the structure of marriages over the 130-year period, there was a significant decrease (1.6–2.2 times) in the share of isolocal marriages and a significant increase the share of heterolocal marriages (almost 11 times), while the size of the elementary population increased from the village level to the district/region level. From 1890 to 2018 the dynamics of isolocal marriages are more pronounced among the urban populationn and the dynamics of heterolocal marriages are more pronounced among rural residents. Over the 130-year period positive marital assortativity by place of birth of spouses decreased by 1.5 times without significant differences in the level and dynamics of marriage selectivity by place of birth of spouses between the urban and rural populations (except for the period 1951–1953). A strong direct correlation was established between the level of marital assortativeness and the share of marriages concluded within one region and one district (r = 0.90, p < 0.05) and a negative one – on the share of heterolocal marriages (concluded between immigrants from different regions) (r = −0.90, p < 0.05).
Full Text
Современное население является миграционно активным, и тенденция увеличения интенсивности миграционных процессов среди народонаселения, зарегистрированная в последние десятилетия, продолжает оставаться значимой в настоящее время. По данным ВОЗ на 2022 г. мигрантами во всем мире являются около одного миллиарда человек, т. е. приблизительно каждый восьмой человек [1]. Не менее значимы миграционные процессы и для России, где на протяжении многих веков они способствовали расширению границ государства за счет освоения и заселения новых территорий. Современное размещение населения Российской Федерации является результатом миграционных процессов, происходивших в Российской империи, Советском Союзе и на постсоветском этапе развития РФ. За последние 50 лет население России в целом устойчиво увеличивалось за счет миграционного притока [2, 3].
Интенсивные миграции современного населения оказывают значимое влияние на популяционно-генетическую структуру: изменяют численность популяций, этнический и половозрастной состав, генетическое разнообразие, создают условия для аутбридинга, влияют на частоту и распространенность патологий и др. Как показано в работе О.Л. Курбатовой и Н.К. Янковского [2] на примере городского населения России при интенсивности миграций на уровне 1990-х годов практически полная замена генофонда коренного населения России возможна за 10 поколений.
На протяжении нескольких десятилетий различными научными коллективами проводились исследования генетически значимых параметров миграций среди народонаселения, преимущественно занимающего европейскую часть России [4–9]. Вместе с тем проблема динамики генофонда под воздействием миграционных процессов имеет особую актуальность для коренного русского населения, занимающего южные окраины Центральной России. Население областных популяций юга Центральной России, отличающееся гетерогенностью в связи с особенностями географического положения и историческим прошлым, остается недостаточно изученным [10–15].
В настоящем сообщении представлены результаты изучения брачно-миграционных показателей среди населения юга Центральной России (Белгородская обл.) в динамике за 130-летний период (с 1890-х гг. по 2018 г.).
Данное сообщение открывает серию работ, посвященных изучению динамики ряда популяционно-демографических показателей (миграционные показатели, параметры изоляции расстоянием, возрастные параметры, национальный состав) среди населения юга Центральной России (Белгородская область) за 130-летний период.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект настоящего исследования – население Белгородской области. Географически область располагается на юго-западных и южных склонах Среднерусской возвышенности, в бассейнах рек Днепр и Дон. В современных границах Белгородская область была образована в послевоенный период – 6 января 1954 г. вследствие объединения ряда районов Курской и Воронежской областей [16]. Из Курской области выделились Белгородский, Борисовский, Грайворонский, Валуйский, Волоконовский, Новооскольский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский, Чернянский, Шебекинский, Яковлевский районы. Из Воронежской области выделились Алексеевский, Красненский, Красногвардейский, Вейделевский, Ровеньский районы. На данный момент времени Белгородская область включает 21 район. Значимое влияние на формирование структуры современной белгородской популяции оказывали миграционные процессы, за счет которых наблюдался рост численности. Численность области постепенно увеличивалась, но в различные временные периоды причины роста различались: 1) в конце ХIХ – начале ХХ в. – развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и промышленности (через Белгород в 1869 г. прошла Курско-Харьковско-Азовская железная дорога, что расширяло связи с промышленными центрами и другими уездами; в 1871 г. было установлено водоснабжение за счет проведения первого водопровода; добыча мела и т. д.); 2) послевоенные миграции; 3) естественный прирост населения в 60-е годы; 4) в 70-е годы – приток людей в область, вызванный формированием территориально-природного комплекса на базе минеральных ресурсов Курской Магнитной Аномалии (КМА); 5) активный приток мигрантов из стран СНГ (Средняя Азия, Закавказье, Прибалтика и т. д.) в 90-х годы [16, 17]. Следует отметить, что в 90-е годы в потоке мигрантов из стран СНГ в значительной мере имела место возвратная миграция на историческую родину, при которой лица, ранее эмигрировавшие, а также их потомки возвращались на исконные территории, где ранее проживали их предки. Во все временные периоды притоку мигрантов благоприятствовали и природно-климатические условия региона, которые всегда привлекали жителей северных регионов РФ. По данным Росстата численность населения области на 1 января 2023 г. составляла 1514527 человек, при этом на долю городского населения приходилось 66.25%.
Для исследования были отобраны восемь районов области: Белгородский, Старооскольский, Новооскольский, Корочанский, Грайворонский, Валуйский, Алексеевский, Красногвардейский (рис. 1). Критериями подбора районных популяций являлись:
1) исторические особенности формирования области из уездов (районов) Курской и Воронежской губерний (областей). Были включены Белгородский, Грайворонский, Корочанский, Новооскольский, Старооскольский районы (уезды), которые входили ранее в состав Курской губернии, затем Курской обл., а после 1954 г. отошли к Белгородской обл. Другие районы – Бирючанский (позже Красногвардейский и частично Алексеевский) и Валуйский районы (уезды) до 1954 г. входили в состав Воронежской губернии, затем Воронежской обл., после 1954 г. являются районами Белгородской области;
2) уровень урбанизации населения. В анализ были включены районы с высоким уровнем урбанизации – Белгородский и Старооскольский, в состав которых входят два крупных города областного значения – Белгород и Старый Оскол, концентрирующие 2/3 городского населения [18]; районы со средним уровнем урбанизации, где районным центром являлись малые города (Алексеевский, Валуйский, Новооскольский р-ны); районы с низким уровнем урбанизации населения, где районным центром являлись малые города численностью до 10 тыс. человек (Красногвардейский, Корочанский, Грайворонский р-ны);
3) географическое положение районов в различных частях области. Грайворонский район является самой западной частью области, Красногвардейский и Алексеевский (включен в анализ с 1951 г.) (ранее оба района входили в состав Бирючанского уезда) районы располагаются на востоке области, Старооскольский р-н – самая северная, а Валуйский р-н – самая южная часть Белгородской обл. Корочанский, Новооскольский р-ны занимают центральную часть региона, а Белгородский р-н, являясь областным центром, представляет юго-западные отроги региона;
4) национальный состав районных популяций. На протяжении двух веков (XVI–XVII вв.) регион являлся практически биэтническим (русскоукраинским) за счет заселения переселенцами из Центральной России и Правобережной Украины. Лишь с начала ХХ в. начались значимые этно-территориальные трансформации. В изучаемых нами районах (уездах) Белгородской обл. русские и украинцы проживали дисперсно: в северной и центральной части преобладало русское население, в западной, южной и восточной был высокий удельный вес украинцев. Так, к концу ХIX в. доля русских была максимальной в Старооскольском, Белгородском и Корочанском уездах (районах). В четырех из семи уездов Курской и Воронежской губерний (территории которых теперь входят в состав Белгородской обл.) преобладали украинцы: в Бирючанском уезде, в Грайворонском, в Валуйском и Новооскольском [19].
Изучение динамики популяционно-демографической структуры населения Белгородской обл.за последние 130 лет проводилось на материалах брачных записей церковно-приходских книг Архива ЗАГС Белгородской обл. конца ХIХ – начала XX в. (1890–1910 гг. – 4925 записей), а также актов гражданского состояния областного архива ЗАГС за 1951–1953 гг. (5128 записей), 1978–1980 гг. (14819 записей), 1991–1993 гг. (6128 записей) и 2016–2018 гг. (8130 записей). Из актов гражданского состояния использовали сведения о местах рождения супругов. Общий объем выборки – 39130 записей актов гражданского состояния. Статистическая обработка информации проводилась с использованием программ Excel (10), Statistica (v10).
Был проведен анализ структуры браков, основываясь на информации о местах рождения супругов; браки, согласно О.Л. Курбатовой и Е.Ю. Победоносцевой [20], подразделялись на изолокальные и гетеролокальные. К изолокальным относились браки между уроженцами одной области (губернии), включая браки между уроженцами одного района (уезда), в том числе одного села (города). К гетеролокальным относились браки между уроженцами разных областей (губерний). С целью оценки величины брачной ассортативности по признаку “место рождения” использовался коэффициент полихорической связи К [20–22].
Для количественной оценки степени локальной изоляции популяций применяли индекс эндогамии, который рассчитывался по данным брачных миграций как доля женихов и невест, родившихся в данной популяции [23]. За элементарную принималась та популяция, в которую поступает не более 50% гамет [23].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Миграционные параметры населения юга Центральной России
- 1890–1910 гг. Изучение брачной структуры в уездах Курской и Воронежской губерний показало, что в 1890–1910 гг. в среднем 96.38% всех браков заключалось внутри губерний (табл. 1), в том числе 92.43% из них в пределах одного уезда и 54.80% в пределах одного села. Таким образом, элементарной популяцией в конце XIX – начале XX в. являлось село. В целом изменчивость доли браков, заключенных в пределах одного села (43.86–67.54%), была выше по сравнению с вариабельностью доли браков, регистрируемых в одном уезде (85.16–97.71%) или губернии (93.17–98.22%). На долю браков, заключенных жителями разных губерний, приходилось в среднем 3.62% (1.78–6.83%) (табл. 1).
В целом в Воронежской губернии чаще, чем в Курской губернии, заключались браки между жителями разных губерний (в 1.7 раза) и реже между жителями одного села (в 1.3 раза). Среди городского населения удельный вес браков, заключенных между уроженцами одного села (города) (61.28%), выше в 1.2 раза, а доля браков, заключенных между жителями разных губерний (6.74%), в 2.8 раза выше по сравнению с сельским населением (50.81 и 2.41% соответственно) (табл. 1).
Таблица 1. Структура браков среди населения Курской и Воронежской губерний в 1890–1910 гг.
Популяции | N | Доля браков (%) между выходцами из | K | ||||||||
разных областей (губерний) | одной области (губернии) | в том числе одного района (уезда) | в том числе одного села (города) | ||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | ||||
Уезды Курской губернии | Белгородский | 844 | 31 | 3.68 | 813 | 96.32 | 770 | 91.23 | 454 | 53.79 | 0.450 |
город | 253 | 19 | 7.51 | 234 | 92.49 | 223 | 88.14 | 175 | 69.17 | 0.403 | |
село | 591 | 12 | 2.03 | 579 | 97.97 | 547 | 92.56 | 279 | 47.21 | 0.298 | |
Старооскольский уезд (в целом) | 795 | 32 | 4.02 | 763 | 95.98 | 677 | 85.16 | 394 | 49.56 | 0.358 | |
город | 167 | 17 | 10.18 | 150 | 89.82 | 144 | 86.23 | 92 | 55.09 | 0.260 | |
село | 628 | 15 | 2.39 | 613 | 97.61 | 533 | 84.87 | 302 | 48.09 | 0.277 | |
Новооскольский | 727 | 15 | 2.06 | 712 | 97.94 | 690 | 94.91 | 491 | 67.54 | 0.448 | |
город | 302 | 11 | 3.64 | 291 | 96.36 | 279 | 92.38 | 237 | 78.47 | 0.376 | |
село | 425 | 4 | 0.95 | 421 | 99.05 | 411 | 96.70 | 254 | 59.76 | 0.327 | |
Корочанский | 364 | 13 | 3.57 | 351 | 96.43 | 340 | 93.41 | 218 | 59.89 | 0.435 | |
город | 162 | 12 | 7.41 | 150 | 92.59 | 146 | 90.12 | 124 | 76.54 | 0.387 | |
село | 202 | 1 | 0.50 | 201 | 99.50 | 194 | 96.03 | 94 | 46.53 | 0.321 | |
Грайворонский | 789 | 14 | 1.78 | 775 | 98.22 | 771 | 97.71 | 474 | 60.07 | 0.469 | |
город | 320 | 4 | 1.24 | 316 | 98.76 | 314 | 98.13 | 199 | 62.19 | 0.381 | |
село | 469 | 10 | 2.12 | 459 | 97.88 | 457 | 97.45 | 275 | 58.64 | 0.328 | |
В среднем по губернии | 704 | 21 | 3.02 | 683 | 96.98 | 650 | 92.48 | 406 | 58.17 | 0.432 | |
город | 241 | 13 | 6.00 | 228 | 94.00 | 221 | 91.00 | 165 | 68.29 | 0.361 | |
село | 463 | 8 | 1.60 | 455 | 98.40 | 428 | 93.52 | 241 | 52.05 | 0.310 | |
Уезды Воронежской губернии | Валуйский уезд | 820 | 56 | 6.83 | 764 | 93.17 | 740 | 90.24 | 401 | 48.90 | 0.390 |
город | 190 | 29 | 15.26 | 161 | 84.74 | 153 | 80.53 | 87 | 45.79 | 0.326 | |
село | 630 | 27 | 4.29 | 603 | 95.71 | 587 | 93.17 | 314 | 49.84 | 0.501 | |
Бирючанский | 586 | 20 | 3.41 | 566 | 96.59 | 553 | 94.37 | 257 | 43.86 | 0.323 | |
город | 259 | 5 | 1.93 | 254 | 98.07 | 250 | 96.53 | 108 | 41.70 | 0.276 | |
село | 327 | 15 | 4.59 | 312 | 95.41 | 303 | 92.66 | 149 | 45.57 | 0.227 | |
В среднем по губернии | 703 | 38 | 5.12 | 665 | 94.88 | 647 | 92.31 | 329 | 46.38 | 0.357 | |
город | 224 | 17 | 8.60 | 208 | 91.41 | 202 | 88.53 | 98 | 43.75 | 0.301 | |
село | 479 | 21 | 4.44 | 458 | 95.56 | 445 | 92.92 | 232 | 47.71 | 0.364 | |
В среднем по региону | 704 | 26 | 3.62 | 678 | 96.38 | 649 | 92.43 | 384 | 54.80 | 0.394 | |
город | 236 | 14 | 6.74 | 222 | 93.26 | 216 | 90.29 | 146 | 61.28 | 0.331 | |
село | 468 | 12 | 2.41 | 455 | 97.59 | 433 | 93.35 | 238 | 50.81 | 0.337 | |
Во всех уездах Курской и Воронежской губерний наблюдалась брачная ассортативность по месту рождения супругов (в среднем К = 0.394) без выраженных различий между городским (К = 0.331) и сельским (К = 0.337) населением (табл. 1).
- 1951–1953 гг. В ходе административно-территориальных реорганизаций середины XX в. Курская и Воронежская губернии были преобразованы в соответствующие области, а уезды – в районы, причем границы бывших уездов не всегда совпадали с границами нынешних районов. Так, Бирючанский уезд Воронежской губернии в 1918 г. был ликвидирован с переносом уездного центра в слободу Алексеевка и с 1 апреля 1918 г. переименован в Алексеевский уезд [24], поэтому в данный период времени (1951–1953 гг.) вместо Бирючанского района в анализ был включен Алексеевский район. В 1951–1953 гг. в среднем 87.72% всех браков заключалось внутри области, в том числе 85.50% из них в пределах одного района и 62.90% в пределах одного села (табл. 2).
Рис. 1. Территориальное расположение районов Белгородской области (цветом выделены изучаемые районы; жирная линия – граница между Курской и Воронежской областями до 1954 г. – года формирования Белгородской обл.).
Таблица 2. Структура браков среди населения Курской и Воронежской областей в 1951–1953 гг.
Популяции | N | Доля браков (%) между выходцами из | K | |||||||||
Разных областей (страны) | Одной области (губернии) | Одного района (уезда) | Одного села (города) | |||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | |||||
Районы Курской области | Белгородский район (в целом) | 1170 | 141 | 12.05 | 1029 | 87.95 | 1012 | 86.50 | 859 | 73.42 | 0.447 | |
город | 404 | 64 | 15.83 | 340 | 84.17 | 338 | 83.67 | 334 | 82.68 | 0.219 | ||
село | 766 | 77 | 10.05 | 689 | 89.95 | 674 | 87.99 | 525 | 68.54 | 0.534 | ||
Старооскольский район (в целом) | 675 | 42 | 6.22 | 633 | 93.78 | 627 | 92.89 | 539 | 79.85 | 0.383 | ||
город | 197 | 13 | 6.80 | 184 | 93.20 | 184 | 93.40 | 171 | 86.80 | 0.187 | ||
село | 478 | 29 | 6.06 | 449 | 93.94 | 443 | 92.68 | 368 | 76.99 | 0.281 | ||
Новооскольский район (в целом) | 645 | 117 | 18.14 | 528 | 81.86 | 512 | 79.38 | 401 | 62.17 | 0.394 | ||
город | 102 | 11 | 10.79 | 91 | 89.21 | 91 | 89.21 | 84 | 82.35 | 0.066 | ||
село | 543 | 106 | 19.53 | 437 | 80.47 | 421 | 77.52 | 317 | 58.37 | 0.367 | ||
Корочанский район (в целом) | 633 | 54 | 8.53 | 579 | 91.47 | 570 | 90.05 | 297 | 46.92 | 0.375 | ||
город | 156 | 16 | 10.25 | 140 | 89.75 | 140 | 89.75 | 122 | 78.21 | 0.490 | ||
село | 477 | 38 | 7.97 | 439 | 92.03 | 430 | 93.15 | 175 | 36.69 | 0.249 | ||
Грайворонский район (в целом) | 643 | 54 | 8.40 | 589 | 91.60 | 584 | 90.82 | 402 | 62.52 | 0.286 | ||
город | 112 | 16 | 14.29 | 96 | 85.71 | 94 | 83.93 | 86 | 76.79 | 0.142 | ||
село | 531 | 38 | 7.16 | 493 | 92.84 | 490 | 92.28 | 316 | 59.51 | 0.259 | ||
В среднем по области | 753 | 82 | 10.67 | 672 | 89.33 | 661 | 87.93 | 500 | 64.98 | 0.377 | ||
город | 194 | 24 | 11.59 | 170 | 88.41 | 169 | 87.99 | 159 | 81.37 | 0.221 | ||
село | 559 | 58 | 10.15 | 501 | 89.85 | 492 | 88.72 | 340 | 60.02 | 0.338 | ||
Районы Воронежской губернии | Валуйский район (в целом) | 724 | 91 | 12.57 | 633 | 87.43 | 609 | 84.12 | 426 | 58.84 | 0.407 | |
город | 193 | 14 | 7.25 | 179 | 92.75 | 177 | 91.71 | 146 | 75.65 | 0.314 | ||
село | 531 | 77 | 14.50 | 454 | 85.50 | 432 | 81.36 | 280 | 52.73 | 0.341 | ||
Алексеевский район (в целом) | 638 | 128 | 20.06 | 510 | 79.94 | 477 | 74.76 | 361 | 56.58 | 0.361 | ||
город | 295 | 80 | 27.12 | 215 | 72.88 | 190 | 64.41 | 150 | 50.85 | 0.253 | ||
село | 343 | 48 | 13.99 | 295 | 86.01 | 287 | 83.67 | 211 | 61.52 | 0.349 | ||
В среднем по области | 681 | 110 | 16.32 | 572 | 83.69 | 543 | 79.44 | 394 | 57.71 | 0.384 | ||
город | 244 | 47 | 17.19 | 197 | 82.82 | 184 | 78.06 | 148 | 63.25 | 0.284 | ||
село | 437 | 63 | 14.25 | 375 | 85.76 | 360 | 82.52 | 246 | 57.13 | 0.345 | ||
В среднем по региону | 733 | 90 | 12.28 | 643 | 87.72 | 627 | 85.50 | 469 | 62.90 | 0.381 | ||
город | 208 | 31 | 13.19 | 178 | 86.81 | 173 | 85.15 | 156 | 76.19 | 0.252 | ||
село | 524 | 59 | 11.32 | 465 | 88.68 | 454 | 86.95 | 313 | 59.19 | 0.342 | ||
Таким образом, как и в конце XIX в., в 1951–1953 гг. элементарной популяцией являлось село. К середине XX в. в 3.4 раза увеличилась доля браков, заключенных жителями разных областей (до 12.28%).
В целом в Воронежской обл. в 1.5 раза чаще, чем в Курской обл. заключались браки между жителями разных областей (16.32 и 10.67% соответственно). Среди городского населения удельный вес браков, заключенных между уроженцами одного села (города) (76.19%), выше в 1.3 раза, а доля браков, заключенных между жителями разных областей (13.19%), в 1.2 раза выше по сравнению с сельским населением (59.19 и 11.32%, соответственно) (табл. 2). Брачная ассортативность по месту рождения супругов наблюдалась во всех исследуемых районах Курской и Воронежской областей (в среднем K = 0.381) и была наиболее выражена среди сельского населения (K = 0.342), среди городских жителей K = 0.252.
- 1978–1980 гг. В современных границах Белгородская обл. (21 район) была сформирована в 1954 г. путем объединения ряда районов Курской и Воронежской областей. В ходе административных преобразований некоторые районы претерпели территориальные изменения. Так, с марта 1964 г. из части Алексеевского района был выделен Красногвардейский район (с центром в г. Бирюч) и таким образом в данный период времени (1978–1980 гг.) нами отдельно рассматривались образованные из Алексеевского района два района – Красногвардейский и Алексеевский. Ввиду малых выборок среди сельского населения и не сохранившихся архивных данных по ряду районов дальнейший анализ популяционно-демографической структуры проводился по районам в целом (без их подразделения на сельское и городское население). Исключение составили Белгородский и Старооскольский районы, где достаточный объем выборки и наличие крупного города позволили продолжить анализ брачно-миграционных показателей как среди городского, так и сельского населения.
В 1978–1980 гг. в структуре браков в среднем 64.12% всех браков заключались внутри области, в том числе 48.14% из них в пределах одного района и 23.45% в пределах одного села (табл. 3). Таким образом, размер элементарной популяции в 1980-е гг. в подавляющем большинстве исследуемых популяций соответствовал территориальным границам района или несколько превышал его. Ко второй половине XX в. в 2.9 раза увеличилась доля браков, заключенных жителями разных областей (до 35.88%). Анализ городского и сельского населения Белгородской обл. показал, что в среднем доля браков, заключенных в пределах города (села), практически не различалась в городской (21.31%) и сельской (20.8%) частях. При этом среди городского населения удельный вес браков, заключенных между уроженцами одной области (45.81%), в том числе одного района (28.56%), ниже (в 1.3 и 1.5 раза соответственно), чем среди сельского населения (58.14 и 42.95% соответственно).
Таблица 3. Структура браков среди населения Белгородской области в 1978–1980 гг.
Популяции | N | Доля браков (%) между выходцами из | K | |||||||
разных областей (страны) | одной области (Белгородской) | одного района | одного села (города) | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | |||
Белгородский район | 4737 | 2230 | 47.08 | 2507 | 52.92 | 1383 | 29.19 | 940 | 19.84 | 0.270 |
город | 3378 | 1577 | 46.68 | 1801 | 53.32 | 951 | 28.15 | 769 | 22.76 | 0.259 |
село | 1359 | 653 | 48.05 | 706 | 51.95 | 432 | 31.79 | 171 | 12.58 | 0.252 |
Старооскольский район | 3320 | 1748 | 52.65 | 1572 | 47.35 | 1252 | 37.71 | 760 | 22.89 | 0.276 |
город | 2165 | 1336 | 61.71 | 829 | 38.29 | 627 | 28.96 | 430 | 19.86 | 0.267 |
село | 1155 | 412 | 35.67 | 743 | 64.33 | 625 | 54.11 | 330 | 28.57 | 0.258 |
Новооскольский район | 1120 | 334 | 29.82 | 786 | 70.18 | 581 | 51.88 | 248 | 22.15 | 0.267 |
Корочанский район | 1034 | 302 | 29.20 | 732 | 70.80 | 487 | 47.10 | 193 | 18.67 | 0.267 |
Грайворонский район | 613 | 260 | 42.42 | 353 | 57.58 | 264 | 43.06 | 145 | 23.65 | 0.271 |
Валуйский район | 1837 | 610 | 33.20 | 1227 | 66.80 | 986 | 53.68 | 470 | 25.59 | 0.277 |
Красногвардейский район | 1145 | 282 | 24.63 | 863 | 75.37 | 696 | 60.78 | 328 | 28.64 | 0.270 |
Алексеевский район | 1013 | 284 | 28.03 | 729 | 71.97 | 625 | 61.70 | 265 | 26.16 | 0.278 |
В среднем по области | 1852 | 756 | 35.88 | 1096 | 64.12 | 784 | 48.14 | 419 | 23.45 | 0.272 |
город | 2772 | 1457 | 54.20 | 1315 | 45.81 | 789 | 28.56 | 600 | 21.31 | 0.263 |
село | 1257 | 533 | 41.86 | 725 | 58.14 | 529 | 42.95 | 251 | 20.58 | 0.255 |
А удельный вес браков, заключенных между жителями разных областей в городах (54.20%), в 1.3 раза выше по сравнению с селами (41.86%). Во всех исследуемых районах Белгородской обл. наблюдалась положительная брачная ассортативность по месту рождения супругов (в среднем К = 0.272) без выраженных различий между городским (К = 0.263) и сельским населением (К = 0.255) (табл. 3).
- 4. 1991–1993 гг. В 1991–1993 гг. в среднем 61.73% всех браков заключались внутри Белгородской области, в том числе 46.69% из них в пределах одного района и 25.16% в пределах одного села. Размер элементарной популяции в 1990-е гг. соответствовал территориальным границам района (табл. 4).
Таблица 4. Структура браков среди населения Белгородской области в 1991–1993 гг.
Популяции | N | Доля браков (%) между выходцами из | K | |||||||
разных областей (страны) | одной области (Белгородской) | одного района | одного села (города) | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | |||
Белгородский район | 1654 | 604 | 36.52 | 1050 | 63.48 | 700 | 42.32 | 538 | 32.53 | 0.264 |
город | 1350 | 444 | 32.89 | 906 | 67.11 | 608 | 45.04 | 509 | 37.70 | 0.255 |
село | 304 | 160 | 52.63 | 144 | 47.37 | 92 | 30.26 | 29 | 9.54 | 0.245 |
Старооскольский район | 1052 | 492 | 46.77 | 560 | 53.23 | 459 | 43.63 | 308 | 29.28 | 0.260 |
город | 665 | 351 | 52.78 | 314 | 47.22 | 248 | 37.29 | 204 | 30.68 | 0.245 |
село | 387 | 141 | 36.43 | 246 | 63.57 | 211 | 54.52 | 104 | 26.87 | 0.247 |
Новооскольский район | 408 | 133 | 32.60 | 275 | 67.40 | 209 | 51.22 | 95 | 23.28 | 0.281 |
Корочанский район | 479 | 171 | 35.69 | 308 | 64.31 | 215 | 44.89 | 87 | 18.17 | 0.274 |
Грайворонский район | 310 | 138 | 44.52 | 172 | 55.48 | 132 | 42.58 | 75 | 24.19 | 0.303 |
Валуйский район | 893 | 322 | 36.07 | 571 | 63.93 | 420 | 47.02 | 187 | 20.93 | 0.287 |
Красногвардейский район | 620 | 263 | 42.42 | 357 | 57.58 | 270 | 43.55 | 147 | 23.71 | 0.296 |
Алексеевский район | 712 | 225 | 31.61 | 487 | 68.39 | 415 | 58.28 | 208 | 29.21 | 0.307 |
В среднем по области | 766 | 294 | 38.28 | 473 | 61.73 | 353 | 46.69 | 206 | 25.16 | 0.284 |
город | 1008 | 398 | 42.84 | 610 | 57.17 | 428 | 41.17 | 357 | 34.19 | 0.250 |
село | 346 | 151 | 44.53 | 195 | 55.47 | 152 | 42.39 | 67 | 18.21 | 0.246 |
Среди городских жителей в 1.9 раза выше доля браков, заключаемых в пределах одного города (села) (34.19%), чем среди сельского населения (18.21%). В 1990-е гг. во всех исследуемых районах области наблюдалась положительная брачная ассортативность по месту рождения супругов (в среднем К = 0.284) без различий между городским (К = 0.250) и сельским населением (К = 0.246).
- 5. 2016–2018 гг. В 2016–2018 гг. в среднем 59.48% всех браков заключались внутри области, в том числе 43.35% из них в пределах одного района и 25.80% в пределах одного села (табл. 5). К началу XXI в. размер элементарной популяции в 1/3 анализируемых районных популяций (37.5%) соответствовал уровню района (Алексеевский, Красногвардейский, Старооскольский р-ны), тогда как в большинстве (62.50%) рассматриваемых популяций (Белгородский, Новооскольский, Корочанский, Грайворонский, Валуйский р-ны), он соответствовал практически уровню области (52.46–58.00% браков в этих районах заключались в пределах Белгородской обл.) Среди городского населения Белгородского района удельный вес браков, заключенных между уроженцами одной области (49.50%), в том числе одного района (34.85%) и одного села (29.60%), ниже в 1.2–1.3 раза, чем среди сельского населения (60.54, 44.70, 34.41% соответственно), а удельный вес браков, заключенных между жителями разных областей, в городе в 1.3 раза выше по сравнению с селом (табл. 5).
Таблица 5. Структура браков среди населения Белгородской области в 2016–2018 гг.
Популяции | N | Доля браков (%) между выходцами из | K | |||||||
разных областей (страны) | одной области (Белгородской) | одного района | одного села (города) | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | |||
Белгородский район | 2001 | 901 | 45.03 | 1100 | 54.97 | 795 | 39.73 | 640 | 31.98 | 0.277 |
город | 1010 | 510 | 50.50 | 500 | 49.50 | 352 | 34.85 | 299 | 29.60 | 0.272 |
село | 991 | 391 | 39.46 | 600 | 60.54 | 443 | 44.70 | 341 | 34.41 | 0.276 |
Старооскольский район | 1959 | 630 | 32.16 | 1329 | 67.84 | 1203 | 61.41 | 1032 | 52.68 | 0.265 |
Новооскольский район | 519 | 218 | 42.00 | 301 | 58.00 | 179 | 34.49 | 87 | 16.76 | 0.254 |
Корочанский район | 448 | 213 | 47.54 | 235 | 52.46 | 155 | 34.60 | 63 | 14.06 | 0.262 |
Грайворонский район | 411 | 194 | 47.21 | 217 | 52.79 | 134 | 32.60 | 79 | 19.22 | 0.253 |
Валуйский район | 1225 | 563 | 45.96 | 662 | 54.04 | 493 | 40.25 | 240 | 19.59 | 0.266 |
Красногвардейский район | 656 | 225 | 34.30 | 431 | 65.70 | 311 | 47.41 | 132 | 20.12 | 0.276 |
Алексеевский район | 911 | 273 | 29.96 | 638 | 70.04 | 513 | 56.32 | 291 | 31.95 | 0.258 |
В среднем по области | 1016 | 402 | 40.52 | 614.13 | 59.48 | 473 | 43.35 | 321 | 25.80 | 0.264 |
В 2016–2018 гг. наблюдалась положительная брачная ассортативность по месту рождения супругов во всех исследуемых районах Белгородской обл. (в среднем К = 0.264) без различий между городским (К = 0.272) и сельским (К = 0.276) населением Белгородского р-на.
Тенденции динамики миграционных параметров среди населения юга Центральной России
На завершающем этапе нашей работы проведен анализ основных направлений динамики брачной структуры населения юга Центральной России (Белгородская обл.) за 130 лет (с 1890 г. по 2018 г.) в разрезе пяти временных периодов (данные представлены на рис. 2–5). Были выявлены следующие тенденции.
Во-первых, размер элементарной популяции за 130 лет изменился с уровня, ограниченного территорией села, до территориальных границ района (37.5% рассматриваемых районов) и области (62.5% изучаемых районов) (рис. 2).
Рис. 2. Динамика структуры браков по месту рождения супругов.
Во-вторых, с конца ХIХ до начала ХХI в. значительно уменьшилась доля браков, заключаемых между уроженцами одной губернии (области) (в 1.6 раза), одного уезда (района) (в 2 раза) и одного села (в 2.2 раза), тогда как удельный вес браков, заключаемых между выходцами разных областей, возрос в 10.6 раза (рис. 2). Установлена сильная прямая корреляционная связь между долями изолокальных браков (r = 1.00, p < 0.05), удельный вес которых отрицательно коррелировал с долей гетеролокальных браков (r = −1.00, p < 0.05).
В-третьих, динамика брачно-миграционных показателей, характеризующих изолокальные браки, с 1890 г. по 2018 г. среди городского населения (рис. 3) была более выражена, чем среди сельских жителей (рис. 4) юга Центральной России: доли внутриобластных (внутригубернских) браков снизились в 2 раза в городе и в 1.6 раза в селе, внутрирайонных (внутриуездных) браков – в 2.6 раза и в 2 раза соответственно, браков между односельчанами – в 2 раза и 1.5 раза соответственно. При этом доля браков, заключаемых между уроженцами разных областей, увеличилась в 7.5 раз в городе и в 16.4 раза в селе с максимальной динамикой в период 1951–1953 гг. – 1978–1980 гг. (рис. 3, 4).
Рис. 3. Динамика структуры браков по месту рождения супругов среди городского населения.
Рис. 4. Динамика структуры браков по месту рождения супругов среди сельского населения.
В-четвертых, за 130-летний период положительная брачная ассортативность по месту рождения супругов снизилась в 1.5 раза (с 0.394 до 0.264) (рис. 5) без существенных различий в уровне и динамике между городским и сельским населением (за исключением периода 1951–1953 гг., когда показатель брачной ассортативности в городе был в 1.4 раза выше, чем в селе) (рис. 5, табл. 2).
Рис. 5. Динамика брачной ассортативности по месту рождения супругов.
В-пятых, установлена выраженная сильная прямая корреляционная зависимость уровня брачной ассортативности от доли браков, заключаемых в пределах одной области и одного района (r = 0.90, p < 0.05), и отрицательная – от доли гетеролокальных браков (заключаемых между выходцами разных областей) (r = −0.90, p < 0.05).
ОБСУЖДЕНИЕ
За 130-летний период (с 1890 по 2018 г.) в среднем по Белгородскому региону произошло значительное уменьшение (в 1.6–2.2 раза) удельного веса изолокальных браков и выраженное увеличение (практически в 11 раз) доли гетеролокальных браков. Так, с конца ХIХ в. (1890–1910 гг.) до середины ХХ в. (1951–1953 гг.) более половины браков заключалось между односельчанами. Остальные браки регистрировались между уроженцами разных населенных пунктов одного уезда или губернии и в сумме данные браки (изолокальные) превышали 95%. На гетеролокальные браки приходилось менее 5%. Население в конце ХIХ – начале ХХ в. было достаточно консервативно в своих социальных связях и предпочитало заключать браки в рамках родственно-клановых групп. Это, с одной стороны, обусловливалось “приоритетом хозяйственно-экономических соображений при заключении брака” и вело “к ограничению выбора брачного партнера и социальной замкнутости” [25]. Поэтому невест и женихов предпочитали выбирать в пределах своего села. “Но в том случае, если не могли подыскать невесту в своем селе, украинцы ездили сватать в украинские села, как бы далеко они не были расположены, а русские – в села, населенные русскими”, пишет Л.Н. Чижикова [26]. С другой стороны, многие десятилетия вплоть до 1917 г. в России условия заключения браков регулировались церковным брачным законодательством (существовал церковный брак). Это определяло условия поиска брачных партнеров и заключения браков. После революции была упразднена церковная форма брака. За достаточно короткий промежуток времени было принято несколько брачно-семейных кодексов, закреплявших отделение брака от церкви [27], и введено заключение брака в государственных органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Таким образом, условия заключения браков в конце ХIХ – начале ХХ в. способствовали преобладанию изолокальных браков на всех уровнях популяционной структуры (внутриобластных, в том числе внутрирайонных и между односельчанами) вплоть до середины ХX в. Значимые изменения брачной структуры Белгородского региона с 1951–1953 гг. по 1978–1980 гг. являлись следствием больших потерь мужского населения в годы войны и вызванной ими последующей диспропорции в соотношении полов. За годы войны число зарегистрированных браков упало более чем в 2 раза [27]. Лишь к концу 50-х – началу 60-х годов ХХ в. стала увеличиваться доля мужского населения, когда женихи являлись представителями поколения мужчин, не участвовавших в войне. Однако демографические волны среди мужского и женского населения и дисбаланс между полами продолжали играть значимую роль в формировании брачно-миграционной структуры далее в 60–80-е гг. Так, например, число женщин брачного “возраста определялось поколением, родившимся в годы войны, когда рождаемость резко упала, и вследствие этого на брачном рынке отмечался дефицит молодых невест. К 1964 г. достигли совершеннолетия девушки, родившиеся в период послевоенного компенсационного повышения рождаемости” [27], но при этом наблюдался дисбаланс в соотношении полов (максимален в 1956 г.: на 1000 женщин 641 мужчина). Колебания уровня рождаемости оказывали влияние на формирование брачной структуры Белгородского региона вплоть до 80-х годов. ХХ в. Лишь к 1979 г. наметилось сокращение диспропорций между полами: на 1000 женщин было 784 мужчины [28]. Можно предположить, что еще одной из причин гендерного дисбаланса данного периода являлась трудовая миграция, которая могла приводить к оттоку населения (преимущественно мужчин). Следует отметить, что в 40–50-е гг., вплоть до 70-х гг. область оставалась малоразвитым в экономическом отношении аграрным регионом, что приводило к оттоку трудовой силы. Индекс эндогамии уменьшился на 21% за 130 лет, причем с конца XIX века до 1978–1980 гг. отток населения из области увеличился на 19.6%. При этом максимальный отток населения на всех уровнях организации популяционной структуры (более выраженный на уровне села и района) приходился на период с 1951–1953 гг. по 1978–1980 гг. С 1980 г. по 2018 г. наблюдалась стабилизация брачно-миграционной структуры населения региона. Этому способствовали, с одой стороны, повышение рождаемости и восстановление пропорций между полами, с другой стороны, – активные миграции населения на территорию Белгородской области (особенно в 90-е гг.) из других регионов РФ, что нашло отражение в росте гетеролокальных браков.
Анализ динамики брачной структуры городского и сельского населения Белгородского региона показал, что в конце ХIХ – начале ХХ в. более 50% браков в сельской местности и более 60% в городах заключались между выходцами данной популяции. Остальные браки как среди городского населения, так и среди сельского населения в основном заключались между уроженцами одной губернии (порядка 90% и выше), в том числе одного уезда. На долю браков, регистрируемых между уроженцами разных губерний в данный период, приходилось менее 7%, и она была несколько выше среди городского населения (6.74%), чем среди сельского (2.41%). Как было описано выше, сельские поселения были более “закрыты”, чем городские популяции. Однако если учесть, что в 1897 г. доля городского населения на территории, относящейся сейчас к Белгородской области, составляла всего 7.0%, то это объясняет преобладание изолокальных браков вплоть до середины ХХ в. [19]. Политические, социально-экономические и административно-территориальные преобразования начала-середины ХХ в. нашли свое отражение в изменении брачной структуры как сельского, так и городского (наиболее выраженно) населения Белгородского региона. С 1951–1953 гг. по 1978–1980 гг. происходило экспоненциальное уменьшение доли внутриобластных браков, в том числе внутрирайонных, и наблюдался значительный рост гетеролокальных браков. Последующие десятилетия среди городских жителей продолжалось незначительное снижение доли изолокальных браков (на всех уровнях популяционной структуры) и увеличение гетеролокальных браков. Среди сельского населения, наоборот: увеличилась доля браков, регистрируемых между выходцами из одной области, практически не изменилась доля внутрирайонных браков и увеличилась доля браков между односельчанами, на фоне снижения доли гетеролокальных браков.
Наши данные согласуются с данными по соседней Курской обл., где в ХIХ в. 97–98% браков заключалось внутри губернии, в том числе внутри одного уезда и одного села (50%) [12]. Такой же высокий уровень локальных браков был характерен и для малых городов Курского региона, за исключением г. Курска. Ко второй половине ХХ в. в популяциях всех уровней существенно снизилась доля изолокальных браков: браки между выходцами из одной (Курской) области были на уровне 74% среди сельского населения (в том числе 16% среди односельчан) и 55% в городах (4% между жителями города). Тенденция снижения всех типов изолокальных браков сохранилась только для сельских популяций Курского региона, тогда как в городских – доля внутрирайонных браков и браков, заключаемых между уроженцами Курской области, увеличилась. С 1865–1873 гг. по 1993–1995 гг. на территории Курского региона произошло уменьшение в несколько раз изолокальных браков (на 1/3 во всех популяциях) [10–12].
Следует отметить, что за 130-летний период эндогамность браков существенно уменьшилась (в среднем в 2 раза). Размер элементарной популяции в Белгородской области изменился с уровня, ограниченного территорией села, до территориальных границ района и области. Аналогичная изменчивость показателя индекса эндогамии была установлена ранее на территории соседней Курской области, где с 1865 г. по 1995 г. произошло снижение (в 2 раза) данного параметра. Авторами работ [10–12] показано, что в 1987–1990 гг. в сельских районных популяциях Курской области индекс эндогамии составлял 0.460, а в 1995 г. – 0.419 в городах и 0.440 в селах. Эти результаты полностью соответствуют нашим данным по районным популяциям Белгородской обл., где к 1993 г. уровень эндогамии составил 0.467 (0.412 в городах и 0.424 в селах). Данные по уровню эндогамии Центрального Черноземья согласуются с результатами популяционно-демографических исследований, выполненных в Костромской обл., где по районам области индекс эндогамии изменялся от 0.48 до 0.64 [29].
При популяционно-генетическом изучении населения Ростовской обл. получены несколько иные результаты [30–33]). Средневзвешенное значение индекса эндогамии составляло 0.34 среди сельского населения Ростовской обл. При этом в пределах Ростовской области регистрировалось от 41 до 69% браков, а в пределах России – от 78 до 85%. Эти данные позволили авторам [30–32] заключить, что к началу XXI в. уровень элементарной популяции для сельского населения Ростовской области ограничивается территорией практически всей области.
Следует отметить, что брачно-миграционные характеристики популяций имеют важное медико-генетическое значение, так как влияют на распространенность как моногенной наследственной патологии, так и других наследственно детерминированных заболеваний среди населения [14, 32–40]. В связи с этим данные показатели необходимо учитывать при планировании популяционно-генетических и медико-генетических исследований [2, 5, 14, 34].
Среди населения юга Центральной России за 130-летний период положительная брачная ассортативность по месту рождения супругов снизилась в 1.5 раза (с 0.394 до 0.264) без существенных различий в уровне и динамике между городским и сельским населением (за исключением периода 1951–1953 гг., когда показатель брачной ассортативности в городе был в 1.4 раза выше, чем в селе) (K = 0.252).
Можно отметить, что наши результаты анализа динамики брачной ассортативности по месту рождения супругов согласуются с аналогичными данными по соседней Курской области за период с 1865 г. по 1995 г. Автором работы [12] было показано, что положительная брачная ассортативность среди населения была максимальна в конце ХIХ в. и снизилась к 1995 г. Так же, как и в белгородской популяции, брачная избирательность по месту рождения в курской популяции в 1895–1900 гг. была более значима среди сельских жителей (0.491), чем среди городских (0.443), а спустя столетие эти различия стали менее выраженными.
Анализ брачной структуры московской популяции [41] показал, что ассортативность по признаку “место рождения” была особенно велика в конце ХIХ – начале ХХ в. (0.71). Как отмечают авторы, в этот период высокие индексы брачной избирательности были характерны для коренных москвичей и уроженцев большинства центральных и белорусских губерний, а также Кавказа [41, 42]. К концу ХХ в. данный показатель значительно снизился и составил 0.12 в Московском регионе [41].
Снижение индекса ассортативности по месту рождения супругов за два поколения было зарегистрировано и в Кемеровской обл. (среди шорцев Таштагольского района): с 79.63% в 1970–1975 гг. до 70.64% в 2000–2005 гг. [38].
Работа выполнена без финансирования, на личные средства.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с использованием в качестве объекта животных.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием в качестве объекта людей.
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
K. N. Sergeeva
Belgorod National Research University
Email: Sorokina_5@mail.ru
Russian Federation, Belgorod, 308015
S. N. Sokorev
Belgorod National Research University
Email: Sorokina_5@mail.ru
Russian Federation, Belgorod, 308015
I. V. Batlutskaya
Belgorod National Research University
Email: Sorokina_5@mail.ru
Russian Federation, Belgorod, 308015
I. N. Sorokina
Belgorod National Research University
Author for correspondence.
Email: Sorokina_5@mail.ru
Russian Federation, Belgorod, 308015
References
- https://www.who.int/ru/news/item/20-07-2022-who-report-shows-poorer-health-outcomes-for-many-vulnerable-refugees-and-migrants (дата обращения 14.01.2023 г.)
- Курбатова О.Л., Янковский Н.К. Миграция – основной фактор популяционной динамики городского населения России // Генетика. 2016. Т. 52. № 7. С. 831–851. https://doi.org/10.7868/S0016675816070067
- Щербакова Е.М. Демографический барометр. Международная миграция по оценкам 2022 года // Демоскоп Weekly. 2023. № 973–974.
- Парадеева Г.М. Факторы подразделенности русских популяций Нечерноземья: Автореф. дисc. …канд. биол. наук. М., 1987. 22 с.
- Курбатова О.Л., Победоносцева Е.Ю., Свежинский Е.А. Генетико-демографические процессы в московской популяции в середине 1990-х годов. Миграция и эмиграция как факторы изменения генетического разнообразия популяции // Генетика. 1997. Т. 33. № 12. С. 1688–1696.
- Тарская Л.А., Ельчинова Г.И., Винокуров В.Н. Анализ брачных миграций в двух районах Республики Саха (Якутия) // Генетика. 2003. Т. 39. № 12. С. 1698–1701.
- Ельчинова Г.И., Шакманов М.М., Ревазова Ю.А. и др. Брачно-миграционная характеристика карачаевцев // Генетика. 2015. Т. 51. № 8. С. 941–945. https://doi.org/10.7868/S0016675815070036
- Ельчинова Г.И., Зинченко Р.А. Гендерная дифференциация межэтнических браков населения северного Кавказа // Мед. генетика. 2023. Т. 22. № 2. С. 48–51. https://doi.org/10.25557/2073-7998.2023.02.48-51
- Ельчинова Г.И., Макаов А.Х., Ревазова Ю.А. и др. Брачно-миграционная характеристика черкесов (конец ХХ века) // Генетика. 2016. Т. 52. № 3. С. 385–387. https://doi.org/10.7868/S0016675816030061
- Иванов В.П., Чурносов М.И., Кириленко А.И. Брачная структура популяции г. Курска // Генетика. 1996. Т. 32. № 3. С. 440–444.
- Иванов В.П., Чурносов М.И., Кириленко А.И. Популяционно-демографическая структура населения Курской области. Миграционные процессы // Генетика. 1997. Т. 33. № 3. С. 375–380.
- Васильева Л.И. Динамика генетико-демографической структуры населения Курской области. Миграционные процессы // Генетика. 2002. Т. 38. № 4. С. 546–553.
- Чурносов М.И., Сорокина И.Н., Балановская Е.В. Генофонд населения Белгородской области. Динамика индекса эндогамии в районных популяциях // Генетика. 2008. Т. 44. № 8. С. 1117–1125.
- Сорокина И.Н., Рудых Н.А., Безменова И.Н. и др. Популяционно-генетические характеристики и генетико-эпидемиологическое исследование ассоциаций генов-кандидатов с мультифакториальными заболеваниями // Науч. результаты биомед. исследований. 2018. Т. 4. № 4. С. 20–30.
- Сергеева К.Н., Сорокина И.Н. Генетико-демографические особенности белгородского региона // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Естественные и технические науки. 2022. № 9. С. 56–60. https://doi.org/10.37882/2223-2966.2022.09.31
- Шаповалова В.А. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений. Белгород: БелГУ, 2002. 410 с.
- Григорьева Г.Н. География Белгородской области. Белгород: БелГУ, 1996. 144 с.
- Чугунова Н.В., Полякова Т.А., Романова И.В. Результаты и тренды развития региональной системы расселения в эпоху неолиберальной урбанизации (на материалах Белгородской области) // Географический вестник Geographical bulletin. 2019. Т. 2(49). С. 34–45. https://doi.org/ 10.17072/2079-7877-2019-2-34-45.
- Бубликов В.В., Маркова В.В. Формирование этнического состава населения Белгородской области (часть первая: XIX век–середина XX столетия) // Науч. ведомости. Серия Философия. Социология. Право. 2013. № 23 (166). Вып. 26. С. 49–59.
- Курбатова О.Л., Победоносцева Е.Ю. Роль миграционных процессов в формировании брачной структуры московской популяции. Сообщ. 3. Брачная ассортативность как фактор, противодействующий аутбридингу // Генетика. 1988. Т. 24. № 9. С. 1689–1695.
- Плохинский Н.А. Биометрия. М.: МГУ. 1970. 365 с.
- Курбатова О.Л., Победоносцева Е.Ю. Городские популяции: возможности генетической демографии (миграция, подразделенность, аутбридинг) // Информ. вестник ВОГиС. 2006. Т. 10. № 1. С. 155–188.
- Ельчинова Г.И. Опыт применения методов популяционно-генетического анализа при изучении популяций России с различной генетико-демографической структурой: Автореф. дисс….докт. биол. наук. М., 2001. 48 с.
- Белгородская энциклопедия. Белгород, 2023. – URL: https://beluezd.ru/alekseevka-istoricheskaya-khronika.html (дата обращения 14.01.2023).
- Полищук Н.С., Понамарев А.П. Украинцы. М., 2000. 271 с.
- Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье. М.: Наука, 1988. 256 с.
- Иванова Е.И. Трансформация брачности в России в ХХ веке: основные этапы // Демоскоп Weekly. Электронная версия бюлл. Население и общество. http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/konfer/konfer_010.html (Дата обращения 25.04.2023).
- Как эхо войны отразилось на молодом поколении россиян // Информ. выпуск от 22.06.2021 г. http://zato-znamensk.ru/node/3112 (дата обращения 02.05.2023).
- Ельчинова Г.И., Зинченко Р.А., Осипова Е.В. Методы обработки популяционно-генетических данных: демографические анкеты // Мед. генетика. 2004. Т. 3. № 7. С. 313–320.
- Кривенцова Н.В. Индекс эндогамии в Ростовской области // Мед. генетика. 2005. Т. 4. № 5. С. 212b-212.
- Кривенцова Н.В., Ельчинова Г.И., Амелина С.С., Зинченко Р.А. Брачно-миграционная характеристика населения Ростовской области // Генетика. 2005. Т. 41. № 7. С. 981–985.
- Амелина С.С. Эпидемиология моногенной наследственной патологии и врожденных пороков развития у населения Ростовской области: Дисс. … докт. мед. наук. ГУ “Медико-генетический научный центр РАМН”, 2006. 258 с.
- Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. 431 с.
- Сергеева К.Н., Сокорев С.Н., Ефремова О.А. и др. Анализ уровня эндогамии популяции как основа популяционно-генетических и медикo-гeнeтических исследований // Науч. результаты биомед. исследований. 2021. Т. 7. № 4. С. 375–387.
- Рашина О.В. Ассоциации полиморфных вариантов генов-кандидатов с развитием H. pylori – негативной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у жителей Центрального Черноземья России // Науч. результаты биомед. исследований. 2023. Т. 9. № 3. С. 333–346. https://doi.org/10.18413/2658-6533-2023-9-3-0-4
- Иванова Т.А. Пол-специфические особенности межлокусных взаимодействий, определяющих подверженность к гипертонической болезни // Науч. результаты биомед. исследований. 2024. Т. 10. № 1. С. 53–68. https://doi.org/10.18413/2658-6533-2024-10-1-0-3
- Eliseeva N., Ponomarenko I., Reshetnikov E. et al. LOXL1 gene polymorphism candidates for exfoliation glaucoma are also associated with a risk for primary open-angle glaucoma in a Caucasian population from central Russia // Mol. Vis. 2021. V. 27. P. 262–269.
- Moskalenko M.I., Milanova S.N., Ponomarenko I.V. et al. Study of associations of polymorphism of matrix metalloproteinases genes with the development of arterial hypertension in men // Kardiologiia. 2019. V. 59. № 7S. P. 31–39. doi: 10.18087/cardio.2598
- Bushueva O., Solodilova M., Churnosov M. et al. The flavin-containing monooxygenase 3 gene and essential hypertension: The joint effect of polymorphism E158K and cigarette smoking on disease susceptibility // Int. J. Hypertens. https://doi.org/10.1155/2014/712169
- Polonikov A., Rymarova L., Klyosova E. et al. Matrix metalloproteinases as target genes for gene regulatory networks driving molecular and cellular pathways related to a multistep pathogenesis of cerebrovascular disease // J. Cell. Biochem. 2019. V. 10. P. 16467–16482. https://doi.org/10.1002/jcb.28815
- Свежинский Е.А., Курбатова О.Л. Опыт исторической реконструкции генетико-демографической структуры московской популяции на рубеже XIX–XX веков // Генетика. 1999. Т. 35. № 8. С. 1149–1159.
- Ульянова М. В., Кучер А. Н., Лавряшина М. Б. Генетико-демографическое изучение шорцев Таштагольского района Кемеровской области: динамика брачно-миграционной структуры // Генетика. 2011. Т. 47. № 1. C. 133–139.
Supplementary files