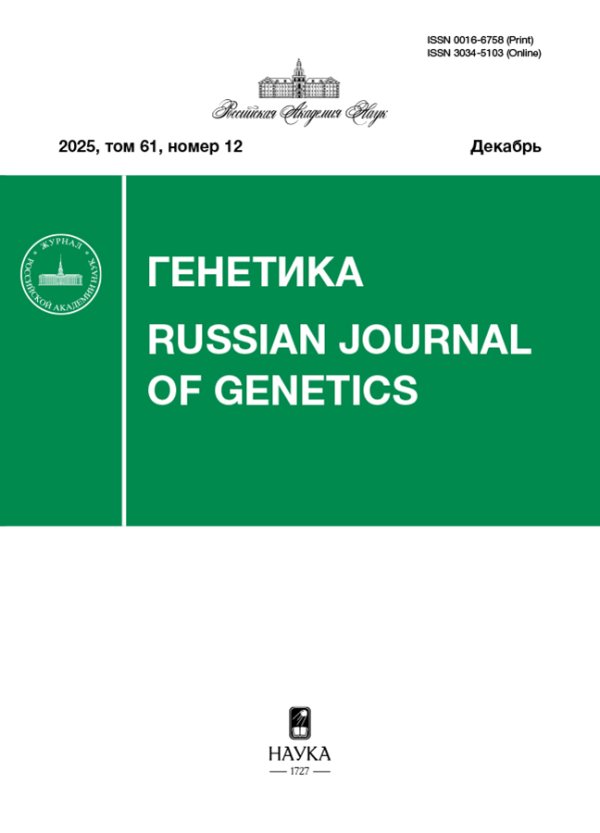Dynamics of the population structure of Belgorod Oblast. Malecot’s isolation by distance
- Authors: Sergeeva K.N.1, Sokorev S.N.1, Goncharova Y.I.1, Nevinnykh A.S.1, Batlutskaya I.V.1, Sorokina I.N.1
-
Affiliations:
- Belgorod State National Research University
- Issue: Vol 60, No 9 (2024)
- Pages: 98-109
- Section: ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА
- URL: https://journal-vniispk.ru/0016-6758/article/view/272556
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0016675824090117
- EDN: https://elibrary.ru/adjylz
- ID: 272556
Cite item
Full Text
Abstract
The article presents the results of assessing the dynamics of parameters of the Maleko distance model of isolation among the population of the Belgorod region from 1978–1980 for 2016–2018. When compared with data for 1890–1910 and 1951–1953 on average for the region an increase in the root-mean-square distances between the places of birth of spouses was established, taking into account long-distance migrations (6.9 times) and without them (13.3 times), effective migration pressure (1.5 times) and a decrease in the coefficient of linear systematic pressure (11 times), the effective population size (1.3 times). The level of local inbreeding decreased significantly among the urban population and remained unchanged among the rural population. The most pronounced changes in the parameters of the isolation model by Malekot’s distance occurred in the middle – second half of the twentieth century. The differences in most indicators of the model of isolation by the Malekot’s distance between city and village, maximally expressed at the end of the 19th century, decreased over the course of generations and were practically leveled out by 2016–2018.
Full Text
Изучение популяционно-генетических особенностей различных групп народонаселения проводится с использованием различных моделей, одной из которых является модель изоляции расстоянием Малеко [1–3]. Данная модель учитывает влияние географических расстояний на генетическое разнообразие популяций и позволяет оценивать уровень генетической дифференциации населения, определять факторы, оказывающие влияние на генетические особенности популяции [3]. Модель изоляции расстоянием Малеко успешно применяется с конца ХХ в. во многих популяционных исследованиях различных этно-территориальных групп населения [3–15].
Настоящее сообщение продолжает серию работ [16, 17], посвященных изучению динамики ряда популяционно-демографических показателей среди населения юга Центральной России, и является продолжением исследования динамики параметров модели изоляции расстоянием Малеко [17] среди населения Белгородской области за период с 1951 г. по 2018 г.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект настоящего исследования – население районных популяций Белгородской области (Белгородский, Старооскольский, Новооскольский, Корочанский, Грайворонский, Валуйский, Алексеевский, Красногвардейский районы). Детальные характеристики изучаемых районов и критерии их включения изложены в ранее представленных работах [16, 17]. Исследование проводилось за три временных периода: 1978–1980 гг., 1991–1993 гг. и 2016–2018 гг.
Материалом служили данные актов гражданского состояния областного архива ЗАГС за 1978–1980 гг. (10991 записей), 1991–1993 гг. (4508 записей) и 2016–2018 гг. (5467 записей) суммарным объемом 20966 расстояний между местами рождения супругов. Методические особенности расчетов параметров изоляции расстоянием Малеко представлены в предыдущих работах [14, 17]. Анализ проводился на уровне районов [18]. Для оценки тенденций динамики показателей модели изоляции расстоянием Малеко использовались данные по пяти временным периодам: 1890–1910 гг., 1951–1953 гг., 1978–1980 гг., 1991–1993 гг. и 2016–2018 гг. (первые два периода рассмотрены ранее [17]). Таким образом, динамика параметров изоляции нами была рассмотрена за 130-летний период (с 1890 по 2018 г.).
С целью оценки взаимосвязи между параметрами изоляции расстоянием Малеко и другими изучаемыми популяционно-демографическими показателями (доли браков, заключаемых между выходцами из разных областей, из одной области, из одного района, из одного села (эти показатели были представлены ранее [16])) проводился корреляционный анализ (рассчитывали ранговый коэффициент корреляции Спирмена) по пяти временным периодам (первые два периода рассмотрены ранее [17]).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Параметры модели изоляции расстоянием Малеко среди населения юга Центральной России
- 1978–1980 гг. В 1978–1980 гг. выявлена значительная вариабельность большинства показателей модели изоляции расстоянием Малеко по районам Белгородской области (табл. 1). Максимальная изменчивость установлена для эффективного размера популяции (9.8 раз, от 10156 до 99219), локального инбридинга (9 раз, от 0.00003 до 0.00027), коэффициента линейного систематического давления (4.8 раза, от 0.000152 до 0.00722) и среднеквадратических расстояний между местами рождения супругов без учета дальних миграций (4.7 раза, от 58.3 км до 274.42 км). Значение локального инбридинга в среднем по области составляло 0.00012. Минимальные значения данного показателя характерны для районов с максимальным эффективным размером популяции, в составе которых находится крупный город, – это Белгородский (0.00003), Старооскольский (0.00005), Алексеевский (0.00007), Валуйский (0.00009) районы. Максимальные значения локального инбридинга отмечались в Грайворонском районе (0.00027), испытывавшем низкое давление миграций (0.092) при минимальном эффективном размере популяции (Ne = 10156).
Таблица 1. Параметры модели изоляции расстоянием Малеко среди населения Белгородской области в 1978–1980 гг.
Районы | N | s | σ' | m | k | Me | Ne | a | b |
Белгородский | 3385 | 294.30 | 256.24 | 0.013 | 0.371 | 0.098 | 99219 | 0.00003 | 0.00173 |
город | 2342 | 296.68 | 257.40 | 0.013 | 0.387 | 0.101 | 79372 | 0.00003 | 0.00175 |
село | 1043 | 288.90 | 257.54 | 0.011 | 0.335 | 0.085 | 19847 | 0.00015 | 0.00160 |
Старооскольский | 2236 | 310.77 | 274.42 | 0.013 | 0.301 | 0.087 | 54186 | 0.00005 | 0.00152 |
город | 1266 | 351.28 | 350.16 | 0.000 | 0.355 | 0.017 | 38677 | 0.00039 | 0.00052 |
село | 970 | 248.12 | 171.40 | 0.023 | 0.242 | 0.107 | 15509 | 0.00015 | 0.00270 |
Новооскольский | 872 | 254.31 | 189.65 | 0.020 | 0.272 | 0.106 | 16480 | 0.00014 | 0.00243 |
Корочанский | 863 | 210.38 | 137.74 | 0.023 | 0.301 | 0.119 | 15050 | 0.00014 | 0.00354 |
Грайворонский | 497 | 274.14 | 224.01 | 0.015 | 0.274 | 0.092 | 10156 | 0.00027 | 0.00192 |
Валуйский | 1249 | 242.16 | 180.81 | 0.019 | 0.285 | 0.106 | 74985 | 0.00009 | 0.00255 |
Красногвардейский | 1042 | 142.46 | 58.30 | 0.019 | 0.195 | 0.089 | 18268 | 0.00015 | 0.00722 |
Алексеевский | 847 | 218.82 | 138.62 | 0.023 | 0.292 | 0.118 | 29234 | 0.00007 | 0.00351 |
В среднем по области | 1374 | 243.42 | 182.48 | 0.018 | 0.286 | 0.102 | 39697 | 0.00012 | 0.00305 |
город | 1804 | 323.98 | 303.78 | 0.007 | 0.371 | 0.059 | 59025 | 0.00021 | 0.00114 |
село | 1007 | 268.51 | 214.47 | 0.017 | 0.288 | 0.096 | 17678 | 0.00015 | 0.00215 |
Примечание для табл. 1–3. σ – среднеквадратическое расстояние между местами рождения супругов с учетом дальних миграций; σ’ – среднеквадратическое расстояние между местами рождения супругов без учета дальних миграций; m – половина доли дальних миграций; k – половина доли промежуточных миграций; Me – эффективное давление миграций; Ne – эффективный размер популяции; а – локальный инбридинг; b – коэффициент линейного систематического давления.
Анализ городского и сельского населения Белгородской обл. показал, что в городе в среднем выше эффективный размер популяции (в 3.3 раза), среднеквадратические расстояния между местами рождения супругов с учетом дальних миграций (в 1.2 раза) и без них (в 1.4 раза). Низкое значение локального инбридинга (0.00021) обусловлено тем, что эффективный размер популяции в городе в среднем в 3.34 раза выше, а коэффициент линейного систематического давления и эффективное давление миграций ниже (в 1.9 и 1.6 раза соответственно), чем в сельской местности (табл. 1).
- 1991–1993 гг. В 1991–1993 гг. значительная вариабельность установлена по показателю локального инбридинга (16 раз, от 0.00002 до 0.00029) и эффективного размера популяции (14.4 раза, от 8851 до 127708) (табл. 2). Несколько меньшая изменчивость отмечалась для коэффициента линейного систематического давления (1.8 раза, от 0.00191 до 0.00352), среднеквадратических расстояний между местами рождения супругов без учета дальних миграций (1.7 раз, от 135.44 км до 230.34 км) и половины доли дальних миграций (1.6 раз, от 0.017 до 0.027).
Таблица 2. Параметры модели изоляции расстоянием Малеко среди населения Белгородской области в 1991–1993 гг.
Районы | N | s | σ' | m | k | Me | Ne | a | b |
Белгородский | 1185 | 263.79 | 200.00 | 0.019 | 0.310 | 0.111 | 127708 | 0.00002 | 0.00236 |
город | 957 | 256.18 | 189.80 | 0.019 | 0.312 | 0.116 | 103831 | 0.00002 | 0.00249 |
село | 228 | 293.59 | 248.76 | 0.015 | 0.320 | 0.100 | 23877 | 0.00010 | 0.00180 |
Старооскольский | 677 | 272.05 | 218.87 | 0.017 | 0.305 | 0.103 | 72361 | 0.00003 | 0.00208 |
город | 380 | 302.70 | 268.41 | 0.012 | 0.379 | 0.095 | 61333 | 0.00004 | 0.00163 |
село | 297 | 226.87 | 153.71 | 0.020 | 0.222 | 0.097 | 11027 | 0.00023 | 0.00286 |
Новооскольский | 312 | 239.98 | 149.16 | 0.027 | 0.267 | 0.124 | 15605 | 0.00013 | 0.00334 |
Корочанский | 362 | 287.83 | 204.43 | 0.025 | 0.262 | 0.117 | 13266 | 0.00016 | 0.00237 |
Грайворонский | 235 | 293.99 | 230.34 | 0.019 | 0.236 | 0.097 | 8851 | 0.00029 | 0.00191 |
Валуйский | 675 | 258.13 | 187.66 | 0.021 | 0.267 | 0.109 | 23958 | 0.00010 | 0.00249 |
Красногвардейский | 489 | 217.88 | 135.44 | 0.024 | 0.262 | 0.113 | 15561 | 0.00014 | 0.00352 |
Алексеевский | 573 | 259.73 | 179.48 | 0.023 | 0.246 | 0.108 | 21809 | 0.00011 | 0.00259 |
В среднем по области | 564 | 261.67 | 188.17 | 0.022 | 0.269 | 0.110 | 37390 | 0.00012 | 0.00258 |
город | 669 | 279.44 | 229.10 | 0.016 | 0.346 | 0.104 | 82582 | 0.00003 | 0.00206 |
село | 263 | 260.23 | 201.23 | 0.018 | 0.271 | 0.099 | 17452 | 0.00017 | 0.00233 |
Значения коэффициента локального инбридинга были минимальны (0.00002–0.00003) в районах с максимальным эффективным размером популяции, в состав которых входил крупный город, – в Белгородском, Старооскольском районах. Максимальные значения локального инбридинга (0.00029) отмечались в Грайворонском районе, испытывавшем наименьшее давление миграций (0.097) при минимальном эффективном размере популяции (8851) (табл. 2).
В городских популяциях в среднем эффективный размер популяции был выше в 4.7 раза, а уровень локального инбридинга ниже в 5 раз по сравнению с сельским населением (табл. 2).
- 2016–2018 гг. В 2016–2018 гг. максимальная вариабельность установлена для эффективного размера популяции (17.2 раза, от 9905 до 170230) и локального инбридинга (17.2 раза, от 0.00001 до 0.00024) (табл. 3). Несколько меньшая изменчивость отмечалась для коэффициента линейного систематического давления (2 раза, от 0.00216 до 0.00427), среднеквадратических расстояний между местами рождения супругов с учетом дальних миграций (1.5 раза, от 207.55 км до 311.00 км) и без них (1.8 раза, от 115.64 км до 211.01 км).
Таблица 3. Параметры модели изоляции расстоянием Малеко среди населения Белгородской области в 2016–2018 гг.
Районы | N | s | σ' | m | k | Me | Ne | a | b |
Белгородский | 1128 | 262.31 | 210.31 | 0.017 | 0.301 | 0.103 | 170 230 | 0.00001 | 0.00216 |
город | 568 | 260.20 | 211.13 | 0.017 | 0.298 | 0.101 | 130 518 | 0.00002 | 0.00213 |
село | 560 | 264.43 | 209.53 | 0.019 | 0.303 | 0.105 | 39 712 | 0.00006 | 0.00219 |
Старооскольский | 1187 | 252.65 | 185.86 | 0.019 | 0.228 | 0.096 | 86 841 | 0.00003 | 0.00236 |
Новооскольский | 413 | 311.00 | 211.01 | 0.023 | 0.276 | 0.115 | 13 733 | 0.00016 | 0.00227 |
Корочанский | 360 | 273.81 | 207.99 | 0.019 | 0.281 | 0.106 | 13 193 | 0.00018 | 0.00222 |
Грайворонский | 333 | 266.07 | 195.41 | 0.021 | 0.251 | 0.105 | 9 905 | 0.00024 | 0.00234 |
Валуйский | 812 | 272.31 | 193.00 | 0.023 | 0.323 | 0.125 | 22 029 | 0.00009 | 0.00259 |
Красногвардейский | 514 | 207.55 | 131.82 | 0.021 | 0.321 | 0.119 | 12 250 | 0.00017 | 0.00370 |
Алексеевский | 720 | 209.58 | 115.64 | 0.024 | 0.303 | 0.122 | 20 457 | 0.00010 | 0.00427 |
В среднем по области | 683 | 256.91 | 181.38 | 0.021 | 0.285 | 0.111 | 43580 | 0.00012 | 0.00274 |
Минимальные значения локального инбридинга наблюдались в районах (Белгородский (0.00001) и Старооскольский (0.00003)), характеризующихся высоким уровнем урбанизации и отличающихся максимальным эффективным размером популяции. Максимальное значение данного показателя (0.00024) установлено в Грайворонском районе, испытывавшем низкое давление миграций (0.0105) при минимальном эффективном размере популяции (9905) (табл. 3).
Анализ параметров модели изоляции расстоянием Малеко, проведенный для жителей г. Белгорода и сельского населения Белгородского района, показал, что, несмотря на примерно одинаковую миграционную нагрузку, значение локального инбридинга в городе (0.00002) в 3 раза ниже, а эффективный размер популяции (Ne = 130518) в 3.3 раза выше, чем среди жителей села. По другим показателям модели изоляции расстоянием Малеко значимых отличий не выявлено (табл. 3).
Тенденции динамики основных показателей модели изоляции расстоянием Малеко среди населения юга Центральной России
На завершающем этапе работы был проведен анализ направлений динамики основных показателей модели изоляции расстоянием Малеко с 1890–1910 гг. по 2016–2018 гг. в разрезе пяти временных периодов (первые два периода изучены нами ранее [17]). Были выявлены следующие разнонаправленные тенденции.
Во-первых, по региону в среднем значительно увеличились среднеквадратические расстояния между местами рождения супругов с учетом дальних миграций (в 6.9 раза, от 37.40 км до 256.91 км) и без них (в 13.3 раза, от 13,62 км до 181,38 км) с максимальной динамикой в период с 1890–1910 гг. до 1978–1980 гг. За 130-летний период произошло снижение коэффициента линейного систематического давления (в 11 раз) и увеличение доли дальних миграций (в 1.6 раз), промежуточных миграций (в 1.4 раза), эффективного давления миграций (в 1.5 раза). Эффективный размер популяции за 130 лет уменьшился (в 1.3 раза) при максимально резком снижении данного показателя (в 3.6 раза) с конца ХIХ в. к 1951–1953 гг. и постепенном росте в последующих поколениях. При этом за исследуемый 130-летний период в 2 раза увеличились значения локального инбридинга, и динамика данного показателя была диаметрально противоположна изменениям коэффициента линейного систематического давления.
Следует отметить, что значимые изменения параметров модели изоляции расстоянием Малеко приходились на середину ХХ в. (1951–1953 гг.) и последующее поколение, о чем свидетельствуют резкие изменения на графиках – рост одних показателей и уменьшение других.
Во-вторых, за 130-летний период среди городского и сельского населения юга Центральной России по большинству показателей изоляции расстоянием Малеко отмечались однонаправленные тенденции изменчивости: увеличение среднеквадратических расстояний между местами рождения супругов с учетом дальних миграций и без них, эффективного давления миграций, уменьшение коэффициента линейного систематического давления (рис. 1–5). При этом среди сельского населения наблюдалась более выраженная динамика по среднеквадратическим расстояниям между местами рождения супругов с учетом дальних миграций (9.6 раз) и без них (22 раза) (рис. 1), коэффициенту линейного систематического давления (19.3 раза) (рис. 2) по сравнению с городским населением (4.9, 8.4 и 10 раз соответственно).
Рис. 1. Динамика среднеквадратических расстояний между местами рождения супругов с учетом дальних миграций (σ) и без учета дальних миграций (σ’) среди городского и сельского населения.
Рис. 2. Динамика коэффициента линейного систематического давления (b) среди городского и сельского населения.
Рис. 3. Динамика эффективного давления миграций (Me) среди городского и сельского населения.
Рис. 4. Динамика эффективного размера популяции (Ne) среди городского и сельского населения.
Рис. 5. Динамика локального инбридинга (а) среди городского и сельского населения.
Динамика показателя эффективного размера популяции среди городского и сельского населения была разнонаправлена (рис. 4). В городской части популяции за 130 лет значения эффективного размера популяции увеличились в 33.6 раза, а в сельской части уменьшились в 1.3 раза (рис. 4).
Реверсивной динамикой характеризовался уровень локального инбридинга. Так, если в 1890–1910 гг. значение локального инбридинга в городе было в 19.5 раз выше, чем в селе, то к 2016–2018 гг. показатель локального инбридинга стал в 3 раза выше в селе по сравнению с городом. При этом для городской части популяции наблюдалось стабильно выраженное снижение данного показателя (в 78 раз) в течение всего периода, тогда как в сельской части наблюдалась вариабельность по пяти периодам при уменьшении за 130 лет лишь в 1.3 раза (рис. 5).
Важно подчеркнуть, что за 130-летний период различия по подавляющему большинству показателей модели изоляции расстоянием Малеко между городом и селом, максимально выраженные в конце ХIХ в., уменьшались в ряду поколений и практически нивелировались к 2016–2018 гг. (за исключением эффективного размера популяции и локального инбридинга) (рис. 1–5).
В-третьих, анализ корреляционных взаимосвязей между параметрами изоляции расстоянием Малеко и брачно-миграционными характеристиками населения (представлены ранее в работе [16]) за пять временных периодов (первые два периода рассмотрены ранее [17]) (табл. 4) показал, что с увеличением доли браков, заключаемых между выходцами из разных областей, и уменьшением доли браков, заключаемых в пределах области и района, увеличивались среднеквадратические расстояния между местами рождения супругов с учетом дальних миграций и снижался коэффициент линейного систематического давления. Данная тенденция и направленность корреляционных взаимосвязей просматривались среди городского населения и отсутствовали среди сельского.
Таблица 4. Значимые коэффициенты корреляции Спирмена между параметрами модели изоляции расстоянием и брачными миграциями в Белгородской области по пяти периодам
Изучаемые показатели | Доля выходцев из разных областей | Доля выходцев из одной области | Доля выходцев из одного района |
Среднеквадратические расстояния между местами рождения супругов (s) | 0.90 (p = 0.037) | –0.90 (p = 0.037) | –0.90 (p = 0.037) |
Коэффициент линейного систематического давления (b) | –0.90 (p = 0.037) | 0.90 (p = 0.037) | 0.90 (p = 0.037) |
ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ параметров модели изоляции расстоянием Малеко показал изменения в белгородской популяции (более выраженно среди городского населения) уровня локального инбридинга. При этом за 130-летний период эффективный размер популяции в Белгородской области уменьшился (в 1.3 раза) при максимально резком снижении данного показателя (в 2.9 раза) с конца ХIХ в. к 1951–1953 гг. [17] и постепенном его росте в последующих поколениях до 1991–1993 гг. Причины данных изменений описаны нами в предыдущем сообщении [17] и связаны с административно-территориальными преобразованиями уездов в районы, границы которых значительно уменьшились с конца ХIХ в. к началу ХХI в.
В современных границах Белгородская область была образована в послевоенный период – в 1954 г. Численность области и эффективный размер популяции начали постепенно увеличиваться, о чем подробно было описано нами ранее [16]. Об увеличении миграционного притока свидетельствует рост таких показателей, как среднеквадратические расстояния между местами рождения супругов с учетом дальних миграций (в 6.9 раза, от 37.40 км до 256.91 км) и без них (в 13.3 раза, от 13.62 км до 181.38 км), с максимальной динамикой в период с 1890–1910 до 1978–1980 гг. Это свидетельствует о значительном расширении круга брачных миграций.
За изучаемый нами период времени произошло увеличение эффективного давления миграций (в 1.5 раза), доли дальних миграций (в 1.6 раза) (наиболее значимо это происходило с 1951–1953 по 1978–1980 гг.). Также зарегистрировано выраженное уменьшение (в 11 раз) коэффициента линейного систематического давления (с максимальной динамикой с 1890–1910 гг. по 1978–1980 гг.). При этом за последние два поколения (с 1978–1980 гг. по 2016–2018 гг.) вышеуказанные показатели изменялись незначительно.
Ранее Л.А. Атраментовой при изучении пространственной характеристики брачных миграций в белгородской популяции за 1960 г., 1985 г. и 1995 г. было установлено увеличение брачных расстояний с 590 км до 891 км и снижение показателя b от 0.00110 до 0.00062 за исследуемый период, что свидетельствовало о “повышении генетической эффективности миграции” [19].
Следует отметить, что направленность динамики большинства показателей параметров модели Малеко по Белгородской области за 130 лет демонстрирует сходную с московской популяцией тенденцию, наблюдаемую примерно в том же временном интервале (1892–1918 гг., 1955 г., 1980 г., 1994–1995 гг.), за исключением масштабов изменений [9, 13, 20–22]. Так, степень изоляции расстоянием в Москве в середине ХХ в. по сравнению с его началом уменьшилась вдвое, а к концу века – втрое, при этом изменчивость величины эффективного давления миграций была минимальна на протяжении 100 лет, а в 1994-1995 гг. снизилась. Следует отметить, что в белгородской популяции также отмечалась минимальная динамика показателя эффективного давления миграций, но в отличие от московской, эффективное давление миграций увеличивалось на протяжении 130 лет (в среднем в 1.3 раза). Доли «ближних» миграций и «дальних» миграций увеличились как в московской [11, 13], так и в белгородской популяции (наши данные).
Аналогичная тенденция параметров модели изоляции расстоянием Малеко, что и в Москве, наблюдалась в Донецке (1960, 1985, 1992 гг.) [23], Харькове (1960, 1985, 1993 гг.) [24], Полтаве (1960, 1985, 1995 гг.) [25], где более чем за 30 лет увеличились “дальние” и “ближние” миграции и уменьшились степень изоляции расстоянием и величина эффективного давления миграций [13, 23–25].
Следует отметить, что динамика основных параметров изоляции расстоянием Малеко различалась среди городского и сельского населения Белгородского региона. Так, с конца ХIХ в. до начала ХХI в. эффективный размер популяции среди городского населения увеличился (рис. 4), а уровень локального инбридинга уменьшился по сравнению с сельским населением (рис. 5). Стабильный рост эффективного размера городов наблюдался с 1951–1953 гг. последующие три поколения до 2016–2018 гг. (за счет возникновения новых молодых городов в области). Эффективный размер сельского населения практически не изменился в этот временной промежуток и лишь незначительно увеличился за последнее поколение. При этом за 130-летний период различия по большинству показателей модели изоляции расстоянием Малеко между городом и селом, максимально выраженные в конце ХIХ в., уменьшались в ряду поколений и практически нивелировались к 2016–2018 гг. (за исключением эффективного размера популяции и локального инбридинга).
Полученные нами результаты динамики показателей модели изоляции расстоянием Малеко в Белгородском регионе согласуются с данными по соседней Курской области [10, 26], где ранее был проведен анализ динамики показателей Малеко за 30-летний период (1960–1963, 1987–1990 гг.). Коэффициент локального инбридинга по районам Курской области изменялся в пределах от 0.00005 в Железногорском районе до 0.00043 в Поныровском районе, тогда как в соседней Белгородской области (наши данные) в среднем он равнялся 0.00012 (в 1991–1993 гг.). Как и в Белгородском регионе, районы Курской области, имеющие в своем составе города, характеризовались минимальным уровнем инбридинга (а = 0.00005–0.000087). Однако в городах Белгородской области (наши данные) он был еще ниже (в среднем 0.00003 в 1991–1993 гг.). В большинстве популяций Курской области было установлено уменьшение коэффициента линейного систематического давления за 30-летний период, что согласуется с нашими данными по Белгородскому региону. Динамика локального инбридинга в Курском регионе (так же как и в Белгородском регионе) в основном определялась изменением эффективного размера популяции. За 30-летний период наблюдалось увеличение эффективной численности населения в городах (г. Курск и г. Льгов) и в целом в Железногорском и Курчатовском районах (за счет возникших молодых городов) и ее уменьшение в сельских популяциях. За период с 1960–1963 гг. по 1987–1990 гг. было установлено увеличение среднего расстояния между местами рождения супругов среди сельского населения и снижение данных показателей среди городских жителей. В исследовании отмечалось, что за последнее поколение различия в радиусе брачных миграций между городским и сельским населением области уменьшились. В отличие от Белгородской области уровень локального родства и коэффициент линейного систематического давления во всех рассмотренных популяциях среди сельского и городского населения, кроме Железногорского района, были одинаковы [10, 26].
Следует отметить, что значения локального инбридинга среди населения Белгородской области не выбиваются из ряда таковых значений по другим русским популяциям и значительно отличаются от аналогичных показателей изолированных и “нативных” популяций [11–13, 27]. Так, например, наши данные согласуются с результатами ранее проведенных исследований среди русского населения Костромской области (в Шарьинском р-не а = 0.000161, в Буйском р-не а = 0.000161) [28], Кировской области (а = 0.000106–0.001495) [29, 30], Архангельской области (в Виноградском р-не а = 0.000565, в Красноборском р-не а = 0.000472) [31], но ниже, чем в Тверской области (в Осташковском р-не а = 0.00110, в Удомельском р-не а = 0.0045) [32], в Семипалатинской области (Абайский р-н, а = 0.0003) [33]. Российским сельским популяциям соответствовал локальный инбридинг удмуртов, который изменялся от 0.00027 в Игринском районе до 0.00065 – в Дебесском (в среднем а = 0.00035) [34, 35], черкесов (а = 0.00034) (усредненное значение для карачаевцев на конец ХХ в. а = 0.00029) [36].
Несколько отличные от вышеперечисленных русских популяций значения локального инбридинга установлены для народов Кавказа и Поволжья: Адыгейская автономная область Краснодарского края (а = 0.00397) [11], Республика Чувашия (в городе а = 0.000189, в районе а = 0.000318) [12], Республика Северная Осетия – Алания (кумыки Моздокского р-на, а = 0.00067) [36, 37], Карачаево-Черкесская Республика (а = 0.00007–0.00304, для аулов черкесов – 0.0017– 0.0047 и от 0.001 до 0.003 – для абазинских аулов) [27, 38–40], а также для Татарстана (а = 0.0001–0.0008, для татар а = 0.00170–0.00291) [41] и Башкортостана (башкир шести сельских р-нов а = 0.00012–0.00074) [42].
Следует отметить, что многочисленными исследованиями показано важное медико-генетическое значение параметров изоляции популяций (локального инбридинга, миграций и др.), которые влияют на распространенность как моногенной наследственной патологии, так и других наследственно-детерминированных заболеваний среди населения [22, 27–29, 31–33, 35, 43]. В связи с этим данные показатели необходимо учитывать при планировании популяционно-генетических и медико-генетических исследований [44–51].
Работа выполнена без финансирования на личные средства.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с использованием в качестве объекта животных.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием в качестве объекта людей.
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
K. N. Sergeeva
Belgorod State National Research University
Author for correspondence.
Email: Sorokina_5@mail.ru
Russian Federation, Belgorod, 308015
S. N. Sokorev
Belgorod State National Research University
Email: Sorokina_5@mail.ru
Russian Federation, Belgorod, 308015
Y. I. Goncharova
Belgorod State National Research University
Email: Sorokina_5@mail.ru
Russian Federation, Belgorod, 308015
A. S. Nevinnykh
Belgorod State National Research University
Email: Sorokina_5@mail.ru
Russian Federation, Belgorod, 308015
I. V. Batlutskaya
Belgorod State National Research University
Email: Sorokina_5@mail.ru
Russian Federation, Belgorod, 308015
I. N. Sorokina
Belgorod State National Research University
Email: Sorokina_5@mail.ru
Russian Federation, Belgorod, 308015
References
- Malecot G. Isolation by distance // Genetic Structure of Population / Ed. Morton N.E. Honolulu: Univ. Hawaii Press, 1973. P. 72–75.
- Morton N.E. Isolation by distance in human populations // Ann. Hum. Genet. 1977. V. 40. № 3. Р. 361–365. doi: 10.1111/j.1469-1809.1977.tb00200.x
- Ельчинова Г.И. Метрика, построенная через параметры изоляции расстоянием Малеко, как характеристика генетического сходства популяций // Генетика. 2000. Т. 36. № 6. С. 856–858. (El’chinova G.I.A Metric based on Malecot’s parameters of isolation by distance as a characteristic of genetic similarity between populations // Rus. J. Genetics. 2000. V. 36. № 6. P. 706–707.)
- Hardy O., Vekemans X. Isolation by distance in a continuous population: Reconciliation between spatial autocorrelation analysis and population genetics models // Heredity. 1999. V. 83. Р. 145–154. doi: 10.1046/j.1365-2540.1999.00558.x
- Santos C., Abade A., Lima M. Testing hierarchical levels of population sub-structuring: the Azores islands (Portugal) as a case study // J. Biosoc. Sci. 2008. V. 40(4). Р. 607–621.
- Ringbauer H., Kolesnikov A., Field D.L., Barton N.H. Estimating Barriers to gene flow from distorted isolation-by-distance patterns // Genetics. 2018. V. 208(3). Р. 1231–1245.
- McLean S.A. Isolation by distance and the problem of the twenty-first century // Hum. Biol. 2021. V. 92(3). Р. 167–179.
- Ельчинова Г.И., Парадеева Г.М., Ревазов А.А. и др. Медико-генетическое изучение населения Костромской области. Сообщение VI. Параметры изоляции расстоянием в популяциях Буйского и Шарьинского районов Костромской области // Генетика. 1988. Т. 24. № 7. С. 1276–1281.
- Победоносцева Е.Ю., Свежинский Е.А., Курбатова О.Л. Генетико-демографические процессы в московской популяции в середине 90-х годов. Анализ этногеографических параметров миграции: изоляция расстоянием // Генетика. 1998. Т. 34. № 3. С. 332–339. (Pobedonostseva E.Yu., Svezhinskii E.A., Kurbatova O.L. Genetic demography of the Moscow population in the mid-1990s: analysis of ethnogeographic migration parameters (isolation by distance) // Rus. J. Genetics. 1998. V. 34. № 3. P. 423–430.)
- Иванов В.П., Чурносов М.И., Кириленко А.И. Популяционно-демографическая структура населения Курской области. Изоляция расстоянием // Генетика. 1997. Т. 33. № 3. С. 381–386. (Ivanov V.P., Churnosov M.I., Kirilenko A.I. Population demographic structure in Krupskaya oblast: isolation by distance // Rus. J. Genetics. 1997. V. 33. № 3. P. 306-310.
- Кадошникова М.Ю., Голубцова В.И., Ельчинова Г.И. и др. Брачно-миграционная структура и коэффициент инбридинга в Адыгейской популяции // Генетика. 1991. Т. 27. № 2. С. 327–334.
- Ельчинова Г.И., Рощина Ю.В., Зинченко Р.А. и др. Популяционно-генетическое исследование Алатырского района Республики Чувашия // Генетика. 2002. Т. 38. № 2. С. 251–258. (El’chinova G.I., Roshchina Yu.V., Zinchenko R.A., et al. Population genetic study of the Alatyr’ raion of the republic of Chuvashia // Rus. J. Genetics. 2002. V. 38. № 2. P. 188–195.) doi: 10.1023/A:1014338212050
- Динамика популяционных генофондов при антропогенных воздействиях / Под ред. Алтухова Ю.П. М.: Наука, 2004. 619 с.
- Сорокина И.Н., Балановская Е.В., Чурносов М.И. Генофонд населения Белгородской области. Параметры модели изоляции расстоянием Малеко // Генетика. 2009. Т. 45. № 3. С. 383–389. (Sorokina I.N., Churnosov M.I., Balanovska E.V. The gene pool of the Belgorod oblast population: Malecot’s isolation-by-distance parameters // Rus. J. Genetics. 2009. V. 45. № 3. P. 335–340.) doi: 10.1134/S1022795409030120
- Сорокина И.Н., Чурносов М.И., Балановская Е.В. Генофонд населения Белгородской области. Динамика генетических соотношений популяций за последние 50 лет // Генетика. 2009. Т. 45. № 4. С. 555–563. (Sorokina I.N., Churnosov M.I., Balanovska E.V. The gene pool of the Belgorod oblast population: changes in population genetic relationships during the past 50 years // Rus. J. Genetics. 2009. V. 45. № 4. P. 486–494.) doi: 10.1134/S1022795409040140
- Сергеева К.Н., Сокорев С.Н., Батлуцкая И.В., Сорокина И.Н. Динамика популяционной структуры населения юга Центральной России за 130-летний период. Миграционные процессы // Генетика. 2024. Т. 60. № 8. С. 100–117.
- Сергеева К.Н., Сокорев С.Н., Гончарова Ю.И. и др. Изменение популяционной структуры населения Курской и Воронежской губерний в первой половине ХХ века. Изоляция расстоянием Малеко // Генетика. 2024. Т. 60. № 9. С. 90–97.
- Сергеева К.Н., Сокорев С.Н., Ефремова О.А. и др. Анализ уровня эндогамии популяции как основа популяционно-генетических и медикo-гeнeтических исследований // Науч. результаты биомедицинских исследований. 2021. Т. 7. № 4. С. 375–387. doi: 10.18413/2658-6533-2021-7-4-0-4
- Атраментова Л.А., Филипцова О.В. Пространственные характеристики брачной миграции в Белгородской популяции // Генетика. 2005. Т. 41. № 5. С. 686–696. (Atramentova L.A., Filiptsova O.V. Spatial characteristics of marriage migration in the Belgorod population // Rus. J. Genetics. 2005. Т. 41. № 5. С. 553–562).
- Курбатова О.Л., Победоносцева Е.Ю., Веремейчик В.М. и др. Особенности генетико-демографических процессов в населении трех мегаполисов в связи с проблемой создания генетических баз данных // Генетика. 2013. Т. 49. № 4. С. 513–522. doi: 10.7868/S0016675813040085 (Kurbatova O.L., Pobedonostseva E.Y., Prudnikova A.S., et al. Genetic demography of populations of three megalopolises in relation to the problem of creating genetic databases // Rus. J. Genetics. 2013. V. 49. № 4. P. 448–456.) doi: 10.1134/S102279541304008X
- Свежинский Е.А., Курбатова О.Л. Опыт исторической реконструкции генетико-демографической структуры московской популяции на рубеже XIX-XX веков // Генетика. 1999. Т. 35. № 8. С. 1149–1159. (Svezhinsky E.A., Kurbatova O.L. An attempt at the historical reconstruction of the genetic demographic structure of the moscow populatior at the turn of the 20th century// Rus. J. Genetics. 1999. V. 35. № 8. P. 988–998.)
- Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. 431 с.
- Атраментова Л.А., Филипцова О.В., Мухин В.Н., Осипенко С.Ю. Генетико-демографические процессы в городских популяциях Украины в 90-х годах. Этногеографические характеристики миграции в донецкой популяции // Генетика. 2002. Т. 38. № 10. С. 1402–1408. (Atramentova L.A., Filiptsova O.V., Osipenko S.Yu., Mukhin V.N. Genetic demography of Ukrainian urban populations in the 1990s: ethnic geographic characteristics of migration in the Donetsk population // Rus. J. Genetics. 2002. V. 38. № 10. P. 1189–1195.) doi: 10.1023/A:1020609006063
- Атраментова Л.А., Филипцова О.В., Осипенко С.Ю. Генетико-демографические процессы в городских популяциях Украины в 90-х годах. Этнический состав миграционного потока харьковской популяции // Генетика. 2002. Т. 38. № 7. С. 972–979. (Atramentova L.A., Filiptsova O.V., Osipenko S.Yu. Genetic demography of Ukrainian urban populations in the 1990s: the ethnic composition of the migration flow in the Kharkov population // Rus. J. Genetics. 2002. V. 38. № 7. P. 816–823.) doi: 10.1023/A:1016399823573.
- Атраментова Л.А., Филипцова О.В., Осипенко С.Ю. Генетико-демографические процессы в городских популяциях Украины в 90-х годах. Национальность и место рождения мигрантов полтавской популяции // Генетика. 2002. Т. 38. № 9. С. 1276–1281. (Atramentova L.A., Filiptsova O.V., Osipenko S.Yu. Genetic demography of Ukrainian urban populations in the 1990s: ethnicity and birthplaces of migrants to the Poltava population // Rus. J. Genetics. 2002. V. 38. № 9. P. 1082–1087.) doi: 10.1023/A:1020200100784
- Иванов В.П., Чурносов М.И., Кириленко А.И. Популяционно-демографическая структура населения Курской области. Миграционные процессы // Генетика. 1997. Т. 33. № 3. С. 375–380. (Ivanov V.P., Churnosov M.I., Kirilenko A.I. Population demographic structure in Krupskaya oblast: migration // Rus. J. Genetics. 1997. V. 33. № 3. P. 300–305.)
- Зинченко Р.А., Ельчинова Г.И., Биканов Р.А. и др. Изучение роли основных факторов популяционной динамики в механизме дифференциации и в формировании разнообразия и отягощенности наследственной патологии в субпопуляциях Карачаево-Черкесской республики // Генетика. 2019. Т. 55. № 6. С. 694–700. doi: 10.1134/S0016675819060213. (Zinchenko R.A., El’chinova G.I., Bikanov R.A., et al. Study of the role of the main factors of population dynamics in the mechanism of differentiation and formation of diversity and genetic load of hereditary diseases in subpopulations of the karachay-cherkess republic // Rus. J. Genetics. 2019. V. 55. № 6. P. 738–743.) doi: 10.1134/S1022795419060206
- Ельчинова Г.И., Парадеева Г.М., Ревазов А.А. и др. Медико-генетическое изучение населения Костромской области. Сообщение VI. Параметры изоляции расстоянием в популяциях Буйского и Шарьинского районов Костромской области // Генетика. 1988. Т. 24. № 7. С. 1276–1281.
- Мамедова Р.А. Влияние генетического дрейфа на территориальное распределение груза, а также спектр наследственных болезней в популяциях Кировской области: Автореф. дисс….канд. мед. наук. М., 1993. 23 с.
- Ельчинова Г.И. Опыт применения методов популяционно-генетического анализа при изучении популяций России с различной генетико-демографической структурой: Автореф. дисс….докт. биол. наук. М., 2001. 48 с.
- Мамедова Р.А., Ельчинова Г.И., Старцева Е.И. и др. Генетическая структура и груз наследственных болезней в пяти популяциях Архангельской области // Генетика. 1996. Т. 32. № 6. С. 837–841. (Mamedova R.A., El’chinova G.I., Startseva E.A., et al. Genetic structure and the load of hereditary diseases in five populations of Arkhangel’skaya oblast // Rus. J. Genetics. 1996. V. 32. № 6. P. 729–733.)
- Зинченко Р.А., Ельчинова Г.И., Руденская Г.Е. и др. Комплексное популяционно- и медико-генетическое исследование населения двух районов Тверской области // Генетика. 2004. Т. 40. № 5. С. 667–676. doi: 10.1023/B:RUGE.0000029157.14539.10 (Zinchenko R.A., Elchinova G.I., Rudenskaia G.E., et al. Integrated population genetic and medical genetic study of two raions of the Tver oblast // Rus. J. Genetics. 2004. V. 40. № 5. P. 357–545.)
- Святова Г.С. Медико-генетическое последействие многолетних ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне: Автореф. дисс….докт. мед. наук. М., 2002. 48 с.
- Ельчинова Г.И., Осипова Е.В., Зинченко Р.А. и др. Брачно-миграционная характеристика городского и сельского населения Удмуртии // Генетика. 2006. Т. 42. № 4. С. 566–570. (El’chinova G.I., Zinchenko R.A., Gavrilina S.G., et al. Marriage-migration characteristics of the urban and rural populations of Udmurtia // Rus. J. Genetics. 2006. V. 42. № 4. P. 454–458.) doi: 10.1134/S1022795406040132
- Ельчинова Г.И., Осипова Е.В., Зинченко Р.А. Генетико-эпидемиологические исследования в Удмуртской республике: брачно-миграционные параметры городского и сельского населения // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. 2011. № 1. С. 45–50.
- Ельчинова Г.И., Макаов А.Х.-М., Ревазова Ю.А. и др. Брачно-миграционная характеристика черкесов (конец ХХ века) // Генетика. 2016. Т. 52. № 3. С. 385–388. doi: 10.7868/S0016675816030061. (El’chinova G.I., Gavrilina S.G., Rusakova A.V., et al.Marriage and migratory characteristic of circassians (late 20th century) // Rus. J. Genetics. 2016. V. 52. № 3. P. 339–341.) doi: 10.1134/S1022795416030066
- Ельчинова Г.И., Кадышев В.В., Зинченко Р.А. Изоляция расстоянием у северных осетин // Генетика. 2021. Т. 57. № 3. С. 358–360. doi: 10.31857/S0016675821030073 (El’chinova G.I., Kadyshev V.V., Zinchenko R.A. Isolation by distance in north ossetians // Rus. J. Genetics. 2021. V. 57. № 3. P. 371–373.) doi: 10.1134/S1022795421030078
- Ельчинова Г.И., Гетоева З.К., Кадышев В.В. и др. Популяционно-генетические параметры североосетинских кумыков // Мед. генетика. 2022. Т. 21 (5). С. 42–45. doi: 10.25557/2073-7998.2022.05.42-45.
- Ельчинова Г.И., Шакманов М.М., Ревазова Ю.А. и др. Брачно-миграционная характеристика карачаевцев // Генетика. 2015. Т. 51. № 8. С. 941–945. doi: 10.7868/S0016675815070036 (El’chinova G.I., Shakmanov M.M., Revazova Yu.A., et al Ethnic marriage assortativeness and intensity of metisation of Karachays // Rus. J. Genetics. 2015. V. 51. № 8. P. 807–811)
- Ельчинова Г.И., Ревазова Ю.А., Макаов А.Х.-М., Зинченко Р.А. Популяционно-генетическая характеристика ногайцев Карачаево-Черкесии (по данным о распределении фамилий и брачных миграциях) // Вестн. МГУ. Серия 23: Антропология. 2016. № 1. С. 109–115.
- Ельчинова Г.И., Симонов Ю.И., Вафина З.И., Зинченко Р.А. Эндогамия и изоляция расстоянием в населении Татарстана // Генетика. 2011. Т. 47. № 8. С. 1126–1130. (El’chinova G.I., Simonov Y.I., Zinchenko R.A., Vafina Z.I. Endogamy and isolation by distance in the Tatarstan population // Rus. J. Genetics. 2011. V. 47. № 8. P. 999–1003.) doi: 10.1134/S1022795411080059
- Ельчинова Г.И., Хидиятова И.М., Тереховская И.Г. и др. Брачно-миграционные параметры населения шести сельских районов Республики Башкортостан // Генетика. 2009. Т. 45. № 3. С. 412–419. (El’Chinova G.I., Terekhovskaya I.G., Zinchenko R.A., et al. Marriage migration parameters in six rural districts of Bashkortostan republic // Rus. J. Genetics. 2009. V. 45. № 3. P. 362–369.) doi: 10.1134/S1022795409030168
- Сорокина И.Н., Рудых Н.А., Безменова И.Н. и др. Популяционно-генетические характеристики и генетико-эпидемиологическое исследование ассоциаций генов-кандидатов с мультифакториальными заболеваниями // Науч. результаты биомед. исследований. 2018. Т. 4. № 4. С. 20–30. doi: 10.18413/2313-8955-2018-4-4-0-3
- Sirotina S., Ponomarenko I., Kharchenko A. et al. Novel polymorphism in the promoter of the CYP4A11 gene is associated with susceptibility to coronary artery disease // Dis. Markers. 2018. https://doi.org/10.1155/2018/5812802
- Пасенов К.Н. Особенности ассоциаций SHBG-связанных генов с раком молочной железы у женщин в зависимости от наличия наследственной отягощенности и мутаций в генах BRCA1/CHEK2 // Науч. результаты биомед. исследований. 2024. Т. 10. № 1. C. 69–88. doi: 10.18413/2658-6533-2024-10-1-0-4
- Polonikov A., Kharchenko A., Bykanova M. et al. Polymorphisms of CYP2C8, CYP2C9 and CYP2C19 and risk of coronary heart disease in Russian population // Gene. 2017. V. 627. P. 451–459. https://doi.org/10.1016/j.gene.2017.07.004
- Reshetnikov E., Ponomarenko I., Golovchenko O. et al. The VNTR polymorphism of the endothelial nitric oxide synthase gene and blood pressure in women at the end of pregnancy // Taiwan. J. Obstet. Gynecol. 2019. V. 58. P. 390–395. doi: 10.1016/j.tjog.2018.11.035.
- Tikunova E., Ovtcharova V., Reshetnikov E. et al. Genes of tumor necrosis factors and their receptors and the primary open angle glaucoma in the population of Central Russia // Int. J. Ophthalmol. 2017. V. 10. № 10. P. 1490–1494. doi: 10.18240/ijo.2017.10.02
- Кочетова О.В., Авзалетдинова Д.Ш., Корытина Г.Ф. и др. Анализ полиморфных вариантов генов рецепторов серотонина и гамма-аминомасляной кислоты у больных сахарным диабетом 2 типа // Науч. результаты биомед. исследований. 2023. Т. 9. № 3. С. 322–332. doi: 10.18413/2658-6533-2023-9-3-0-3
- Golovchenko I., Aizikovich B., Golovchenko O. et al. Sex hormone candidate gene polymorphisms are associated with endometriosis // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 8. № 23(22). doi: 10.3390/ijms232213691.
- Novakov V., Novakova O., Churnosova M. Intergenic interactions of SBNO1, NFAT5 and GLT8D1 determine the susceptibility to knee osteoarthritis among Europeans of Russia // Life. 2023. № 13. P. 405. doi.org/10.3390/life13020405.
Supplementary files