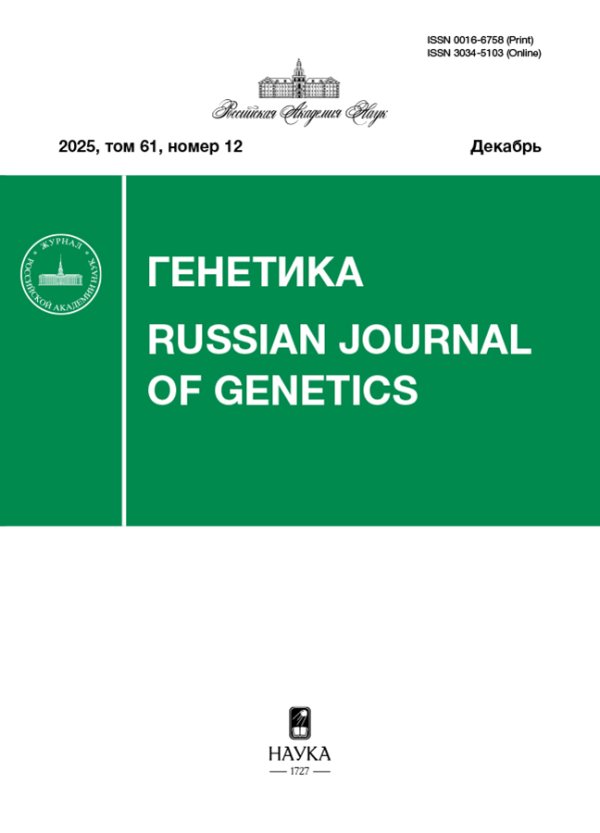Uneven Influx of European-Specific Alleles of SLC45A2, SLC24A5, TYRP1, DRD2, EDAR and OCA2 Genes into the Gene Pool of the Koryaks
- Authors: Malyarchuk B.A.1, Litvinov A.N.1
-
Affiliations:
- Institute of Biological Problems of the North, Far East. Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 60, No 10 (2024)
- Pages: 83-89
- Section: ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА
- URL: https://journal-vniispk.ru/0016-6758/article/view/273876
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0016675824100074
- EDN: https://elibrary.ru/wfaljp
- ID: 273876
Cite item
Full Text
Abstract
The distribution of alleles highly specific to Europeans in the Koryak gene pool, which formed as a result of intensive interethnic admixture in the Northern Priokhotie, characterized by the prevailing genetic contribution from males of Eastern European origin, was analyzed. The loci rs16891982 (SLC45A2 gene), rs1426654 (SLC24A5 gene), rs1408799 (TYRP1 gene), rs1076563 (DRD2 gene), rs3827760 (EDAR gene), and rs1448485 (OCA2 gene), which are mainly associated with the pigmentation system, were selected for analysis. High heterogeneity was found in the frequency of European-specific alleles, ranging from 1.4% for the variant rs1076563-C of the DRD2 gene to 14.7% for the variant rs1426654-A of the SLC24A5 gene. The reasons for the uneven influx of European-specific alleles into the Koryak gene pool are discussed. It is possible that the formation of genetic structure of modern Koryaks under intensive interethnic admixture was accompanied by the influence of natural selection on some parts of the genome.
Full Text
Коряки – коренные жители Северного Приохотья и Камчатки, которые в основном специализировались на морском зверобойном промысле (до 80% населения), проживают на побережье Охотского и Берингова морей [1]. Колыбелью коряков, по всей видимости, была Тауйская губа Охотского моря [2]. Согласно археологическим данным, на Охотском побережье обнаружены многочисленные древние поселения морских охотников – представителей токаревской и древнекорякской культур (возрастом примерно от трех тысяч лет до нескольких веков назад), которых принято считать предками коряков [2, 3]. До середины XVIII в. коряки активно сопротивлялись продвижению русских первопроходцев, а после примирения подверглись мощной ассимиляции со стороны пришлого русского населения [2]. Оседлые коряки в основном обрусели и растворились в новом этническом сообществе – охотских камчадалах. Лишь коряки-оленеводы глубинных территорий, вероятнее всего, сохранили свою культуру и генетическое своеобразие. В советское время, как и раньше, в брачной структуре коряков сохранялась гендерная диспропорция, обусловленная тем, что в смешанные браки вступали главным образом европейские мужчины [2]. Однако несмотря на активную ассимиляцию со стороны некоренного населения (доля смешанных в этническом отношении браков достигает 80%), численность коренных жителей области не уменьшается, а возрастает, что объясняется традицией записи детей от смешанных браков как коренных жителей [4]. Такая тенденция характерна и для других народов Крайнего Северо-Востока Евразии [5, 6].
Результаты молекулярно-генетических исследований коренного населения Северного Приохотья – коряков и эвенов Магаданской обл. – показали, что частота европейских вариантов митохондриальной ДНК (мтДНК), наследуемой по материнской линии, у них очень мала – лишь у эвенов достигает 4% [7]. Однако частота гаплогрупп Y-хромосомы, унаследованных коряками в результате метисации с мужчинами восточноевропейского (преимущественно русского) происхождения, довольно высока – 16.7% у коряков и 37.8% у эвенов [8]. Это свидетельствует о достаточно интенсивных межэтнических контактах на территории Северного Приохотья, особенно с участием мужчин восточноевропейского происхождения.
Наличие гендерного сдвига в распределении европейских маркеров ДНК материнского и отцовского происхождения (мтДНК и Y-хромосомы соответственно) в генофонде коряков ставит вопрос о том, какова частота аутосомных вариантов полиморфизма, полученных коряками в результате метисации с восточными европейцами. Наиболее подходящими для исследования этого вопроса представляются маркеры, характеризующиеся высокой популяционной (в данном случае этнорасовой) специфичностью – например, характеризующиеся почти 100%-ным присутствием у европейцев, но почти полным отсутствием у восточноазиатских народов. Для исследования нами отобраны шесть маркеров подобного рода, изученных ранее на этнорасовом уровне [9], и проведен анализ распределения аллелей у коряков и других народов Европы и Восточной Азии.
Пять маркерных локусов расположены в генах, ответственных за контроль пигментации (гены SLC45A2, SLC24A5, TYRP1, DRD2 и OCA2), и один – в гене EDAR, который участвует в эктодермальном развитии. В восточноазиатских популяциях, характеризующихся высокой распространенностью варианта rs3827760-C гена EDAR, намного чаще отмечаются более прямые и густые волосы и лопатообразные резцы, а также наблюдается увеличение плотности долей в молочных железах, что предположительно способствует повышению количества витамина D и полиненасыщенных жирных кислот в грудном молоке [10]. Белковые продукты указанных выше генов пигментации участвуют в биохимическом пути меланогенеза как мембранные транспортеры меланоцитов (SLC24A5, SLC45A2, OCA2) и ферменты меланогенеза (TYRP1) [11]. Ген DRD2 играет важную роль в развитии нервной системы и синаптической передаче и экспрессируется в основном в нервных тканях и в коже [12], а у DRD2-нокаутированных мышей шерсть темнее, чем у мышей дикого типа [13]. Популяционно-генетические исследования показали, что все шесть отмеченных выше генов находятся под действием положительного отбора в различных региональных группах человека [11, 14, 15].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для отбора информативных локусов, позволяющих дифференцировать восточноазиатские и европейские популяции, использованы опубликованные ранее данные в работе [9]. Размер выборки коряков – жителей Северо-Эвенского р-на Магаданской обл. (побережье Охотского моря, координаты 61°55′ с. ш. и 159°14′ в. д.), составил 32 человека. Информативность маркеров (I) рассчитывали по формуле:
, (1)
где p1 и p2 – частоты аллеля в популяциях 1 и 2 соответственно. Для дальнейшего анализа были отобраны локусы rs16891982 (ген SLC45A2), rs1426654 (ген SLC24A5), rs1408799 (ген TYRP1), rs1076563 (ген DRD2), rs3827760 (ген EDAR), rs1448485 (ген OCA2) (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика исследованных полиморфных локусов
Полиморфизм | Хромосома | Ген | Нуклеотидная позиция | Характер замены |
rs1426654 | 15 | SLC24A5 | 48426484 | A>G |
rs16891982 | 5 | SLC45A2 | 33951693 | C>G |
rs1408799 | 9 | TYRP1 | 12672097 | T>C |
rs1076563 | 11 | DRD2 | 113295909 | A>C |
rs3827760 | 2 | EDAR | 109513601 | T>C |
rs1448485 | 15 | OCA2 | 28282741 | C>A |
Примечание. Характеристика локусов основывается на данных dbSNP относительно геномной сборки GRCh37.p13.
Частоты аллелей исследуемых локусов в различных популяциях мира определяли с помощью базы генетических данных dbSNP (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/). Сведения о полиморфизме этих локусов у древних индивидов взяты из базы данных Allen Ancient DNA Resource (AADR) (https://reich.hms.harvard.edu/). Величину генных потоков рассчитывали по формуле:
, (2)
где M – доля привнесенных аллелей, pANC – частота анализируемого аллеля в древней восточносибирской популяции, pKRK – частота аллеля у современных коряков, pRUS – частота аллеля у русских. Данная формула по смыслу аналогична формулам, приведенным в работах [16, 17]. Принадлежность к древней восточносибирской популяции устанавливалась для тех древних индивидов, которые были обнаружены на территории в интервале координат 42.0–70.7° с. ш. и 131.0° в. д. – 170.0° з. д., т. е. примерно от Приморья до Чукотки.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Отобранные для анализа генетические маркеры характеризуются высокими значениями информативности I, так как частоты аллелей существенно различаются в региональных группах населения мира – у современных восточных азиатов и европейцев (данные для I 1 в табл. 2). Однако, поскольку генофонд современных коряков формировался с участием аллелей, специфичных для восточноевропейского (в основном русского) населения (причем на первых этапах, по всей видимости, происходившего из северных районов Восточной Европы [18]), то для расчетов нами были использованы данные о частоте аллелей у русского населения северо-запада европейской части России (Псковской и Новгородской областей, N = 95) [9]. Кроме этого, чтобы охарактеризовать генофонд коряков до периода европейского влияния, нами были использованы данные о распределении исследуемых генетических маркеров у древних жителей самой восточной части Сибири на протяжении последних 10 тыс. лет. Известно, что наиболее древнее позднепалеолитическое население Сибири сменилось примерно 14 тыс. лет назад и позже выходцами из Восточной Азии (вероятнее всего, Приамурья), в результате чего сформировались сибирские популяции, давшие начало предкам как палеосибирских народов, так и америндов [19, 20].
Таблица 2. Частоты аллелей, их информативность и величина потока генов (M) для коряков относительно данных для современных и древних популяций Евразии
Популяция, показатель | SLC24A5 | SLC45A2 | TYRP1 | DRD2 | EDAR | OCA2 |
rs1426654-A | rs16891982-G | rs1408799-C | rs1076563-C | rs3827760-T | rs1448485-C | |
Восточная Азия | 0.013 | 0.002 | 0.017 | 0.059 | 0.084 | 0.118 |
Европа | 0.995 | 0.969 | 0.694 | 0.585 | 0.987 | 0.868 |
Русские | 0.99 | 0.974 | 0.653 | 0.521 | 0.984 | 0.858 |
Коряки | 0.146 | 0.037 | 0.047 | 0.031 | 0.049 | 0.109 |
Восточная Сибирь, древняя | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.158 |
I 1 | 0.975 | 0.996 | 0.952 | 0.817 | 0.843 | 0.761 |
I 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.912 | 1.0 | 0.689 |
M | 0.147 | 0.038 | 0.072 | 0.014 | 0.05 | 0 |
Примечание. Величины информативности маркеров приводятся по данным о частотах аллелей у населения Восточной Азии и Европы (I 1) и у древних жителей Восточной Сибири и у русских (I 2). Частоты аллелей приводятся для населения Восточной Азии и Европы по базе данных dbSNP, для русских и коряков – по работе [9], для древних восточных сибиряков – по базе данных Allen Ancient DNA Resource.
Использование палеогеномных данных привело к тому, что информативность анализируемых генетических маркеров увеличилась во всех случаях, за исключением варианта rs1448485-C гена OCA2 (показатель I 2 в табл. 2). Необходимо отметить, что в случае генов SLC24A5, SLC45A2 и TYRP1 исследуемые аллели, специфичные для европейцев, отсутствовали в выборках древнего населения Восточной Сибири как в интервале от примерно 1 тыс. лет назад до 9 тыс. лет назад, так и у трех самых древних образцов с Янской стоянки (возрастом примерно 32 тыс. лет) и стоянки Дуванный Яр (возрастом примерно 9 тыс. лет) (табл. 3). Единичный случай появления аллеля rs1076563-C гена DRD2 зарегистрирован у индивида возрастом примерно 6.2 тыс. лет с территории современной Якутии. Для маркера в гене EDAR наблюдается более сложная картина распространения. У самых древних индивидов выявлен вариант rs3827760-T, характерный для жителей западной части Евразии, однако у более позднего населения Восточной Сибири произошло замещение этого аллеля на альтернативный вариант rs3827760-C. Предполагается, что смена населения началась примерно 14–19 тыс. лет назад, а основным генетическим источником в процессах заселения северо-востока Азии и формирования населения Берингии было древнее население Приамурья, которое привнесло адаптивный вариант rs3827760-C гена EDAR на Крайний Север [20].
История появления аллеля rs1448485-C гена OCA2 на востоке Сибири, вероятнее всего, имеет более сложный характер и не связана напрямую с миграциями европейцев. Согласно данным базы AADR, у самых древних образцов с Янской стоянки (примерно 32 тыс. лет назад) наблюдаются оба аллеля локуса rs1448485, а в более позднее время аллель rs1448485-C был зарегистрирован у населения Приморья (примерно 7.7 тыс. лет назад), Якутии (4.2 тыс. лет назад) и Чукотки (около 1 тыс. лет назад). Поэтому, несмотря на существенные различия по распространенности этого генетического варианта у современного населения Восточной Азии и Европы, он не может надежно маркировать наличие контактов между древними коряками и восточными европейцами. Как видно из табл. 2, информативность этого генетического варианта также находится на самом низком уровне. Соответственно, поскольку частота варианта rs1448485-C у современных коряков ниже, чем у древних жителей Восточной Сибири, то величина притока этого аллеля (M) оценивается как нулевая (см. табл. 2). Однако из-за отмеченных выше сложностей в истории появления варианта rs1448485-C гена OCA2 на востоке Сибири вопрос о величине его потока со стороны восточных европейцев в относительно недавнее время остается открытым.
Таким образом, результаты анализа показали, что приток аллелей, специфичных для европейцев, в генофонд коряков можно охарактеризовать как крайне неравномерный. Минимальная величина (1.4%) отмечается для варианта rs1076563-C гена DRD2, а максимальная (14.7%) – для варианта rs1426654-A гена SLC24A5, остальные маркеры показали промежуточные значения генного потока M. Как отмечалось выше, по материнской линии (по мтДНК) у коряков практически отсутствуют европейские варианты гаплотипов [7], однако по отцовской линии (по Y-хромосоме) метисация с мужчинами восточноевропейского происхождения довольно высока – 16.7% [8].
Неравномерность проявления популяционно-специфичных вариантов полиморфизма при межрасовой метисации ранее отмечалась в ряде исследований. Еще в ранних работах, основанных на анализе распределения биохимических маркеров крови, была обнаружена гетерогенность распределения специфичных для европейцев вариантов полиморфизма в смешанных по происхождению афроамериканских популяциях [16]. Это объяснялось действием естественного отбора в отношении некоторых аллелей, однако ре-анализ данных показал, что, вероятнее всего, другие факторы (малое число исследованных генетических маркеров, относительно небольшие размеры изученных выборок, неопределенности, связанные с определением частот анализируемых аллелей в популяциях-источниках) также могли привести к гетерогенности частот аллелей в смешанных популяциях [21].
Таблица 3. Частота исследуемых аллелей у древнего населения Восточной Сибири
Возраст | SLC24A5 | SLC45A2 | TYRP1 | DRD2 | EDAR | OCA2 |
rs1426654-A | rs16891982-G | rs1408799-C | rs1076563-C | rs3827760-T | rs1448485-C | |
1–9 тыс. лет назад | 0 (0/25) | 0 (0/43) | 0 (0/28) | 0.024 (1/41) | 0 (0/42) | 0.158 (3/19) |
> 9 тыс. лет назад | 0 (0/3) | 0 (0/3) | 0 (0/3) | 0 (0/3) | 1.0 (3/3) | 0.33 (1/3) |
Примечание. В скобках показано соотношение количества анализируемых аллелей к общему числу аллелей в выборках.
Новое развитие это направление популяционной генетики получило уже относительно недавно в рамках полногеномных исследований. Анализ плотных панелей генетических маркеров показал, что естественный отбор действительно влияет на распределение аллелей, связанных с тем или иным этнорасовым компонентом генофонда. Так, исследование пуэрториканцев, происхождение которых связано со смешением представителей трех рас (европейцев, африканцев и америндов), позволило выявить несколько хромосомных участков, в которых наблюдается дефицит аллелей, специфичных для европейцев [22]. По мнению авторов этой работы, подобного рода дефицит вызван действием отбора против накопления вариантов полиморфизма, которые не могут быть адаптивно значимыми в условиях проживания в Новом Свете. Результаты более поздних исследований смешанных популяций Америки оказались довольно противоречивыми: в одних работах отмечалось влияние отбора на представленность африканских и европейских вариантов полиморфизма [23], а в других подобного рода влияние опровергалось [24]. Однако во многих работах отмечались отклонения аллельного распределения в геномных областях, ответственных за иммунный ответ (HLA-локусы) или связанных с раковыми и аутоиммунными заболеваниями [22, 25–28]. Все это свидетельствует в пользу гипотез о том, что межрасовое смешение сопровождается адаптивным отбором, затрагивающим функциональные геномные варианты [29].
Полученные в настоящем исследовании результаты также свидетельствуют о гетерогенности частот аллелей, специфичных для европейцев, в генофонде коряков. Причем некоторые из них (например, rs1076563-C гена DRD2 и rs16891982-G гена SLC45A2), по всей видимости, недопредставлены в “европейском” генетическом компоненте генофонда коряков и поэтому вполне вероятно, что формирование генетической структуры современных коряков в условиях активной метисации сопровождалось действием отбора на некоторые участки генома. Мы предполагаем, что метисация могла отразиться и на состоянии здоровья коренных народов Крайнего Севера. Для прояснения этих вопросов необходимы более масштабные генетические исследования современного и древнего коренного населения Крайнего Севера. В последние годы значительно интенсифицировались исследования полиморфизма генов, контролирующих пигментацию глаз, волос и кожи, в популяциях России и соседних стран, население которых формировалось в результате межэтнического смешения на протяжении длительного времени [30–34]. Поэтому вопрос о наследовании популяционно-специфичных вариантов полиморфизма в смешанных по происхождению группах населения требует более пристального внимания.
В данной работе использовались только литературные данные.
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с использованием в качестве объекта людей и животных.
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
B. A. Malyarchuk
Institute of Biological Problems of the North, Far East. Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: malyarchuk@ibpn.ru
Russian Federation, Magadan, 685000
A. N. Litvinov
Institute of Biological Problems of the North, Far East. Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: malyarchuk@ibpn.ru
Russian Federation, Magadan, 685000
References
- Гурвич И.С. Этническая история Северо-Востока Сибири. М.: Наука, 1966. 269 с.
- Хаховская Л.Н. Культура этнолокального сообщества (коряки села Верхний Парень). М., СПб.: Нестор-История, 2018. 278 с.
- Гребенюк П.С., Федорченко А.Ю., Лебединцев А.И., Малярчук Б.А. Древние культуры Крайнего Северо-Востока Азии и этногенетические реконструкции // Томский журн. лингв. и антропол. исследований. 2019. № 2. С. 110–136. doi: 10.23951/2307-6119-2019-2-110-136
- Хаховская Л.Н. Коренное население края во второй половине XX века. Электронный ресурс. URL: http://kayur-travel.ru/index.php?newsid=43 (дата обращения – 25.01.2024).
- Балановская Е.В., Богунов Ю.В., Богунова А.А. и др. Демографическая ситуация в чукотских селениях севера Камчатки // Вестн. Моск. ун-та. Сер.: XXIII. Антропология. 2020. № 1. С. 87–97. doi: 10.32521/2074-8132.2020.1.087-097
- Балановская Е.В., Богунов Ю.В., Богунова А.А. и др. Демографический портрет коряков севера Камчатки // Вестн. Моск. ун-та. Серия XXIII. Антропология // 2020. № 4. С. 111–122. doi: 10.32521/2074-8132.2020.4.111-122
- Derenko M., Denisova G., Litvinov A. et al. Mitogenomics of the Koryaks and Evens of the northern coast of the Sea of Okhotsk // J. Hum. Genet. 2023. V. 68. P. 705–712. doi: 10.1038/s10038-023-01173-x
- Малярчук Б.А., Деренко М.В. Генетическая история коряков и эвенов Магаданской области по данным о полиморфизме Y-хромосомы // Вавил. журн. генет. и селекции. 2024. Т. 28. № 1. С. 90–97. doi: 10.18699/vjgb-24-11
- Rogalla U., Rychlicka E., Derenko M.V. et al. Simple and cost-effective 14-loci SNP assay designed for differentiation of European, East Asian and African samples // Forensic Sci. Int. Genet. 2015. V. 14. P. 42–49. doi: 10.1016/j.fsigen.2014.09.009
- Hlusko L.J., Carlson J.P., Chaplin G. et al. Environmental selection during the last ice age on the mother-to-infant transmission of vitamin D and fatty acids through breast milk // Proc. Natl Acad. Sci. USA. 2018. V. 115. P. E4426–E4432. doi: 10.1073/pnas.1711788115
- Sturm R.A., Duffy D.L. Human pigmentation genes under environmental selection // Genome Biol. 2012. V. 13. doi: 10.1186/gb-2012-13-9-248
- Ashburner M., Ball C.A., Blake J.A. et al. Gene ontology: Tool for the unification of biology. The gene ontology consortium // Nat. Genet. 2000. V. 25. P. 25–29. doi: 10.1038/75556
- Yamaguchi H., Aiba A., Nakamura K. et al. Dopamine D2 receptor plays a critical role in cell proliferation and proopiomelanocortin expression in the pituitary // Genes Cells. V. 1. P. 253–268. doi: 10.1046/j.1365-2443.1996.d01-238.x
- Lao O., de Gruijter J.M., van Duijn K. et al. Signatures of positive selection in genes associated with human skin pigmentation as revealed from analyses of single nucleotide polymorphisms // Ann. Hum. Genet. 2007. V. 71. P. 354–369. doi: 10.1111/j.1469-1809.2006.00341.x
- Sabeti P.C., Varilly P., Fry B. et al. Genome-wide detection and characterization of positive selection in human populations // Nature. 2007. V. 449. P. 913–918. doi: 10.1038/nature06250
- Workman P.L., Blumberg B.S., Cooper A.J. Selection, gene migration and polymorphic stability in a US White and Negro population // Am. J. Hum. Genet. 1963. V. 15. P. 429–437.
- Животовский Л.А. Генетика природных популяций. Йошкар-Ола: Типография “Вертикаль”, 2021. 600 с.
- Соловьев А.В., Борисова Т.В., Романов Г.П. и др. Генетическая история русских старожилов Арктического побережья Якутии из с. Русское Усолье по данным Y-хромосомы и широкогеномного анализа // Генетика. 2023. Т. 59. № 9. С. 1070–1077. doi: 10.31857/S0016675823090114
- Sikora M., Pitulko V., Sousa V. et al. The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene // Nature. 2019. V. 570. P. 182–188. doi: 10.1038/s41586-019-1279-z
- Mao X., Zhang H., Qiao S. et al. The deep population history of northern East Asia from the Late Pleistocene to the Holocene // Cell. 2021. V. 184. P. 3256–3266. doi: 10.1016/j.cell.2021.04.040
- Long J. The genetic structure of admixed populations // Genetics. 1991. V. 127. P. 417–428. doi: 10.1093/genetics/127.2.417
- Tang H., Choudhry S., Mei R. et al. Recent genetic selection in the ancestral admixture of Puerto Ricans // Am. J. Hum. Genet. 2007. V. 81. P. 626–633. doi: 10.1086/520769
- Jin W., Xu S., Wang H. et al. Genome-wide detection of natural selection in African Americans pre- and post-admixture // Genome Res. 2012. V. 22. P. 519–527. doi: 10.1101/gr.124784.111
- Bhatia G., Tandon A., Patterson N. et al. Genome-wide scan of 29,141 African Americans finds no evidence of directional selection since admixture // Am. J. Hum. Genet. 2014. V. 95. P. 437–444. doi: 10.1016/j.ajhg.2014.08.011
- Deng L., Ruiz-Linares A., Xu S., Wang S. Ancestry variation and footprints of natural selection along the genome in Latin American populations // Sci. Rep. 2016. V. 6. doi: 10.1038/srep21766
- Zhou Q., Zhao L., GuanY. Strong selection at MHC in Mexicans since admixture // PLoS Genet. 2016. V. 12. doi: 10.1371/journal.pgen.1005847
- Norris E.T., Rishishwar L., Chande A.T. et al. Admixture-enabled selection for rapid adaptive evolution in the Americas // Genome Biol. 2020. V. 21. P. 29. doi: 10.1186/s13059-020-1946-2
- Mendoza-Revilla J., Chacón-Duque J.C., Fuentes-Guajardo M. et al. Disentangling signatures of selection before and after European colonization in Latin Americans // Mol. Biol. Evol. 2022. V. 39. doi: 10.1093/molbev/msac076
- Ongaro L., Mondal M., Flores R. et al. Continental-scale genomic analysis suggests shared post-admixture adaptation in the Americas // Hum. Mol. Genet. 2021. V. 30. P. 2123–2134. doi: 10.1093/hmg/ddab177
- Balanovska E., Lukianova E., Kagazezheva J. et al. Optimizing the genetic prediction of the eye and hair color for North Eurasian populations // BMC Genomics. 2020. V. 21 (Suppl. 7). P. 527. doi: 10.1186/s12864-020-06923-1
- Балановская Е.В., Горин И.О., Кошель С.М., Балановский О.П. Геногеографический атлас ДНК-маркеров, контролирующих цвет глаз и волос человека // Генетика. 2021. Т. 57. № 12. С. 1356–1375. doi: 10.31857/S0016675821120031
- Фесенко Д.О., Ивановский Д.И., Иванов П.Л. и др. Биочип для генотипирования полиморфизмов, ассоциированных с цветом глаз, волос, кожи, группой крови, половой принадлежностью, основной гаплогруппой Y-хромосомы, и его использование для исследования славянской популяции // Мол. биология. 2022. Т. 56. № 5. С. 860–880. doi: 10.31857/S0026898422050056
- Фесенко Д.О., Арамова О.Ю., Вдовченков Е.В. и др. ДНК-фенотипирование останков из элитных погребений юга России хазарского времени // Мол. биология. 2023. T. 57. № 4. С. 597–608. doi: 10.31857/S0026898423040055
- Bukayev A., Aidarov B., Fesenko D. et al. Genotype data for 60 SNP genetic markers associated with eye, hair, skin color, ABO blood group, sex, core Y-chromosome haplogroups in Kazakh population // BMC Res. Notes. 2024. V. 17. P. 51. doi: 10.1186/s13104-024-06712-z
Supplementary files