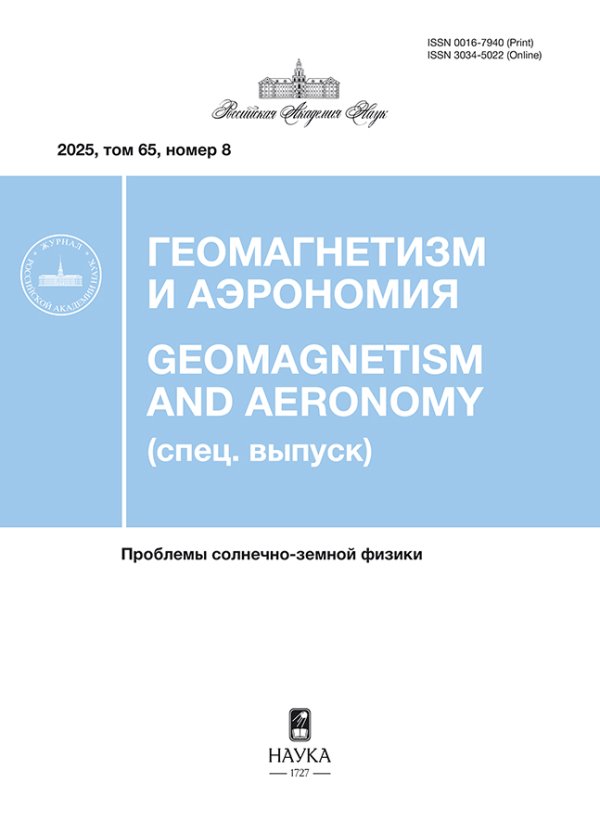Scenario for the formation of vortexlike structures in a presubstorm arc, taking into account changes in the arc height during its evolution
- Authors: Safargaleev V.V.1,2, Sergienko T.I.3, Kotikov A.L.1,4, Safargaleev A.V.5
-
Affiliations:
- Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio Wave Propagation, Russian Academy of Sciences
- Polar Geophysical Institute, Russian Academy of Sciences
- Swedish Institute of Space Physics
- Geophysical Center, Russian Academy of Sciences
- LSR Management Company
- Issue: Vol 64, No 1 (2024)
- Pages: 74-92
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0016-7940/article/view/260746
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0016794024010087
- EDN: https://elibrary.ru/GQMOUV
- ID: 260746
Cite item
Full Text
Abstract
Activity in a prebreakup auroral arc in the form of vortexlike structures, the appearance/disappearance of which is preceded by an increase/decrease in the brightness of the arc, was studied in the context of a magnetospheric substorm, large-scale ionospheric convection, the situation in the interplanetary medium, and triangulation measurements of the arc height. The structures are observed in the premidnight hours and represent a superposition of two auroral forms: a large-scale bend in the arc that outlines the polar boundary of the diffuse auroras and smaller luminous tongues of luminosity (mini-torches) elongated along the convection on the western slope of the bends. The structures as a whole move against convection, towards substorm activity to the east of the observation area. We attribute the appearance of structures to the propagation of a disturbance deep into the magnetosphere, generated as a result of interaction of the magnetopause with a solar wind inhomogeneity, on the front of which Bz turns southward. The results of triangulation measurements show that the increase in brightness in the prebreakup arc shortly before the appearance of vortexlike structures is accompanied by a decrease in the height of the lower edge of the arc, which we explain by the appearance of a parallel electric field above the arc, which accelerates the precipitating electrons. The role of such a field in the formation of the torchlike structures is discussed in the framework of the interchange instability of the pole boundary of diffuse auroras.
Keywords
Full Text
1. Введение
Авроральная дуга является наиболее изученной формой полярных сияний. В теоретических исследованиях она представляется стационарной, узкой, сильно вытянутой вдоль геомагнитной широты однородной светящейся полосой, что далеко от реальности. В реальности дуга подвержена деформациям различных масштабов и неоднородна по своей структуре, представляя набор ярких пятен, лучей и т.п., так или иначе эволюционирующих во времени.
Исследования деформаций и неоднородностей светимости, как таковых, так и их динамики, позволяют не только уточнить механизм формирования неоднородностей, но и судить о физических процессах в магнитосопряженной области магнитосферы. С этой позиции наиболее интересными представляются исследования эволюции дуги, c которой (или в окрестности которой) затем начинается авроральный брейкап. В литературе такую дугу часто называют предсуббуревой/предсуществующей дугой (pre-breakup/pre-existing arc). Перед началом авроральной суббури предсуббуревая дуга смещается к экватору и становится активной с быстрым уярчением и азимутальным структурированием (см., например, [Motoba et al., 2015]).
В работе [Keiling et al., 2012] цепочка из светящихся пятен в предсуббуревой дуге (так называемая beading-структура) предполагалась признаком развития баллонной неустойчивости, с которой, в свою очередь, связывались генерация пульсаций Pi2 [Kalmoni et al., 2017] и запуск магнитосферной суббури [Golovchanskaya et al., 2015]. Haerendel and Frey [2021] появление beading-структуры связывают с развитием неустойчивости двух близкорасположенных токовых слоев (mating instability). В предложенной авторами схеме mating-неустойчивость инициирует суббурю. В работе [Solovyev et al., 2000] с волнообразными структурами в дуге ассоциировались пульсации с периодом в диапазоне 30–90 с. [Rae et al., 2009] характеризуют связь волн светимости (undulations) в предсуббуревой дуге с запуском суббури как вполне вероятную.
На ранних этапах оптических наблюдений было выделено 7 типов мелкомасштабных волнообразных деформаций дуги. Позже, анализируя телевизионные записи полярных сияний, Hallinan and Davis [1970] провели ревизию классификационной схемы и оставили только две категории: вихри/спирали и складки (curls/spirals и folds соответственно). Отметим, что такие крупномасштабные волновые формы, как дрейфующий к западу изгиб сияний (westward travelling surge, WTS) и омега-сияния (Ω-auroras) не являются предметом данного исследования. Наша работа посвящена исследованию деформаций в виде завихрений.
Статистический анализ авроральных вихрей, основанный на данных регулярных оптических наблюдений, представлен в работах Davis and Hallinan [1976], Trondsen and Cogger [1998], Partamies et al. [2001], а также в ряде других. Типичные размеры вихрей составляют 25–75 км и 125–176 км (диаметр вихря и расстояние между двумя соседними вихрями соответственно). В исследовании Partamies et al. [2001] больше спиралей наблюдается в утреннем секторе, в то время как в данных Davis and Hallinan [1976] спирали доминировали в предполуночные часы. В отличие от ранее опубликованных исследований статистический анализ Partamies et al. [2001] показал, что бо́льшая часть вихрей возникает в магнито-спокойных условиях, которые сохраняются не менее получаса после обнаружения спирали. Авторы объяснили расхождение различным подходом к определению “спокойных условий”. Указывается, что вихри двигаются по направлению крупномасштабной конвекции: в вечернем секторе преимущественно на запад, а в утреннем — на восток. Средняя скорость движения в азимутальном направлении составляет ~4 км/с.
Теории формирования изгибов сияний столь же многообразны, сколь многообразны форма и динамика этих изгибов (см., например, обзор Pudovkin et al. [1997]). Webster and Hallinan [1975] предположили, что вихри формируются в результате развития неустойчивости слоя продольного тока или слоя заряда (current-sheet или charge-sheet instabilities соответственно). Для развития неустойчивости зарядового слоя, которая является одним из типов неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, нужно, чтобы в слое высыпающихся частиц превалировали электроны. В качестве возможного кандидата ряд авторов рассматривает неустойчивость Кельвина-Гельмгольца на границе между конвективным потоком к Солнцу в центральном плазменном слое и более слабым потоком плазмы ближе к Земле, обусловленным вращением Земли ([Pudovkin et al., 1997] и ссылки в ней). Возможная роль в формировании вихрей так называемого field-line resonance обсуждается в работе [Samson et al., 1996]. Вихрь получается в результате численного моделирования развития гибридной неустойчивости Кельвина-Гельмгольца/Релея-Тейлора [Voronkov et al., 1997; Yamamoto et al., 2012], которая является разновидностью неустойчивости Релея-Тейлора, известной также как желобковая или перестановочная неустойчивость.
После запуска многоспутниковых проектов наземные исследования начали дополняться исследованиями в магнитосфере. Ниже мы приводим несколько результатов таких совместных исследований, но относиться к ним следует с осторожностью. Прямое сравнение спутниковых измерений и наземных данных затруднено низкой точностью картирования магнитосферных процессов в ионосферу из-за незнания формы силовой линии геомагнитного поля. Этот проблема особенно остра, если речь идет о суббуревой околополуночной магнитосфере.
В работе [Keiling et al., 2009] наземные данные проанализированы совместно с данными спутника THEMIS (Time History of Events and Macroscale Interactions), находящегося, по мнению авторов, в магнитосопряженном участке магнитосферы. В результате анализа двух вихрей, сформировавшихся во время активной фазы суббури, авторы обнаружили появление продольного тока, связывающего область генерации в магнитосфере с вихрями в ионосфере, и предложили два возможных сценария генерации вихрей. Усиление потока плазмы в магнитосфере приводит либо к усилению продольного тока и, как следствие, формированию в ионосфере вихрей через развитие неустойчивости токового слоя, либо к развитию связанных баллонной и сдвиговой неустойчивостей в магнитосфере, и результат неустойчивости “проектируется” затем в ионосферу в виде вихря. Как нерешенным авторы обозначили вопрос, является ли один из указанных выше механизмов генерации вихрей единственным, или тем или иным образом реализуются сразу оба. Вопрос не является новым. Ранее возможность одновременной реализации двух различных механизмов обсуждалась в работе [Akasofu and Kimball, 1964] применительно к тонкой структуре в крупномасштабных изгибах сияний типа Ω-сияний.
Наблюдения Panov et al. [2019] на спутниках THEMIS выявили признаки перестановочной/баллонной неустойчивости в области магнитосферы, магнитосопряженной, по мнению авторов, с авроральной дугой. В ионосфере эти особенности плазмы авторы связали с пятнами светимости, дрейфующими вдоль дуги по направлению к утреннему сектору. Отметим, что в работе [Oguti, 1974] цепочка неоднородностей в дуге в виде азимутально вытянутой последовательности пятен повышенной светимости эволюционировала со временем в мелкомасштабные авроральные вихри. Оба результата относятся к активной фазе суббури.
В связи с наличием желобковой неустойчивости в списке “кандидатов” на генерацию вихрей уместно упомянуть следующие работы. В работе [Swift, 1967] было показано, что развитие желобковой неустойчивости в значительной мере тормозится проводящей ионосферой. Согласно [Atkinson, 2001] продольная разность потенциалов нарушает связь магнитосферы с ионосферой, ослабляя тормозящее влияние последней на развитие желобковой неустойчивости. С развитием желобковой неустойчивости именно по такому сценарию в работе [Safargaleev et al., 2005] связывалась деформация сияний в форме вытягивающегося в меридиональном направлении языка — аврорального факела. Таким образом, для интерпретации эволюции авроральных структур в рамках желобковой неустойчивости важным моментом является наличие/отсутствие признаков появления в продольном токе продольного электрического поля, связанного с продольной разностью потенциалов, “отсоединяющей” магнитосферу от ионосферы.
На признаки продольного ускорения в данных спутника FAST, пролетающего над пульсирующими сияниями, указывается в работе [Sato et al., 2004]. Согласно [Li et al., 2013] признаки продольной разности потенциалов обнаруживаются в участке магнитосферы, сопряженной с активными формами внутри суббуревой авроральной выпуклости. Сияния регистрировались с высоты около 800 км. Малое пространственное разрешение оптической аппаратуры, а также движение спутника не позволили сопоставить область ускорения со структурами в сияниях.
Одной из возможных причин появления продольного электрического поля является развитие неустойчивости продольного тока на локальном участке силовой линии между ионосферой и экваториальной плоскостью магнитосферы (см., например, [Галеев и Сагдеев, 1984]). Наличие такой области трудно зафиксировать спутником, поскольку вероятность того, что в нужный момент спутник окажется в нужном месте, невелика. Более реализуемой альтернативой спутниковым измерениям являются измерения высоты свечения наземной оптической аппаратурой. В работе [Safargaleev et al., 2005] заключение о появлении продольной разности потенциалов делалось на основании уменьшения высоты авроральной дуги, с которой началось вытягивание языка сияний к полюсу. Высота свечения измерялась методом триангуляции. Более точным методом — методом оптической томографии — было обнаружено уменьшение высоты пульсирующей дуги в работе [Safargaleev et al., 2022].
Главная цель работы — поиск признаков ускорения электронов в эволюционирующей предсуббуревой авроральной дуге посредством триангуляционных измерений. Используются данные двух камер полного обзора неба, установленные на севере Швеции на небольшом удалении друг от друга. Целью работы является также анализ процесса зарождения авроральных вихрей в контексте изменения параметров межпланетной среды. Мотивация такого исследования обсуждается ниже, в разделе 3.2.
2. Аппаратура и методика
В данной работе признаки ускорения ищутся применительно к проблеме генерации вихреобразных структур. Сравнивается высота свечения в дуге за несколько минут до и непосредственно перед их появлением. Если высота дуги уменьшается (свечение приближается к земной поверхности), значит, с большой долей вероятности в процессе формирования структур было задействовано ускорение электронов.
Для определения высоты свечения использовался метод триангуляции. Анализировались данные двух камер полного обзора неба типа WMI (Watec monocromatic imager), установленных Национальным институтом полярных исследований, Япония, в пунктах Кируна (KRN; 67.88° N, 20.42° E) и Чаучас (TJA; 67.31° N, 20.73° E) на севере Швеции. Камеры ведут съемку в видимом свете с временным разрешением один кадр в секунду и расположены на расстоянии около 70 км друг от друга, обеспечивая хорошее перекрытие участка неба в области зенита.
Измерения высоты проводились следующим образом. Сначала по положению звезд на снимке уточнялись ориентация каждой камеры по сторонам света, степень отклонения оптической оси от вертикали и величина зенитного угла для каждого пикселя изображения. Используя эту информацию, при заданной высоте сияний рассчитывались координаты проекции каждого пикселя на земную поверхность. Проекции одного и того же участка неба, рассчитанные в один и тот же момент времени по снимкам двух разнесенных камер, накладывались друг на друга. Варьируя высоту, то есть меняя координаты проекций пикселов, визуально добивались наилучшего совпадения выбранного фрагмента сияний. Принимая во внимание искажения, вносимые объективом “рыбий глаз” у горизонта поля зрения камеры, для анализа выбирались ситуации, когда исследуемый объект находился в относительной близости зенита одной из камер (KRN в данном случае). Привязка изображения к физическим координатам и совмещение изображений осуществлялись при помощи пакета программ, разработанных для этих целей в рамках проекта ALIS (Aurora Large Imaging System, [Gustavsson, 1998]).
Отметим, что для метода триангуляции критичным является положение исследуемой авроральной формы в общем для обеих камер поле зрения. Это условие, а также чистое небо над обоими пунктами, наличие сияний (собственно предсуббуревой дуги), оставшихся, например, после предыдущей суббури, и появление в предсуббуревой дуге волнообразных форм наложило достаточно жесткие условия на критерий отбора оптических данных. В результате пригодным для анализа мы сочли 15-минутный интервал, относящийся к серии магнитосферных суббурь, имевших место 17.02.2017 г. Несмотря на высокое временное разрешение оптических данных, в общем поле зрения камер оказывались уже сформировавшиеся структуры, что не позволило провести измерения высоты непосредственно в процессе их зарождения.
Для оценки геомагнитной обстановки наряду с данными скандинавской сети магнитометров IMAGE (доступны в сети Интернет) использовались данные магнитометров, расположенных к востоку от области наблюдений — на северном побережье РФ в Амдерме (AMD) и Диксоне (DIK). Эти станции находятся под оперативным управлением Арктического и антарктического научно-исследовательского института. В табл. 1 информация о пунктах магнитных измерений приводится в порядке убывания исправленной геомагнитной широты обсерватории. Этот параметр, а также местное магнитное время, MLT, рассчитывались онлайн программой VITMO Model (https://omniweb.gsfc.nasa.gov/vitmo/cgm.html).
Таблица 1. Координаты магнитных станций
Код | Пункт наблюдения | Географические координаты | Исправленная геомагнитная широта, ° N | MLT, ч | |
Широта, ° N | Долгота, ° E | ||||
BJN | Bear Island | 74.50 | 19.20 | 71.83 | UT+2.7 |
DIK | Диксон | 73.52 | 80.68 | 69,41 | UT+5.7 |
SOR | Sørøya | 70.54 | 22.22 | 67.70 | UT+2.7 |
KIL | Kilpisjärvi | 69.06 | 20.77 | 66.24 | UT+2.5 |
AMD | Амдерма | 69.60 | 60.20 | 65.76 | UT+4.6 |
MUO | Muonio | 68.02 | 23.53 | 65.08 | UT+2.6 |
PEL | Pello | 66.90 | 24.08 | 63.55 | UT+2.6 |
RAN | Ranua | 65.90 | 26.41 | 62.82 | UT+2.7 |
OUJ | Oulujärvi | 64.52 | 27.23 | 61.35 | UT+2.7 |
Координаты спутников определялись при помощи онлайн процедуры SSC 4D Orbit Viewer (https://sscweb.gsfc.nasa.gov), дающей также положения спутников относительно фронта ударной волны и магнитопаузы. Карты крупномасштабной ионосферной конвекции строились по данным системы радаров SuperDARN на сайте (http://vt.superdarn.org) и до реконструкции сайта находились в свободном доступе.
3. Результаты измерений
3.1. Интервал оптических наблюдений в контексте суббуревой активности
Исследуемый интервал можно соотнести с двумя суббурями. Наиболее сильное бухтообразное возмущение в X-компоненте геомагнитного поля началось в 21:10 UT (длинная серая стрелка на рис.1а) к северу от области оптических наблюдений. Отрицательная бухта имела максимум на широте BJN (~400 нТл) и сопровождалась положительной вариацией на широтах ниже BJN (рис. 1а, верхняя панель). По этим двум признакам мы можем отнести возмущение к подклассу “полярные (высокоширотные) суббури”, развивающиеся у полюсной границы авроральной зоны. Идея о выделении таких возмущений в отдельный подкласс и термин предложены Клейменова и др., [2012]. Подобно ситуациям, описанным в работах [Сафаргалеев и др., 2018; Safargaleev et al., 2020], полярная суббуря произошла на фоне более слабой суббури (~230 нТл), начало которой в области оптических наблюдений зарегистрировано на станциях внутри аврорального овала в ~21:00 UT (длинная черная стрелка на рис. 1а). В качестве примера приведена магнитограмма SOR (рис. 1а, верхняя панель). Далее, следуя [Сафаргалеев и др., 2018], будем эту суббурю называть “обычной”. Подобная двух-суббуревая активность наблюдалась и к востоку от области оптических наблюдений (рис. 1а, нижняя панель). Поскольку отрицательные бухты начались там раньше (момент начала суббури в AMD отмечен длинной белой стрелкой), мы полагаем, что очаг обеих суббурь — обычной и полярной — находился к востоку от области оптических наблюдений. Дугу, о которой пойдет речь ниже, можно считать предсуббуревой по отношению к обеим суббурям. Ниже будет показано, что вихреобразные структуры двигались вдоль дуги на восток, то есть к предполагаемому очагу обеих суббурь. Однако, исходя из времени появления, структуры могут рассматриваться как потенциальные предвестники более поздней, полярной суббури.
Рис. 1. Интервал наблюдения волн светимости в предсуббуревой дуге (выделен серым цветом) в контексте суббуревой активности: (а) — магнитные возмущения в области, включающей область оптических наблюдений. Длинными стрелками белого, черного и серого цвета отмечены начала суббурь в AMD, SOR и BJN соответственно. Моменты уярчения предсуббуревой дуги и появления на ней вихреобразных структур обозначены Т0 и Т1 соответственно; (б) — кеограмма и серия кадров, демонстрирующие эволюцию сияний над KRN. Дрейфующая к экватору предсуббуревая дуга показана короткой белой стрелкой. Короткая черная стрелка указывает на изгиб границы диффузной дуги, по которому происходил подбор высоты.
В момент времени ~20:12 UT находящаяся у самого северного края поля зрения камеры KRN дуга начала смещаться к югу. Момент начала движения точно определить не удалось, так как дуга располагалась у самого горизонта поля зрения. Тем не менее движение отслеживается по кеограмме и по серии кадров на рис. 1б. Такой характер поведения дуги является типичным для подготовительной фазы суббури. За несколько минут до появления авроральных вихрей дуга остановилась недалеко от зенита KRN, яркость в ней увеличилась (правый кадр на рис. 1б). Момент уярчения обозначен на магнитограммах как Т0. Сравнение с предшествующим кадром показывает, что уярчение дуги произошло не одновременно по всей ее длине, а распространялось с востока на запад и было обусловлено, вероятно, началом обычной суббури к востоку от области оптических наблюдений. На кеограмме на рис. 1б видно, что яркость свечения увеличилась не только в дуге, но и к экватору от нее, в области пульсирующего и диффузного свечения.
3.2. Волновая магнитная и оптическая активность
Усиление яркости в интервале широт, занятом сияниями, происходило в промежутке времени 20:25—20:30 UT. В это же время на магнитных станциях, расположенных под этой областью, наблюдается цуг затухающих пульсаций с периодом 5—6 мин (диапазон Рс5). Пульсации возникают в ~20:26 UT (момент Т0) как небольшая отрицательная вариация в начале цуга, напоминая тем самым пульсации с предварительным импульсом, возбуждаемые скачком давления солнечного ветра (см., например, [Safargaleev et al., 2010]). На рис. 2а (верхняя панель) этот момент отмечен черной стрелкой. Появление пульсаций связано по времени с увеличением яркости сияний как в дуге, так и в области диффузного свечения к экватору от нее (рис. 1б).
Рис. 2. Локализация пульсации Pc5 вдоль меридиана (а). Исследуемый интервал выделен серым цветом; оригинальный кадр (верхняя панель) и его проекция на высоту 105 км (нижняя панель) в момент времени, отмеченный на магнитограмме PEL черной стрелкой (б). Положение камеры KRN и магнитных станций показано кругом и квадратами соответственно. Сегментом дуги отмечено примерное положение экваториальной границы области, занятой диффузными сияниями.
Авроральные вихри появились на дуге после того, как дуга из широкой полосы слабого свечения трансформировалась в более яркое и более узкое образование. Сначала на полюсной границе дуги развивается слабая волновая активность, что типично для магнитовозмущенных условий. После ~20:36 UT (на рис. 1а этот момент обозначен T1) волны приобретают более сложную форму и становятся похожими на вихри. Вихри двигаются на восток, что иллюстрируется на рис. 3а.
Рис. 3. Особенности авроральных вихрей: (а) — прохождение вихрей через поле зрения камеры с запада на восток, вертикальными стрелками с одинаковыми номерами показано положение соответствующей структуры до и после ее прохождения через зенит KRN; (б) — тонкая структура авроральных вихрей на высоте 105 км, белой горизонтальной стрелкой показано направление движения вихрей, черной стрелкой показано направление конвекции.
Когда в литературе речь идет об авроральных вихрях, прежде всего обращают внимание на то, в какую сторону происходит завихрение — по или против часовой стрелки. Этот показатель важен для выбора механизма генерации. Другие особенности вихревых структур детально не обсуждаются. Мы же обращаем внимание читателя на другую особенность формы вихрей.
На рис. 3б видно, что вихри можно представить как суперпозицию двух авроральных форм, отличающихся размерами. Первая форма — это крупномасштабный изгиб границы диффузного свечения по направлению к полюсу. Изгиб претерпевают не только предсуббуревая дуга, но и несколько более тонких пульсирующих дуг, расположенных к экватору от нее. Вторая форма — это факелообразные языки свечения меньших размеров на западной границе изгиба, ориентированные почти параллельно границе свечения. Изгиб и языки выглядят как два самостоятельных явления, поскольку есть изгибы без языков (первый и второй кадры на рис. 3б) и есть языки без изгибов (последний кадр на рис. 3б). Языки вытянуты по направлению конвекции, показанному черной стрелкой на рис. 3б. Характер конвекции в области оптических наблюдений обсуждается в следующем разделе.
Как отмечалось выше, усиление яркости дуги началось с востока, то есть от очага обычной суббури. Логично было бы предположить, что последующие возмущения в дуге (вихри) также были инициированы обычной суббурей. Однако в нашем случае вихри распространяются с запада на восток, к очагу суббури, так что их вряд ли можно считать ее продуктом.
3.3. Характер ионосферной конвекции в области наблюдений
На рис. 4 приведены результаты прямых измерений скорости ионосферной плазмы, сделанные радарной системой SuperDARN, и модельные расчеты глобальной картины конвекции, опирающиеся на результаты этих измерений и состояние ММП.
Рис. 4. Направление ионосферной конвекций по данным SuperDARN в области оптических наблюдений (показана кругом) перед рассматриваемым событием (а); модельные расчеты конвекции до, во время и после рассматриваемого события (б). Отрезками обозначены величина и направление скорости плазмы.
На диаграммах широта — местное время короткими отрезками обозначены величина и направление скорости плазмы, измеренной радарами в области, отмеченной точкой в начале каждого отрезка. Семейством кривых показаны линии равного потенциала, вдоль которых происходит конвекция плазмы. Область оптических наблюдений (окружность на рис. 4а) находится под экваториальной частью вечернего вихря крупномасштабной ионосферной конвекции. Стрелки показывают, что здесь плазма конвектирует от местной полуночи в вечерний сектор. Диаграмма относится к моменту времени за несколько минут до появления вихрей. Далее надежных измерений над Скандинавией не было (в интересующей нас области стрелочки отсутствуют). Основываясь на модельных расчетах, представленных на рис. 4б, мы предполагаем, что и до, и во время, и после прохождения вихрей через поле зрения камер направление конвекции оставалось неизменным. Следует, однако, оговориться, что глобальная эмпирическая модель не дает информацию о мелкомасштабных особенностях конвекции типа, например, каналов конвекции, иногда наблюдаемых перед суббурей [Lyons et al., 2022].
Таким образом, в нашем случае движение вихреобразных структур в целом происходит в направлении, противоположном направлению конвекции. Это не согласуется с результатами статистических исследований [Partamies et al. 2001].
Перечисленные выше обстоятельства побудили нас рассмотреть вихреобразную активность в дуге не в контексте эволюции суббури или крупномасштабной конвекции, а искать возможную причину в межпланетной среде. Направление движения вихрей от вечера к полуночи может соответствовать движению возмущения, инициированного, например, неоднородностью солнечного ветра и двигающегося от вечернего фланга магнитопаузы вглубь магнитосферы.
3.4. Возмущение в солнечном ветре и магнитосфере
В работе использовались данные трех спутников в солнечном ветре (ACE, DSCOVR и THC) и спутника GEOTAIL, находящегося в вечерней части магнитосферы. Положение ближних к Земле спутников схематично представлено на рис. 5а. Отрезком прямой со стрелкой показан фронт неоднородности, ориентация которого определена по запаздыванию возмущения на спутниках ACE ([218 -8 -17] RE) и DSCOVR ([242 -14 -23] RE) и их взаимным расположением.
Рис. 5. Положение спутников THC и GEOTAIL (а). Отрезком прямой со стрелкой показаны ориентация и направление движения фронта неоднородности солнечного ветра; вариации Bz-компоненты ММП на двух спутниках (б).
Вариации Bz-компоненты ММП на спутниках ACE и THC представлены на рис. 5б. Мы обращаем внимание читателя на экскурс Bz-компоненты ММП в область отрицательных значений, зарегистрированный на спутнике ACE в 19:13 UT, а на спутнике THC — в 20:32 UT. Разворот в целом длился 5—6 мин и имел сложную форму. Из-за наличия кратковременного экскурса Bz в сторону положительных значений разворот на спутнике ACE напоминает один период синусоиды. На рис. 5б (верхняя панель) соответствующий интервал отмечен черным горизонтальным отрезком. В данных спутника THC синусоидальный характер разворота Bz к югу более выражен. На рис. 5б (нижняя панель) этот интервал отмечен горизонтальным серым отрезком. Разная форма Bz-вариации могла быть обусловлена, например, реконфигурацией фронта неоднородности в процессе ее движения от ACE до THC.
На рис. 6 для исследуемого промежутка времени представлены вариации плазмы (энергия и поток электронов) и магнитного поля на спутнике GEOTAIL. Высокая степень схожести формы возмущения плазмы на GEOTAIL с вариациями Bz на THC дает нам основания предполагать, что на GEOTAIL мы наблюдаем внутримагнитосферный отклик на изменения Bz в солнечном ветре.
Рис. 6. Вариации потока и энергии электронов, а также магнитного поля на спутнике GEOTAIL, вызванные прохождением через спутник волнового возмущения, сгенерированного фронтом неоднородности солнечного ветра с периодической вариацией Bz-компоненты ММП (верхняя панель).
Таким образом, опираясь на данные измерений, мы продемонстрировали, что неоднородность солнечного ветра, на фронте которой произошла смена знака Bz-компоненты ММП, является не локальным явлением (например, из-за секторной структуры солнечного ветра), а представляет глобальное возмущение. Разворот Bz к югу виден в невозмущенном солнечном ветре (спутник ACE) и вблизи фланга магнитосферы, где могло сказаться обтекание (спутник THC). Предполагаемый отклик на вариации Bz ММП виден и внутри магнитосферы на спутнике GEOTAIL, находящемся приблизительно в том MLT-секторе, где проводились наблюдения. Периодический характер разворота в том или ином виде проявляется на всех трех спутниках. Таким образом, можно утверждать, что фронт возмущения не прошел мимо магнитосферы.
Мы не делали попытку более точно оценить время распространения фронта возмущения в солнечном ветре, магнитослое и внутри магнитосферы, а также его искажения/переориентацию в процессе распространения. Из-за незнания параметров среды подобные оценки всегда носят приблизительный характер.
3.5. Высота предсуббуревой дуги по данным триангуляционных измерений
Положение дуги вблизи зенита KRN как до, так и после момента ее уярчения (средний и правый кадры на нижней панели, см. рис. 1б) представляет благоприятную ситуацию для проведения триангуляционных измерений ее высоты при помощи имеющихся в нашем распоряжении двух камер, поскольку в эти моменты дуга находится в их общем поле зрения. Снимки камер накладывают один на другой и, меняя высоту свечения, добиваются совпадения выбранных фрагментов сияний. Наложение фрагмента дуги, сфотографированной с двух позиций, демонстрируется на рис. 7а для трех значений высоты. Здесь в псевдоцвете представлен снимок камеры KRN, в то время как распределение свечения на снимке камеры TJA передается семейством изолиний. Такое представление делает более удобным совмещение авроральных структур при наложении.
Рис. 7. Высота предсуббуревой дуги в процессе ее эволюции: (а) — иллюстрация этапов подбора высоты свечения за счет наилучшего совмещения отчетливой полюсной кромки дуги с областью сгущения изолиний; (б) — результат подбора высоты изгиба на размытой полюсной кромке дуги (показан черной стрелкой здесь и на рис. 1в) незадолго до усиления свечения и появления авроральных вихрей. Сияния над KRN представлены в псевдоцвете, распределение интенсивности свечения на кадре TJA передается изолиниями.
На снимках камер полного обзора неба нижней границей сияний является та, что расположена дальше от географического зенита. В нашем случае это северная кромка свечения. К моменту времени 20:32:44 UT интенсивность предсуббуревой дуги заметно увеличилась, а ее нижняя кромка (полюсная граница на правом кадре рис. 1б) приобрела более четкие очертания, чем было за 6 минут до этого (средний кадр на рис. 1б). На рис. 7а видно, что для трех вариантов высот наилучшее совпадение границы в псевдоцвете с границей в виде сгущения изолиний достигается при высоте нижней кромки h = 100 км. При изменении высоты на ±5 км несовпадение области сгущения изолиний с кромкой дуги на цветном изображении уже становится заметным. Величину 100 км мы и принимаем за высоту дуги в момент времени 20:32:44 UT.
Определение высоты дуги до уярчения (средний кадр на рис. 1б) осложнено тем, что полюсная кромка свечения является размытой. Поэтому описанную выше процедуру мы применили к небольшому провалу в свечении, находящемуся вблизи зенита и имеющему более отчетливые очертания. Провал показан на этом кадре черной стрелкой. По нашим оценкам, получилось, что за несколько минут до уярчения дуга находится дальше от земной поверхности (на высоте 110—112 км), чем после уярчения. Результат совмещения показан на рис. 7б, где черная стрелка также указывает на провал в свечении. Уменьшение высоты на ~ 10 км свидетельствует об увеличении энергии высыпающихся электронов на ~2—3 кэВ.
Еще одна благоприятная для триангуляционных измерений ситуация сложилась около 20:45:30 UT. На этот раз яркость дуги уменьшилась (рис. 8а), а высота дуги увеличилась (рис. 8б). Визуальное сравнение яркости ослабевшей дуги и дуги на рис. 1б показывает, что до начала вихревой активности дуга была менее яркая. Возможно, по этой причине дуга в 20:45:37 UT оказалась на меньшей высоте (107 км), чем в начале рассматриваемого интервала (110—112 км). У восточного края кадра на рис. 8а видна очередная вихревая структура. Однако после ее прохождения через зенит в ~20:46:20 UT подобных структур более не наблюдалось. Отметим также еще одну примечательность данного момента времени — смену режима пульсаций на магнитограмме (см. рис. 2). Можно предположить, что ситуация в магнитосопряженной области магнитосферы в этот момент изменилась. Причины смены мы оставляем за рамками исследования.
Рис. 8. Ослабление светимости в предсуббуревой дуге по данным камеры KRN (а); результаты триангуляционных измерений высоты предсуббуревой дуги до и после ослабления светимости (б).
Таким образом, триангуляционные измерения показали, что при уярчении дуги, за которым спустя некоторое время последовала активность в виде формирования вихрей, с большой долей вероятности имело место ускорение электронов вдоль силовых линий. И наоборот, ослабление дуги сопровождалось ослаблением ускоряющего фактора (дуга поднялась с высоты ~100 км до ~107 км), а вихревая активность постепенно сошла на нет.
4. Обсуждение и выводы
4.1. Последовательность событий
Обобщим полученные результаты, выставив их в хронологическом порядке.
- В ~19:13 UT на спутнике ACE начался разворот Bz-компоненты ММП в область отрицательных значений, по форме напоминающий один период синусоиды. В данных спутника THC разворот начался в ~20:32 UT, и его синусоидальный характер более выражен.
- В ~20:12 UT дуга, находящаяся до этого у самого северного края поля зрения камеры KRN, начала дрейфовать к зениту.
- В ~20:26 UT (момент времени Т0 на рис. 1а) дуга остановилась вблизи зенита. Яркость дуги начала увеличиваться с востока. Высота дуги при этом уменьшилась. Также увеличилась яркость диффузных и пульсирующих сияний к экватору от дуги.
- Примерно одновременно с уярчением сияний зарегистрирован цуг затухающих пульсаций с периодом ~5 минут. Пульсации имели ярко выраженный максимум на станции, расположенной вдали от дуги, но близко к экваториальной границе диффузного свечения.
- За ~1—2 минуты до Т0 начинается отрицательная бухта в Х-компоненте на станции AMD, расположенной к востоку от области оптических наблюдений (обычная суббуря). Момент отмечен длинной белой стрелкой на рис. 1а.
- Зарождение авроральных вихреобразных структур начинается на фоне взрывной фазы этой суббури, и рассматривать их как предшественники суббури или как ионосферный след ее триггера представляется нам необоснованным.
- Начиная с 20:36 UT (на рис. 1а момент Т1) структуры приобретают форму, напоминающую вихри.
- За несколько минут до этого спутник GEOTAIL, находящийся в вечернем секторе магнитосферы, регистрирует вариации плазмы и магнитного поля, которые мы интерпретируем как отклик на взаимодействие фронта неоднородности солнечного ветра с магнитосферой.
- Около 20:45 UT яркость дуги уменьшилась, а высота дуги увеличилась.
- Через минуту, в ~20:46 UT, через поле зрения KRN прошла последняя вихревая структура, после чего авроральная активность приобрела иную форму.
- В ~21:10 UT (на рис. 1а момент отмечен длинной серой стрелкой) на станции BJN, находящейся вблизи полюсной границы аврорального овала, регистрируется второе, более сильное возмущение (полярная суббуря). Аналогичная двухсуббуревая активность имела место и к востоку от области оптических наблюдений. Потенциально описанные в данной работе вихревые структуры могут иметь отношение к запуску полярной суббури. В связи со сказанным отметим работу [Rae et al., 2009], где связь волн светимости в предсуббуревой дуге с запуском суббури характеризуется как вполне вероятная, а также работы [Сафаргалеев и др., 2018] и [Safargaleev et al., 2020], где перед началом полярных суббурь вариация Bz-компоненты ММП демонстрировала квази-синусоидальный характер, что имело место и в рассмотренном случае.
4.2. Изменения высоты предсуббуревой дуги в процессе ее эволюции
Триангуляционные измерения высоты дуги проводились в целях выяснения вопроса: меняется ли высота свечения при изменении его интенсивности или нет? Интенсивность свечения определяется интенсивностью потока высыпающихся частиц и не обязательно должна сопровождаться изменением энергии частиц, приводящим к приближению или удалению нижнего края сияний от земной поверхности. Если же высота меняется (то есть меняется энергия частиц), это может способствовать пониманию магнитосферных процессов, “руководящих” дальнейшей эволюцией свечения в этой дуге. Уменьшение высоты мы трактуем в рамках появления продольной разности потенциалов в продольном токе на участке где-то между ионосферой и экваториальной плоскостью магнитосферы.
Триангуляционные измерения показали, что началу вихревой активности предшествовало уменьшение высоты дуги, в то время как окончанию вихревой активности предшествовало удаление дуги от земной поверхности. Можно сделать вывод, что вихревая авроральная активность была тем или иным образом обусловлена ускорением высыпающихся частиц.
4.3. Возможная природа геомагнитных пульсаций Рс5
Пульсации, информация о которых суммирована на рис. 2, не являются основным предметом исследования. Мы останавливаемся на этом вопросе, так как в ряде работ (см., например, работы [Solovyev et al., 2000; Rae et al., 2009] и ссылки в них) с вихревой активностью в дуге напрямую связывается возбуждение пульсаций Pi2. В нашем случае о такой связи говорить не приходится хотя бы потому, что максимум пульсаций Рс5 наблюдается не на широте дуги, как это было в процитированных выше работах, а на станции PEL, расположенной на 100 км южнее.
Из рис. 2б видно, что PEL находится вблизи экваториальной границы области пульсирующих и диффузных сияний. На кеограмме на рис. 1б эта граница начинает отчетливо идентифицироваться после уярчения исследуемой дуги, связанного, как отмечалось выше, с суббуревой активностью к востоку от области наблюдения. Из-за слабости диффузного свечения для идентификации его границы на отдельном кадре нам пришлось акцентировать ее искусственным образом — посредством сегмента дуги.
Главные особенности пульсаций — ярко выраженная локализация в меридиональном направлении, указывающая на альвеновский характер связанной с ними геомагнитной волновой активности, затухание и наличие кратковременного отрицательного импульса перед началом цуга. Особенности позволяют предположить, что наблюдаемые пульсации есть результат изменения проводимости ионосферы из-за усиления потока высыпающихся электронов, “ответственных” за пульсирующие и диффузные сияния (см., например, [Maltsev et al., 1974]). Площадь воздействия последних на ионосферу гораздо больше, чем для высыпаний, соответствующих авроральной дуге. Возможно, по этой причине диффузные высыпания более эффективно влияют на ионосферную проводимость, чем дискретные, и максимум пульсаций находится не под дугой.
Как возможную альтернативу предложенному механизму можно рассматривать перекачку энергии сложной волны, возбуждаемой внутри магнитосферы по той или иной причине, в альвеновскую моду (см., например, работу [Мазур и др., 2007] и ссылки в ней). Экваториальную границу диффузного свечения, вблизи которой располагалась станция PEL с максимальной амплитудой пульсаций, традиционно связывают с внутренней границей плазменного слоя [Gussenhoven et al., 1983]. Эта граница и может быть областью, где происходит перекачка энергии. Поиск причины генерации сложной волны представляет самостоятельную задачу, что выходит за рамки нашего исследования. Поэтому столь привлекательный механизм, объясняющий высокую степень локализации пульсаций, рассматривается нами как второстепенный.
4.4. Сценарий формирования вихреобразных структур в предсуббуревой дуге
Исследуемая дуга расположена на полюсной границе области диффузного свечения с вкраплениями пульсирующих сияний в виде ориентированных вдоль границы узких полос. В отличие от экваториальной границы диффузного свечения, положение и динамика его полюсной границы менее исследованы (см., например, [Gussenhoven et al., 1983]). Мы не делаем здесь попытку отождествить эту границу с какими-либо участками плазменного слоя, имея в виду замечание [Shiokava et al., 2020] о том, что простое картографирование силовых линий от ионосферы в хвост является ненадежным инструментом для установления однозначного соответствия между этими областями. Тем не менее сошлемся на результаты исследований [Motoba et al., 2015], которые считаем важными для интерпретации механизма формирования вихревых структур в дуге.
В работе [Motoba et al., 2015] было показано, что предсуббуревая дуга связана в магнитосфере с узкой (параметр Мак-Илвейна лежит в пределах L ~ 5.2—5.4) областью увеличенного плазменного давления. На внешней (дальней от Земли) границе этой области давление уменьшается по направлению в хвост (см. рис. 8f в указанной работе), то есть в направлении центробежной силы, действующей на баунсирующие между сопряженными ионосферами протоны. Поэтому здесь возможно развитие желобковой неустойчивости. Ранее с развитием желобковой неустойчивости в ближней части плазменного слоя связывалась генерация крупномасштабных волнообразных авроральных структур типа Ω-сияний [Yamamoto et al., 1997]. В работе [Haerendel and Frey, 2021] предсуббуревая дуга также связывалась со слоем плазмы повышенного давления, возникающего на некоторой границе (авторы назвали ее “внешней границей дипольной магнитосферы”) во время подготовительной фазы суббури.
Опираясь на результаты, изложенные в разделе 3.2, а также результаты [Akasofu and Kimball, 1964; и Keiling et al., 2009], упомянутые во Введении, мы будем рассматривать анализируемые нами структуры как суперпозицию двух самостоятельных авроральных явлений — крупномасштабного изгиба области, занятой диффузными/пульсирующими сияниями, включая ее полюсную границу, и вытянутые вдоль конвекции узкие языки на западном фронте изгибов. При этом мы полагаем, что каждому явлению присущ свой механизм генерации. Отметим, что в проекции на ионосферу толщина упомянутой выше области повышенного давления составляет ~40—50 км в меридиональном направлении. Примерно такую же ширину имеет область пульсирующих/диффузных сияний южнее дуги, подверженная крупномасштабной деформации типа изгиба.
Во Ведении отмечалось, что волнообразные структуры сияний традиционно объясняются неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца на внутримагнитосферной границе, разделяющей конвекционные потоки разного направления. Радарные измерения, во-первых, такую границу не обнаруживают и, во-вторых, показывают, что в этом временном секторе плазма конвектирует на запад (рис. 4), в то время как вихри перемещаются на восток (рис. 3а). По этим причинам связь вихрей с неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца в чистом виде представляется нам маловероятной.
Мы связываем крупномасштабные изгибы сияний, которые претерпевают не только рассматриваемая дуга, но и пульсирующие полосы вблизи ее экваториальной границы, с МГД-возмущением, инициируемым извне быстрым поворотом Bz-компоненты ММП к югу. Изменение Bz могло активизировать пересоединение на магнитопаузе и через периодическую эрозию привести к колебаниям магнитопаузы в направлении к Земле — от Земли. Пересоединение происходит там, где силовые линии ММП антипараллельны силовым линиям геомагнитного поля. В рассматриваемом случае ММП характеризуется отрицательным Bz и положительным By (см. рис. 6, верхняя панель), поэтому, исходя из топологии геомагнитного поля, область пересоединения будет сдвинута от подсолнечной точки к вечернему меридиану. Генерируемое таким образом возмущение, рассмотрение которого не является задачей исследования, распространяется от послеполуденной магнитопаузы вглубь магнитосферы как в радиальном, так и в азимутальном направлениях. В проекции на ионосферу такой характер распространения может объяснить наблюдаемое движение вихреобразных структур с вечера к полуночи.
Форма свечения на заднем фронте изгиба в виде языков и их множественный характер (на рис. 3б можно идентифицировать три и более языка) свидетельствует о том, что языки могут быть результатом желобковой неустойчивости на полюсной границе свечения. Языки вытянуты вдоль дуги, например, за счет снос а конвекцией плазменных желобков, первоначально ориентированных в магнитосфере в радиальном направлении от Земли, как это должно быть в случае классической желобковой неустойчивости. Либо, как было показано в работе [Волков и Мальцев, 1986], желобки изначально развивались под небольшим углом к дуге за счет несовпадения контуров B = const и p = const (здесь В — магнитное поле, р — давление плазмы). Такая модификация желобковой неустойчивости привлекалась ранее для объяснений ориентированных на Солнце (т.е. вдоль границы овала) дуг в утреннем секторе [Kozlovsky et al., 2007].
Желобковая неустойчивость является беспороговой. Любая малая флуктуация границы, разделяющей области плазмы с низким и высоким давлением, будет приводить к тому, что силовые трубки, заполненные плазмой высокого давления, будут удаляться от Земли, а на их место, двигаясь к Земле, придут силовые трубки с плазмой низкого давления. Однако, как было показано в работе [Swift et al., 1967], хорошо проводящая ионосфера будет препятствовать перестановке трубок, замедляя тем самым развитие неустойчивости.
Усиление интенсивности свечения дуги обусловлено усилением потока высыпающихся частиц, а значит, усилением связанного с дугой продольного тока. На наличие над дугой продольного тока указывалось, например, в работе [Keiling et al., 2009]. Если величина тока превысит критическое значение, в токе развивается неустойчивость, порождающая над дугой локальную область продольного электрического поля. На границах области появляется продольная разность потенциалов, препятствующая дальнейшему усилению тока. Появление продольной разности потенциалов “отключает” хорошо проводящую ионосферу, тормозящую перестановку трубок в магнитосфере [Atkinson, 2001], ускоряя тем самым эволюцию нарастающих плазменных желобков.
Отметим, что продольное электрическое поле (продольная разность потенциалов), ускоряя электроны, является препятствием для ионов. В результате между дугой и этой областью может возникнуть избыток отрицательного заряда, что может быть причиной так называемой неустойчивости зарядового слоя (charge-sheet instability). Появление авроральных вихрей объясняют этой неустойчивостью, например, [Webster and Hallinan, 1973].
5. Заключение
Проведено всестороннее исследование вихреобразных структур в предсуббуревой дуге при помощи двух камер полного обзора неба, установленных на севере Швеции.
Структуры наблюдались в предполуночные часы и представляли суперпозицию двух самостоятельных авроральных форм. Первая форма — крупномасштабный изгиб дуги по направлению к полюсу, включающий прилегающую к ней с юга область пульсирующих сияний. Вторая форма — напоминающие маленькие авроральные факелы светящиеся языки, вытянутые почти вдоль дуги. Формы наблюдаются как по отдельности, так и одновременно. Структура в целом лишь отдаленно напоминает классический вихрь или спираль, поскольку отсутствует закрученность по или против часовой стрелки. Поэтому в отношении нее в работе используется термин “вихреобразная структура”.
Вихреобразные структуры двигались с запада на восток. В контексте наземной геофизической обстановки движение происходило к очагу суббури, имевшей место восточнее области оптических наблюдений, и против крупномасштабной конвекции ионосферной плазмы. Такой характер движения не согласуется с результатами статистических исследований и не может быть объяснен непосредственно ни суббуревой активностью, ни особенностями конвекции. Отметим, что конвекционная неустойчивость (неустойчивость Кельвина-Гельмгольца и ее модификации) является наиболее распространенным объяснением авроральных вихрей.
Мы предполагаем, что появление крупномасштабной составляющей вихреобразных структур (изгиба) могло быть следствием взаимодействия магнитосферы с неоднородностью солнечного ветра, на фронте которой Bz-компонента меняла знак с плюса на минус, и это изменение носило периодический характер. Конфигурация ММП показывает, что область пересоединения могла быть сдвинута от полуденного меридиана в вечерний сектор. Распространяясь от послеполуденной магнитопаузы вглубь магнитосферы, возмущение вызывает движение вихреобразных структур с вечера к полуночи.
Триангуляционные измерения высоты дуги при изменении интенсивности ее свечения показали, что высота дуги меняется. Уярчение дуги незадолго до появления вихреобразных структур связано по времени с началом обыкновенной суббури восточнее области оптических наблюдений. Наблюдаемое при этом уменьшение высоты дуги обусловлено увеличением энергии высыпающихся электронов из-за ускорения в продольном электрическом поле, возникшем где-то между ионосферой и экваториальной плоскостью магнитосферы. Продольное электрическое поле (продольная разность потенциалов) “отключает” тормозящее влияние проводящей ионосферы, способствуя развитию желобковой неустойчивости. Ионосферным проявлением неустойчивости являются факельные структуры на западном фронте крупномасштабного изгиба границы диффузного свечения.
Форма регистрируемых в области оптических наблюдений геомагнитных пульсаций Рс5 напоминает форму пульсаций Psc5, регистрируемых на земле во время событий SC (sudden commencement) и SI (sudden impulses). Поскольку начало пульсаций связано по времени с уярчением сияний, мы, подобно Psc5, объясняем их генерацию локальным увеличением ионосферной проводимости, вызванным усилением потока высыпающихся частиц незадолго до начала формирования вихреобразных структур. Ранее такие пульсации связывались непосредственно с вихреобразными структурами.
Благодарности
Данные камер KRN и TJA были взяты с сайта Национального института полярных исследований Японии (NIPR, https://scidbase.nipr.ac.jp/) до его реконструкции и на момент подготовки статьи находились в свободном доступе. Мы признательны проекту PsA, в рамках которого функционировали камеры и данные размещались в сети Интернет. Координаты спутников определялись при помощи онлайн процедуры SSC 4D Orbit Viewer (https://sscweb.gsfc.nasa.gov). Пакет программ для триангуляционных измерений подготовлен Б. Густавссоном (Университет Тромсе). Данные сети IMAGE доступны на сайте (https://space.fmi.fi/MIRACLE). Данные магнитометров AMD и DIK предоставлены Калишиным А.С. (ААНИИ). ВС благодарит Митрофанова В.Н. (ПГИ) за помощь в работе с оптическими данными.
About the authors
V. V. Safargaleev
Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio Wave Propagation, Russian Academy of Sciences; Polar Geophysical Institute, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: Vladimir.safargaleev@pgia.ru
St. Petersburg Department
Russian Federation, St. Petersburg; Murmansk region, ApatityT. I. Sergienko
Swedish Institute of Space Physics
Email: Vladimir.safargaleev@pgia.ru
Sweden, Kiruna
A. L. Kotikov
Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio Wave Propagation, Russian Academy of Sciences; Geophysical Center, Russian Academy of Sciences
Email: Vladimir.safargaleev@pgia.ru
St. Petersburg Department
Russian Federation, St. Petersburg; MoscowA. V. Safargaleev
LSR Management Company
Email: Vladimir.safargaleev@pgia.ru
Russian Federation, St. Petersburg
References
- Волков М.А., Мальцев Ю.П. Желобковая неустойчивость внутренней границы плазменного слоя // Геомагнетизм и аэрономия. T. 26. C. 793—801. 1986.
- Галеев А.А., Сагдеев Р.З. Токовые неустойчивости и аномальное сопротивление плазмы // Основы физики плазмы. В двух томах. Дополнение к второму тому. Ред. А.А. Галеев и Р. Судан. М.: Энергоатомиздат, С. 5—37, 1984.
- Клейменова Н.Г., Антонова Е.Е., Козырева О.В., Малышева Л.М., Корнилова Т.А., Корнилов И.А. Волновая структура магнитных суббурь в полярных широтах // Геомагнетизм и аэрономия. Т. 52. № 6. С. 785—793. 2012. doi: 10.1134/S0016793212060059
- Мазур Н.Г., Федоров Е.Н., Пилипенко В.А. Трансформация БМЗ волн в альфвеновские в гиротропной продольно-неоднородной плазме // Физика плазмы. Т. 33. № 6. С. 526—533. 2007.
- Сафаргалеев В.В., Митрофанов В.Н., Козловский А.Е. Комплексный анализ полярной суббури по данным магнитных, оптических и радарных наблюдений в окрестности Шпицбергена // Геомагнетизм и аэрономия. Т. 58. № 6. С. 828—844. 2018. doi: 10.1134/S0016793218040151
- Akasofu S.-I., Kimball D.S. The dynamics of the aurora—I: Instabilities of the aurora // J. Atm. Terr .Phys. V. 26. № 2. P. 0—211. 1964. https://doi.org/10.1016/0021-9169(64)90147-3
- Atkinson G. Decoupling of convection in the magnetosphere from the ionosphere by parallel electric fields // AGU Fall Meeting 2001, abstract No SM51A-0784, AGU. 2001.
- Davis T.N., Hallinan, T.J. Auroral Spirals 1. Observations // J. Geophys. Res. V. 81. № 22. P. 3953—3958. 1976. https://doi.org/10.1029/JA081i022p03953
- Golovchanskaya I., Kornilov I., Kornilova T. East-west type precursor activity prior to the auroral onset: Ground-based and THEMIS observations // J. Geophys. Res. V. 120. № 2. P. 1109—1123. 2015. https://doi.org/10.1002/2014JA020081
- Gussenhoven M.S., Hardy D.A., Heinemann N. Systematics of the equatorward diffuse auroral boundary // J. Geophys. Res. V. 88. № 7. P. 5692—5708. 1983. https://doi.org/10.1029/JA088iA07p05692
- Gustavsson B. Tomographic inversion for ALIS noise and resolution // J. Geophys. Res. V. 103. № 11. P. 26621—26632. 1998. https://doi.org/10.1029/98JA00678
- Haerendel G. and Frey H. The onset of a substorm and the mating instability // J. Geophys. Res. V. 126. e2021JA029492.2021. https://doi.org/10.1029/2021JA029492
- Hallinan T.J., Davis T.N. Small-scale auroral arc distortions // Planet. Space Sci. V. 18. № 12. P. 1735—1744. 1970. https://doi.org/10.1016/0032-0633(70)90007-3
- Johnstone A.D. Pulsating aurora // Nature. V. 274. № 5667. P. 119—126. 1978. doi: 10.1038/274119a0
- Kalmoni N.M.E., Rae I.J., Murphy K.R., C. Forsyth C., Watt C.E.J., Owen C.J. Statistical azimuthal structuring of the substorm onset arc: Implications for the onset mechanism // Geophys. Res. Lett. V. 44. № 5. P. 2078—2087. 2017. https://doi.org/10.1002/2016GL071826
- Keiling A., Angelopoulos V., Weygand J.M., et al. THEMIS ground-space observations during the development of auroral spirals // Ann. Geophys. V. 27. № 11. P. 4317—4332. 2009. doi: 10.5194/angeo-27-4317-2009
- Keiling A., Shiokawa K., Uritsky V., et al. Auroral signatures of the dynamic plasma sheet. In: Keiling A. et al. (eds): Auroral Phenomenology and Magnetospheric Processes: Earth and Other Planets. Geophys. Monograph. Series. V. 197. P. 317—336. American Geophysical Union, Washington, D.C. 2012. https://doi.org/10.1029/2012GM001231
- Kozlovsky A., Aikio A., Turunen T., Nilsson H., Sergienko T., Safargaleev V., Kauristie K. Dynamics and electric currents of morningside Sun-aligned auroral arcs // J. Geophys. Res. V. 112. № 6. A063061of12. 2007. https://doi.org/10.1029/2006JA012244
- Li B., Marklund G., Karlsson T., et al. Inverted-V and low-energy broadband electron acceleration features of multiple auroras within a large-scale surge // J. Geophys. Res. V. 118. № 9. P. 5543—5552. 2013. https://doi.org/10.1002/jgra.50517
- Lyons L.R., Nishimura Y., Liu J., Bristow W.A., Zou Y., Donovan E.F. Verification of substormonset from intruding flow channels with high-resolution SuperDARN radar flow maps // J. Geophys. Res. V. 127. e2022JA030723. 2022. https://doi.org/10.1029/2022JA030723
- Maltsev Yu.P., Leontyev S.V., Lyatsky W.B. Pi-2 pulsations as a result of evolution of an Alfven impulse originating in the ionosphere during a brightening of aurora // Planet. Space Sci. V. 22. P. 1519—1533. 1974. doi: 10.1016/0032-0633(74)90017-8
- Motoba T., Ohtani S., Anderson B.J., Korth H., Mitchell D., Lanzerotti L.J., Shiokawa K., Connors M., Kletzing C.A., Reeves G.D. On the formation and origin of substorm growth phase/onset auroral arcs inferred from conjugate space-ground observations // J. Geophys. Res. V. 120. № 10. P. 8707—8722. 2015. https://doi.org/10.1002/2015JA021676
- Oguti T. Rotational deformations and related drift motions of auroral arcs. J. Geophys. Res. V. 79. № 25. P. 3861—3865. 1974. https://doi.org/10.1029/JA079i025p03861
- Panov E.V., Baumjohann W., Nakamura R., Pritchett P.L., Weygand J.M., Kubyshkina M.V. Ionospheric footprints of detached magnetotail interchange heads // Geophys. Res. Lett. V. 46. № 13. P. 7237—7247. 2019. https://doi.org/10.1029/2019GL083070
- Partamies N., Kauristie K., Pulkkinen T.I., Brittnacher M. Statistical study of auroral spirals // J. Geophys. Res. V. 106. № 8. P. 15415—15428. 2001. https://doi.org/10.1029/2000JA900172
- Pudovkin M.I., Steen A., Brändström U. Vorticity in the magnetospheric plasma and its signatures in aurora dynamics // Space Sci. Rev. V. 80. P. 411—444. 1997. https://doi.org/10.1023/A:1004916808514
- Rae I. J., Mann I.R., Murphy K.R. et al. Timing and localization of ionospheric signatures associated with substorm expansion phase onset // J. Geophys. Res. V. 114. № 1 A00C09. 2009. https://doi.org/10.1029/2008JA013559
- Safargaleev V., Sergienko T., Nilsson H., Kozlovsky A., Massetti S., Osipenko S., Kotikov A. Combined optical, EISCAT and magnetic observations of the omega bands/Ps6 pulsations and an auroral torch in the late morning hours: a case study // Ann. Geophys. V. 23. № 5. P. 1821—1838. 2005. doi: 10.5194/angeo-23-1821-2005
- Safargaleev V., Kozlovsky A., Honary F., Voronin A. Geomagnetic disturbances on ground associated with particle precipitation during SC // Ann. Geophys. V. 28. № 1. P. 247—265. 2010. https://doi.org/10.5194/angeo-28-247-2010
- Safargaleev V.V., Kozlovsky A.E., Mitrofanov V.M. Polar substorm on 7 December 2015: preonset phenomena and features of auroral breakup // Ann. Geophys. V. 38. № 4. P. 901—918. 2020. https://doi.org/10.5194/angeo-38-901-2020
- Safargaleev V., Sergienko T., Hosokawa K. Oyam S-I., Ogawa Y., Miyoshi Y., Kurita S., Fujii R. Altitude of pulsating arcs as inferred from tomographic measurements // Earth Planets Space. V. 74. № 1. Article id.31. 2022. https://doi.org/10.1186/s40623-022-01592-8
- Samson J.C., Cogger L.L., Pao Q. Observations of field line resonances, auroral arcs, and auroral vortex structures // J. Geophys. Res. V. 101. № 8. P. 17373—17383. 1996. https://doi.org/10.1029/96JA01086
- Sato N., Wright D.M., Carlson C.W., Ebihara Y., Sato M., Saemundsson T., Milan S., Lester M. Generation region of pulsating aurora obtained simultaneously by the FAST satellite and a Syowa-Iceland conjugate pair of observatories // J. Geophys. Res. V. 109. № 10. A10201. 2004. https://doi.org/10.1029/2004JA010419
- Shiokawa K., Nosé M., Imajo S., et al. Arase observation of the source region of auroral arcs and diffuse auroras in the inner magnetosphere // J. Geophys. Res. V. 125. № 8. Article id. e27310. 2020. https://doi.org/10.1029/2019JA027310
- Solovyev S.I., Baishev D.G., Barkova E.S., Molochushkin N.E., Yumoto K. Pi2 magnetic pulsations as response on spatio-temporal oscillations of auroral arc current system // Geophys. Res. Letters. V. 27. № 13. P. 1839—1842. 2000. https://doi.org/10.1029/2000GL000037
- Swift D. The possible relationship between the auroral breakup and the interchange instability of the ring current // Planet. Space Sci. V. 15. № 8. P. 1225—1226. 1967. doi: 10.1016/0032-0633(67)90179-1
- Trondsen T., Cogger L. A survey of small-scale spatially periodic distortions of auroral forms // J. Geophys. Res. V. 103. № 5. P. 9405—9415. 1998. https://doi.org/10.1029/98JA00619
- Voronkov I., Rankin R., Frycz P., Tikhonchuk V.T., Samson J.C. Coupling of shear flow and pressure gradient instabilities // J. Geophys. Res. V. 102. № 5. P. 9639—9650. 1997. https://doi.org/10.1029/97JA00386
- Webster H.F., Hallinan T.J. Instabilities in charge sheets and current sheets and their possible occurrence in the aurora // Radio Sci. V. 8. № 5. P. 475—482. 1975. https://doi.org/10.1029/RS008i005p00475
- Yamamoto T., Inoe S., Meng C.-I. Formation of auroral omega bands in the paired region 1 and region 2 field-aligned current system // J. Geophys. Res. V. 102. № 2. P. 2531—2544. 1997. https://doi.org/10.1029/96JA02456
- Yamamoto T. Numerical simulation for a vortex street near the poleward boundary of the nighttime auroral oval // J. Geophys. Res. V. 117. № 2. A02209. 2012. https://doi.org/10.1029/2011JA017011
Supplementary files