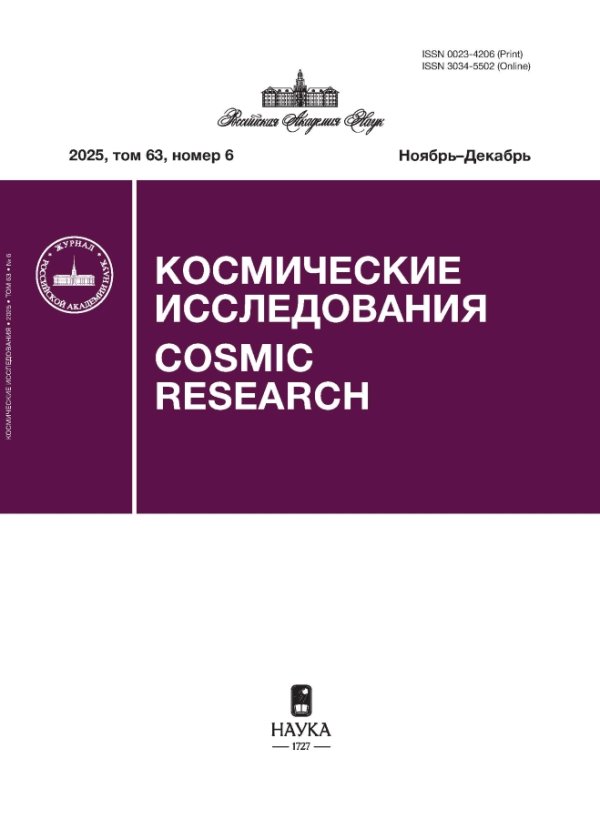Источники солнечных протонов в событиях 24–25 февраля и 16–17 июля 2023 года
- Authors: Струминский А.Б.1, Садовский А.М.1, Григорьева И.Ю.2
-
Affiliations:
- Институт космических исследований РАН
- Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН
- Issue: Vol 62, No 2 (2024)
- Pages: 188-200
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0023-4206/article/view/260489
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023420624020052
- EDN: https://elibrary.ru/kzclxb
- ID: 260489
Cite item
Full Text
Abstract
C начала января 2021 г. по конец августа 2023 г. монитор радиационной обстановки космического аппарата Спектр-РГ зарегистрировал три возрастания темпа счета, которые превышают вариации фона в ходе цикла солнечной активности и имеют сопоставимую максимальную величину. Эти возрастания связаны с солнечными протонными событиями от вспышек Х1.0 28 октября 2021 г., M6.3 25 февраля и M5.7 17 июля 2023 г. На примере этих событий, а также меньших солнечных протонных событий от вспышек M3.7 24 февраля и M4.0 16 июля 2023 г. обсуждаются пороговые критерии «протонных» вспышек. В мощных солнечных протонных событиях вклад от солнечных протонов в радиационную дозу может превысить суммарный вклад от галактического космического излучения за достаточно длительный период, поэтому такие солнечные протонные события являются источниками повышенной радиационной опасности и нуждаются в прогнозировании по наблюдениям в реальном времени. Показано, что в этих пяти вспышках были преодолены пороги по трем критериям: температуре плазмы >12 MK (источник мягких рентгеновских лучей), длительности (>5 мин) микроволнового или жесткого рентгеновского излучения (ускорения электронов >100 кэВ), высоте развития вспышечного процесса >60 Мм (радиоизлучение на плазменных частотах <610 МГц).
Приход первых солнечных протонов >100 МэВ на орбиту Земли был ожидаем не ранее 10 мин относительно начала жесткого рентгеновского или микроволнового излучения, т. е. мог быть предсказан заблаговременно. Для исследования взаимосвязи солнечных вспышек и протонных событий использовались данные антисовпадательной защиты спектрометра на ИНТЕГРАЛе (ACS SPI), которая представляет собой эффективный, но не калиброванный детектор жесткого рентгеновского излучения >100 кэВ и протонов >100 МэВ, а также патрульные наблюдения радиоизлучения на фиксированных частотах (Radio Solar Telescope Network). Отмечается, что вспышка Х2.2 (N25E64) 17 февраля 2023 г. удовлетворяла всем трем критериям «протонности» и могла стать источником мощного солнечного протонного события вблизи Земли при условии благоприятного расположения на Солнце. Во вспышке M8.6 (N27W29) 28 февраля 2023 г. не был выполнен третий критерий, и она ожидаемо не привела к солнечному протонному событию (развивалась в плазме с плотностью >2.5·1010см−3, плазменная частота >1415 МГц).
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Телескоп СРГ/ART-XC им. М. Н. Павлинского обладает чувствительными детекторами для регистрации первичного рентгеновского излучения слабых далеких источников, поэтому вторичное рентгеновское излучение от космических лучей является для него вредным фоном (EHXR > 60 кэВ). Во время солнечного протонного события (СПС) 28 октября 2021 г. [1–3], сопровождавшегося наземным возрастанием интенсивности космических лучей (англ. Ground Level Enhancement – GLE), детекторы ART-XC зарегистрировали четырехкратный рост фона. Руководство ART-XC приняло решение сделать информацию о радиационной обстановке в точке Лагранжа L2 общедоступной и начать выкладывать данные о фоне детекторов на сайте (https://monitor.srg.cosmos.ru). Монитор радиационной обстановки СРГ/ART-XC предоставляет усредненную скорость счета детекторов за 10 мин (кривые блеска) в энергетическом диапазоне 60–120 кэВ с задержкой в 1 сут. Пользователь может построить кривые темпа счета ART-XC за различные промежутки времени от 3 последних дней до всего времени наблюдения.
Рис. 1. Радиационная обстановка в точке L2 по данным СРГ/ART-XC: (а) с начала января 2021 г. по конец августа 2023 г.; (б) с 24 по 28 февраля 2023 г.; (в) с 15 по 20 июля 2023 г.
На рис. 1а представлен скриншот экрана в момент, когда была построена кривая блеска монитора радиационной обстановки с начала января 2021 г. по конец августа 2023 г. На таком масштабе времени отлично виден эффект модуляции космических лучей в цикле солнечной активности (октябрь 2021 г., фаза роста вблизи минимума 24–25-го циклов, июль 2023 г. – фаза роста вблизи максимума цикла). Глубина модуляции зависит от энергии галактического космического излучения (ГКЛ) и изменяется от единиц процентов на экваториальных нейтронных мониторах до ≈20% на полярных нейтронных мониторах, до сотен процентов при измерениях в стратосфере и до порядка величины в открытом космосе [4]. На рис. 1а видны три возрастания, которые превышают вариации фона ГКЛ в цикле активности, имеют сопоставимую интенсивность и связаны с приходом солнечных космических лучей. Вклад одного мощного СПС в радиационную дозу может превышать суммарный вклад от ГКЛ за длительный период. Именно такие события нуждаются в прогнозировании по наблюдениям в реальном времени для обеспечения безопасной космической деятельности. Меньшие события представляют лишь ограниченный, в основном академический интерес.
По каталогу протонных событий 25-го цикла (https://swx.sinp.msu.ru/apps/sep_events_cat/index.php?gcm=1&lang=ru) с этими тремя большими возрастаниями темпа счета монитора радиационной обстановки СРГ/ART-XC (рис. 1а) можно связать пять СПС – 28 октября 2021 г., 24 и 25 февраля 2023 г., 16 и 18 июля 2023 г. На временном масштабе порядка нескольких дней видно, что монитор СРГ/ART-XC (рис. 1б) не зарегистрировал возрастания от СПС 24 февраля 2023 г., а в СПС 16 июля 2023 г. (рис. 1в) было два последовательных возрастания, возможно, от разных солнечных источников.
Событие 28 октября 2021 г. полностью укладывается в концепцию ускорения солнечных протонов >100 МэВ [5] в длительных эруптивных вспышках на фоне ускорения корональных выбросов массы (КВМ). Отрезок времени во вспышках, в котором ускоряются протоны, длится несколько минут и более и характеризуется: температурой плазмы >12 МК, излучающей мягкие рентгеновские лучи (SXR); ускорением электронов до энергий >100 кэВ (т. е. жесткими рентгеновскими лучами (HXR) >100 кэВ и/или микроволновым излучением на частотах >1.5 ГГц) и развитием вспышечного процесса вверх в корону (плазменное излучение на частотах <610 МГц) [6]. Итогом развития вспышечного процесса вверх в корону является ускорение КВМ. Отсутствие радиоизлучения на частотах <1415 МГц характерно для вспышек без КВМ и СПС 23-го и 24-го солнечных циклов, исследованных в работах [7] и [8, 9] соответственно.
В статье [6] было высказано предположение, что ускорение протонов с энергией более 1 МэВ возможно при электронной температуре плазмы ~10 МК. При такой температуре скорости тепловых электронов и протонов с энергией ~1 МэВ примерно равны, что поможет сохранить электронейтральность плазмы при одновременном ускорении протонов и электронов. Из принципа электронейтральности также следует, что при взаимодействии протонов в плазме генерация π0-мезонов будет возможна при энергии электронов ~150 кэВ (протоны с E ~ 300 МэВ эквивалентны по скоростям электронам c E ~ 150 кэВ). Следовательно, ускорение солнечных протонов >100 МэВ должно происходить на фоне микроволнового (ГГц) или HXR-излучения с E > 100 кэВ.
Для достижения протонами скоростей, равных скоростям электронов, требуется время, как минимум в mp/me раз большее, поэтому, ключевым моментом для оценки времени ускорения протонов является время ускорения электронов до энергий ~100 кэВ [10], которое определяет необходимую длительность наблюдения HXR-излучения с E > 100 кэВ и/или микроволнового излучения, а также ожидаемый момент прихода первых ускоренных протонов на Землю при свободном распространении в межпланетном пространстве (МП).
Наблюдательные данные показывают, что время ускорения электронов до кинетической энергии ~100 кэВ составляет порядка ~400 мс [11]. Также наблюдаются задержки между HXR-всплесками на различных энергиях электронов (20, 50, 100, 200 и 300 кэВ) порядка десятков миллисекунд, которые могут быть обусловлены временем ускорения электронов [12, 13]. Время, необходимое для набора протонами E ~ 200 МэВ, будет ~1 мин при ускорении электронов до кинетической энергии ~100 кэВ за 40 мс («быстрое» ускорение) или ~10 мин при ускорении электронов до ~100 кэВ за 400 мс («медленное» ускорение) [6].
Если за ноль времени в солнечных событиях принять начало микроволнового излучения 8.8– 15.4 ГГц (оно обычно совпадает с появлением значимого сигнала HXR-излучения с E ~ 100 кэВ), то ожидаемое время прихода протонов с E ~ 200 МэВ (V/c = 0.57) на орбиту Земли будет ~11 мин и ~21 мин при «быстром» и «медленном» ускорении соответственно, и последующем распространении без рассеяния по спирали Паркера до Земли (1.3 а. е., скорость солнечного ветра – 300 км/с). Таким образом, неопределенность характерного времени ускорения солнечных электронов до E ~ 100 кэВ обуславливает неопределенность времени первого прихода СП с E ~ 200 МэВ на орбиту Земли и составляет порядка 10 мин [6]. Необходимое время (характерный размер) для ускорения протонов >100 МэВ задает, по всей видимости, развитие вспышечного процесса вверх, связанное с ускорением КВМ. Также в неопределенность около 11 мин укладывается эффект дисперсии по скоростям между протонами 100 МэВ (V/c = 0.43) и 500 МэВ (V/c = 0.76).
Эти идеи были развиты нами в работе [6] и стали основой предложений для сверхсрочного прогноза СПС в реальном времени [14]. В ходе солнечной вспышки, сопровождающейся СПС, должны последовательно преодолеваться четыре энергетических порога: по температуре вспышечной плазмы, по энергии и длительности ускорения электронов, по развитию процесса вверх в корону и по ускорению межпланетного КВМ (>618 км/с на поверхности Солнца).
Целью работы является ответ на вопрос, можно ли было предсказать эти пять СПС заблаговременно по наблюдаемому солнечному электромагнитному излучению в реальном времени? В работе сделана привязка наблюдавшихся в это время СПС к конкретным солнечным вспышкам; определен необходимый темп ускорения протонов на Солнце для объяснения наблюдаемого времени первого прихода солнечных протонов на орбиту Земли; обсуждены критерии прогноза «протонных» вспышек [14]. Для сравнения к этим пяти событиям добавлены еще две солнечные вспышки – 17 и 28 февраля 2023 г., от которых не были зарегистрированы солнечные энергичные протоны.
ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ
Временное разрешение монитора радиационной обстановки ART-XC не позволяет решать поставленные задачи, в частности нет возможности разделить первичные солнечные HXR и вторичные HXR (связанные с приходом солнечных протонов). В работе исследовались протонные возрастания монитора ART-XC с использованием данных других детекторов, т. е. решалась обратная задача их прогноза: определялась последовательность характеристик родительской солнечной вспышки, которая привела к СПС. Если такая последовательность характеристик будет наблюдаться в будущем, то через 10–20 мин следует ожидать начало протонного возрастания >100 МэВ.
Антисовпадательная защита спектрометра на КА ИНТЕГРАЛ (англ. Anti-Coincidence Shield of Spectrometer on INTEGRAL – ACS SPI) регистрирует HXR с E > 100 кэВ. Это могут быть как первичные фотоны, так и вторичные, рожденные в теле детектора под воздействием протонов c E > 100 МэВ. Защита ACS SPI представляет собой эффективный, но не калиброванный детектор HXR и протонов, с помощью его данных мы уже исследовали ранее взаимосвязь солнечных вспышек и протонных событий [5, 6, 9, 10]. Данные ACS SPI доступны на сайте (https://isdc.unige.ch/~savchenk/spiacs-online/spiacspnlc.pl) с временным разрешением 50 мс. При одноминутном сглаживании и вычитании фона значимым становится темп счета ACS SPI – менее 10 отсчетов за 50 мс [9]. Возрастание темпа счета ACS SPI во время наблюдения солнечного радиоизлучения вызвано солнечным HXR-излучением. Моментом первого прихода СП на орбиту Земли считаем начало значимого возрастания темпа счета на фоне или после всплеска солнечного HXR-излучения [6].
Для контроля за интенсивностью потоков протонов энергий <100 МэВ и релятивистских электронов в МП вблизи Земли используются данные протонных каналов (7.8–25 МэВ и 25–53 МэВ) и электронных каналов детектора EPHIN (англ. Electron Proton Helium Instrument) [15] на борту КА SOHO, который находится в точке Лагранжа L1. Данные SOHO/EPHIN были взяты на сайте (www2.physik.uni-kiel.de/SOHO/phpeph/EPHIN.htm). При анализе СПС используются оценки максимального потока протонов с E > 10 МэВ, указанные в каталоге СПС 25-го цикла солнечной активности НИИЯФ МГУ (https://swx.sinp.msu.ru/apps/sep_events_cat/index.php?gcm=1&lang=ru).
Температура (Т) и мера эмиссии (ЕМ) вспышечной плазмы были вычислены из 2-секундных интегральных потоков SXR-излучения в каналах 1–8 и 0.5–4 Å детектора КА GOES (англ. Geostationary Operational Environmental Satellite, https://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/) в пакете SolarSoft в однотемпературном приближении.
В данной работе используется информация о радиоизлучении, представленная в YYYYMMDDevents.txt файлах (https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/NOAA/org_events_text/2023/). Эти файлы содержат информацию о начале, максимуме и конце наблюдавшегося радиоизлучения на восьми патрульных частотах Radio Solar Telescope Network (RSTN). На четырех из них (15.4, 8.8, 4.995 и 2.695 ГГц) регистрируется преимущественно гиросинхротронное излучение, а на трех (610, 410 и 245 МГц) – плазменное излучение, на частоте 1415 МГц возможен вклад обоих механизмов. Первичное ускорение электронов во вспышках с КВМ происходит в местах с плазменной частотой ~500 МГц [16]. По величине эмиссии (EM) и наблюдавшимся плазменным частотам можно делать оценки размера SXR источника [17].
Таблица 1. Общие характеристики вспышек и КВМ
Параметры | События | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6а | 6б | 7 | |
А | 28.X.21 15:27 UT | 17.II.23 19:57 UT | 24.II.23 20:23 UT | 25.II.23 19:23 UT | 28.II.23 17:43 UT | 16.VII.23 04:33 UT | 16.VII.23 17:38 UT | 17.VII.23 23:25 UT |
Б | S26W05 2N 2887 | N25E64 2B 3229 | N28W28 2B 3229 | N26W43 3N 3229 | N27W29 3234 | S23W49 SF 3363 | S23W58 2B 3363 | S26W87 3363 |
В | X1.0 −10 | X2.2 −19 | M3.7 −20 | M6.3 −43 | M8.6 −8 | C1.9 +16 | M4.0 −2 | M5.7 −7 |
Г | 0 +17 | −5 >+100 | −3 +10 | −6 +40 | −3 +14 | ? | +2 +15 | −3 +25 |
Д | 0 +20 | 0 нет | нет +25 | 0 +25 | нет нет | нет +30 | 0 +13 | 0 +30 |
E | 15400 0 +10 | 15400 0 +19 | 15400 0 +1 | 8800 +5 +17 | 15400 0 +5 | 245 0 +5 | 15400 0 +3 | 15400 +10 +21 |
Ж | 245 0 +25 | 245 −8 −7 | 245 −4 +3 | 410 +3 +22 | 2695 −1 0 | 245 0 +5 | 245 −1 +6 | 245 −12 +25 |
З | IV +5 +102 | нет | IV +5 +216 | CTM −130 +276 | нет | CTM −1 +291 | V 0 +14 | CTM +35 +374 |
И | +2 +26 | 0 +39 | нет | 0 +14 | нет | нет | нет | нет |
К | +21 1526 189 | +15 1315 56 | +13 1336 345 | +1 1170 294 | нет | +9 1970 275 | +15 1239 220 | +11 1385 223 |
Л | 22 | фон | 0.75 | 35 | фон | 18 | ? | 614 |
Примечание: А – дата события и нулевое время; Б – координаты, оптический балл, номер активной области; В – балл и начало SXR-вспышки; Г – начало и конец SXR-температуры по данным GOES (>12МК); Д – начало регистрации ACS SPI солнечного HXR-излучения и начало протонного возрастания ACS SPI; Е – наибольшая зарегистрированная RSTN частота МГц, начало и конец возрастания; Ж – наименьшая зарегистрированная RSTN частота МГц, начало и конец возрастания; З – тип непрерывного радиоизлучения, <180 МГц, начало и конец; И – начало и конец II типа радиоизлучения; K – время (UT) первого появления КВМ в поле зрения LASCO и средняя скорость км/с, угол PA; Л – единицы потока протонов >10 МэВ на орбите Земли (1 pfu = 1(см2 с ср)−1). В строках от «В» до «К» время дано в минутах относительно нуля в каждом событии.
О развитии вспышечного процесса вверх в корону свидетельствуют радиовсплески на частотах <180 МГц: II типа – медленно дрейфующий всплеск, обычно ассоциируемый с распространением в короне ударной волны; IV типа – всплеск с широким, сглаженным и непрерывным спектром, который связывают с ускорением и захватом электронов в постэруптивной аркаде; V типа – короткий непрерывный всплеск, обычно связанный с серией всплесков; III типа – быстрый дрейфующий всплеск; CTM – широкополосный, долгоживущий, непрерывный декаметровый всплеск. В статье [18] развит метод предсказания СПС на основе наблюдений только всплесков II и IV типов. Теоретические подходы к радиовсплескам V типа разрабатывались в работе [19].
В табл. 1 представлены основные характеристики рассматриваемых СПС и солнечных вспышек. Данные по наблюдениям КВМ взяты из электронного каталога SOHO LASCO CME CATALOG (/cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/) [20]. Все события пронумерованы в хронологическом порядке. События исследуются относительно выбранного нулевого времени. За ноль времени выбрано начало роста интенсивности HXR-излучения, если оно наблюдалось ACS SPI. В противном случае за ноль времени принято начало роста микроволнового излучения на наибольшей частоте, наблюдавшейся RSTN.
ТЕМП СЧЕТА ACS SPI В СОБЫТИЯХ 24–25 ФЕВРАЛЯ И 16–18 ИЮЛЯ 2023 ГОДА
Возрастания протонного сигнала ACS SPI в событиях 1, 3, 4 и 7 однозначно связаны с солнечными вспышками (табл. 1), но однозначности нет в событии 6. В каталоге 25-го цикла (https://swx.sinp.msu.ru/apps/sep_events_cat/index.php?gcm=1&lang=ru) СПС 16 июля 2023 г. с началом в 05:40 UT и максимумом 07:35 UT ассоциируют сo вспышкой C3.7 15 июля в 21:04 UT c координатами N24E25. Мы четко видим два протонных возрастания ACS SPI с началом ~04:57 UT (6а) и ~17:51 UT (6б). Характер кривых блеска ACS SPI позволяет связать возрастание в событии 6а с корональным радиоизлучением и вспышкой С1.9, а возрастание в событии 6б со вспышкой М4.0 (табл. 1). В событии 6б наблюдаемые потоки протонов ГКЛ и солнечных космических лучей могли быть промодулированы межпланетной структурой после 18:00 UT (+22 мин).
Отметим, что такая привязка протонного возрастания (6а) противоречит критериям [14] для предсказания СПС – температура плазмы не поднималась выше 12 МК, не было зарегистрированного HXR или микроволнового излучения, что не исключает залимбовый источник протонов. Действительно, рентгеновский телескоп STIX (англ. Spectrometer / Telescope for Imaging X-rays) на борту КА Solar Orbiter, который находился в гелиосфере на противоположной стороне Солнца от Земли, зарегистрировал 16 июля 2023 г. в 04:33 UT HXR-всплеск (https://datacenter.stix.i4ds.net/view/ql/lightcurves). Согласно каталогу STIX всплеск связан со вспышкой C1.9, зарегистрированной GOES вблизи Земли. Амплитуда всплеска, пересчитанная в SXR диапазон GOES, соответствует баллу X9 (с возможной ошибкой от X4 до X19).
Рис. 2. Полный темп счета ACS SPI за 50 мс, сглаженный за 1 мин, вблизи ноля времени событий: (1) – 28 октября 2021 г., (3) – 24 февраля 2023 г., (4) – 25 февраля 2023 г., (6а) – 16 июля 2023 г., (7) – 17 июля 2023 г. (табл. 1).
На рис. 2 показан сглаженный за одну минуту темп счета ACS SPI за 50 мс в событиях 1, 3, 4, 6а и 7, глубина модуляции ГКЛ между 28 октября 2021 г. и 17 июля 2023 г. составляет 39.3%. Это показывает, что ACS SPI чувствителен к протонам меньшей энергии, чем полярные нейтронные мониторы (энергия атмосферного обрезания ~450 МэВ). Интенсивность протонов ГКЛ >100 МэВ в максимуме JГКЛ ~ 0.1 (см2 с ср)−1 соответствует фоновому темпу счета Nфон1 = 6843 имп/50 мс (28 октября 2021 г.), в СПС с амлитудой больше модуляции ГКЛ поток протонов >100 MэВ должен быть (см2 с ср)−1.
Можно оценить J100 в СПС по данным ACS SPI, зная фоновый счет Nфон и наблюдаемый счет N: J100 = JГКЛ (N − Nфон)/ Nфон1. Результаты этих оценок приведены в табл. 2. Наблюдавшийся максимальный поток протонов >10 МэВ в событии 1 был J10 = 22 (см2 с ср)−1, а в событии 7 – J10 = 614 (см2 с ср)−1 (табл. 1). Для степенного спектра оценка его показателя будет Подставляя числа для событий 1 и 7 получаем соответственно γ = 1.7 и γ = 3.4. Если для оценки J10 взять J100 в событиях с амплитудой меньше модуляции ГКЛ, то при γ = 1.7 получим (см2 с ср)−1 (ниже порога СПС) и при γ = 3.4 получим J10 = 100 (см2 с ср)−1 (выше порога СПС).
На рис. 3а построены кривые блеска ACS SPI в событиях, которые превышают амплитуду модуляции ГКЛ (рис. 1а) – 28 октября 2021 г. (1), 25 февраля (4) и 17 июля (7) 2023 г., а также во время и после вспышки X2.2 17 февраля 2023 г. – событие 2. Во всех этих четырех событиях на рис. 3а после 0 мин видны возрастания темпа счета ACS SPI, связанные с солнечным HXR-излучением. В событиях 1, 4 и 7 протонное возрастание в темпе счета ACS SPI наблюдалось позднее 20 мин. Мы считаем, что вспышка 2 могла бы стать источником такого же мощного СПС при благоприятном расположении на солнечном диске. Действительно, согласно данным SOHO/EPHIN (рис. 4) 16–17 февраля 2023 г. началось слабое протонное возрастание, характерное для восточных событий. Оно может быть связано со слабой вспышкой и быстрым КВМ (10:48 UT, 1549 км/с, PA 301) 16 февраля и вспышкой 2 с КВМ (20.12 UT, 1315 км/с, PA 56) 17 февраля.
Рис. 3. (а) Вклад солнечных HXR и протонов в темп счета ACS SPI во время солнечных вспышек и протонных событий: (1) X1.1–28 октября 2021 г., (2) X2.2–17 февраля 2023 г., (4) M6.3–25 февраля 2023 г., (7) M5.7–17–18 июля 2023 г. (б) Вклад солнечных HXR и протонов в темп счета ACS SPI во время солнечных вспышек и протонных событий: (2) X2.2–17 февраля 2023 г., (3) M3.7–24 февраля 2023 г., (5) M8.6–28 февраля 2023 г., (6а) С1.3 и (6б) M4.0–16 июля 2023 г.
Солнечное HXR-излучение во вспышках 1, 2 и 7 было сравнимой максимальной интенсивности, что говорит о взаимодействии ускоренных электронов со сходным спектром в условиях одинаковых мишеней. Возрастание HXR (вспышка 4) по амплитуде сопоставимо с вариациями фона ACS SPI, но выделяется длительностью и корреляцией с солнечным радиоизлучением на частоте 2695 МГц. В случае 4 спектр электронов, по всей видимости, был более мягким, а мишень менее плотной. Также обращает на себя внимание различие временной структуры кривых блеска: в событиях 1 и 2 – два максимума, а в случае 7 – восемь максимумов (рис. 3а).
Протонные возрастания событий 1, 4 и 7 различались временем первого прихода протонов и темпом роста счета ACS SPI. По классификации времени прихода [6] эти события относятся к «поздним» и медленным. Различие оценки времени первого прихода в 5 мин в событиях 4 и 7 разумно приписать влиянию HXR-фона при практически идентичных кривых блеска после +30 мин. С другой стороны, могли различаться и темпы ускорения протонов в случаях 4 и 7. Протонное возрастание (вспышка 4) началось на +25 мин, а в событии 7 на +30 мин. Время запаздывания прихода протонов 100 МэВ при длине распространения 1.3 а. е. ~17 мин. Протоны должны были выйти в МП не позднее +8 мин в событии 4 или +13 мин в событии 7. Длительность ускорения протонов до 100 МэВ была ~480 c (вспышка 4) и ~780 c (вспышка 7), а минимальный темп ускорения протонов 100 МэВ/480 с = 0.2 МэВ/с и 100 МэВ/780 с = 0.1 МэВ/с.
Рис. 4. Потоки протонов и электронов, зарегистрированные SOHO/EPHIN15–28 февраля 2023 г.
Таблица 2. Оценка потока протонов >100 МэВ по темпу счета ACS SPI в выбранных СПС событиях
Параметры | События | |||||
1 | 3 | 4 | 6а | 6б | 7 | |
Nфон | 6843 | 4343 | 4470 | 4242 | 4242 | 4154 |
Nmax | 35000 | 5270 | 25000 | 4900 | 4450 | 20500 |
J100 | 0.4 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.003 | 0.2 |
Отличие кривой блеска в событии 1 от событий 4 и 7 до +30 мин связано, вероятнее всего, с большим темпом ускорения частиц, который характерен для GLE-событий [6]. Минимальный темп ускорения протонов в событии 1100 МэВ/180 c = 0.56 МэВ/с. Возможно, что меньший темп ускорения в событиях 4 и 7 обусловлен большими задержками между эпизодами ускорения, которые не перекрываются между собой (восемь максимумов HXR в случае 7). Так как выход протонов в МП в событии 1 был затруднен в силу направления распространения КВМ (величины PA), примерно после 40 мин кривая события 1 оказывается ниже кривых событий 4 и 7. Только вне масштаба по времени (рис. 3а) кривая в событии 1 будет выше, чем в случаях 4 и 7, именно в это время наблюдалось GLE на нейтронных мониторах [1, 2].
В событиях 1, 4 и 7 обращает на себя внимание различие как минимум на порядок величины максимальных интенсивностей потоков протонов >10 МэВ. Согласно выводам работы [21] GLE-событие 28 октября 2021 г. (вспышка 1) отличалось аномально жестким спектром. Так как темп счета ACS SPI (протоны >100 МэВ) и ART-XC в этих событиях были сравнимы, можно сделать вывод, что протоны <100 МэВ практически не создавали вторичные HXR в этих детекторах и не были источником дополнительной ионизации.
На рис. 3б показаны протонные возрастания кривых 3, 6а и 6б, которые теряются в масштабе рис. 1а, а также темп счета ACS SPI в событиях 2 и 5 без протонных возрастаний. Отметим, что событие 5 наблюдалось на фоне слабого роста фона ACS SPI. Кривая 5 на рис. 3б получена после вычитания прямой где X – время в минутах относительно нуля. Сравнение кривых 2 и 5 показывает, что в событии 5 действительно не было HXR-возрастания ранее +20 мин, а после +20 мин не было и протонного возрастания. В событии 3 и 6а не было HXR-возрастания ранее +25 мин, которое соответствовало бы наблюдавшемуся микроволновому излучению. После +25 мин в событии 3 и +30 мин в событии 6а началось протонное возрастание. Необходимый темп ускорения протонов в событии 3 был 100 МэВ/480 с = 0.2 МэВ/с. Оценить темп ускорения протонов в случае 6а не представляется возможным ввиду неопределенности времени распространения в короне и МП.
В событии 6б было как HXR, так и протонное возрастание ACS SPI (рис. 3б), их характеристики заслуживают подробного исследования. Ускорение протонов (нагрев плазмы до 12 МК) задержалось на +2 мин относительно ускорения электронов >100 кэВ (HXR ACS SPI и микроволны 15.4 ГГц). Протонное возрастание (6б) было ранним (первый приход протонов <+13 мин) и слабым (менее 100 отсчетов ACS SPI за 50 мс). Возрастание на 13 мин в случае 6б могло быть вызвано только протонами >500 МэВ, так как, если протоны начали ускоряться на +2 мин (T > 20 МК), у них есть только 11 мин на ускорение и распространение. При длине распространения 1.3 а. е. запаздывание прихода протонов 500 МэВ составляет ~6 мин, а длительность ускорения протонов в случае 6б будет 5 мин. Темп ускорения протонов должен был быть >500 МэВ/300 с = 1.7 МэВ/с. Наблюдение такого раннего и слабого протонного возрастания позволяет предположить, что в темп счета ACS SPI в событии 1 после +10 мин мог быть существенный вклад от протонов >500 МэВ.
Таким образом, в событиях 1 и 6б реализовалось «раннее» протонное возрастание ACS SPI, темп ускорения протонов ~2 МэВ/с (ускорение электронов до 100 кэВ за десятки миллисекунд – «быстрое»), а во вспышках 3, 4 и 7 – «позднее» протонное возрастание, темп ускорения протонов <0.2 МэВ/с (ускорение электронов до 100 кэВ за сотни миллисекунд – «медленное»).
РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ ВСПЫШЕК M6.3, M8.625 И 28 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
В этом разделе рассматриваются кривые блеска радиоизлучения RSTN (https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/solar-data/solar-features/solar-radio/rstn-1-second/) в случаях 4 и 5, которые выделяются на фоне других событий из табл. 1.
Характеристики радиоизлучения для вспышки M6.3 25 февраля 2023 г., представленные в табл. 1, были взяты из файла (20230225events.txt) и отнесены к выбранному нулевому времени. Это событие выделяется тем, что нет информации по излучению на крайних частотах 245 МГц и 15.4 ГГц в файле событий за этот день. На рис. 5а показаны кривые блеска по данным RSTN (станция Palehua, 25feb23.phf) на частотах с преобладающим гиросинхротронным излучением (сильно зашумленная кривая на 15.4 ГГц не построена). Все кривые на рис. 5а показывают начало роста не позднее нулевого времени (19:23 UT) – начала излучения на 2695 МГц и 1415 МГц, отмеченного в файле (20230225events.txt). Однако начало радиоизлучения на частоте 8.8 ГГц указано там в 19:28 UT (+5 мин), почему была отмечена такая задержка, непонятно.
Рис. 5. Вспышка 4 (M6.3) 25 февраля 2023 г.: (а) температура вспышечной плазмы и радиоизлучение 8.8–2695 МГц, (б) температура вспышечной плазмы и радиоизлучение 1415–245 МГц.
Рис. 6. Вспышка 5 (М8.6) 28 февраля 2023 г.: (а) температура вспышечной плазмы и поток радиоизлучения 15.4– 2695 МГц, (б) температура вспышечной плазмы и поток радиоизлучения 1415–245 МГц.
Вспышка M6.3 началась значительно раньше нулевого времени, в 18:40 UT (–43 мин). Ее триггером было, по всей видимости, ускорение электронов высоко в короне, которое проявилось в радиоизучении VI типа (серия всплесков III типа длительностью более 10 мин). Оно наблюдалось с 18:37 UT (–46 мин) по 20:39 UT (+76 мин). Кривая блеска на 245 МГц (рис. 5б) также свидетельствует о развитии вспышки до нулевого времени в короне с концентрацией плазмы менее 7.4·108 см–3. Кривые блеска на частотах 410, 610 и 1415 МГц (рис. 5б) показывают рост до нулевого времени и свидетельствуют о меняющихся условиях в короне (увеличение плотности за счет «хромосферного испарения»). После нулевого времени вспышка развивалась уже в максимально широком диапазоне плотностей, с учетом плазменных частот (рис. 5б) и радиоизлучения II типа. Начало всплеска II типа на 0 мин и появление КВМ (+1 мин) в поле зрения LASCO свидетельствуют об ускорении КВМ до начала ускорения электронов >100 кэВ.
Характеристики радиоизлучения для вспышки M8.6 28 февраля 2023 г., представленные в табл. 1, были взяты из файла (20230228events.txt) и отнесены к выбранному нулевому времени. Кривые блеска радиоизлучения по данным RSTN (станция Palehua, 28feb23.phf) построены для гиросинхротронных частотах на рис. 6а, а для переходной и плазменных частот – на рис. 6б. Как это уже наблюдалось во многих других событиях 23-го [7] и 24-го солнечных циклов [8, 9], во вспышке M8.6 28 февраля 2023 г. без КВМ и СПС радиоизлучение на частотах менее 1415 МГц отсутствовало. Минимальная частота радиоизлучения, зарегистрированного RSTN и отмеченного в файле (20230228events.txt), была 2695 МГц.
На панели рис. 6а видно два эпизода нагрева плазмы, которые соответствуют двум эпизодам радиоизлучения. В первом эпизоде присутствует радиоизлучение на крайних частотах 15.4 ГГц (рис. 6а) и 1415 МГц, (рис. 6б), которые не наблюдались во втором эпизоде. Спектр электронов должен был быть жестче, магнитное поле сильнее, а плотность плазмы меньше (2.6·1010 см–3), чем во втором эпизоде (9.0·1010 см–3). Таким образом, вспышка была ограниченной по высоте и не развивалась вверх в корону. Всплески радиоизлучения на 245 МГц, которые можно видеть на рис. 6б, были генерированы независимо от процессов в нижней атмосфере Солнца, так как всплесков на частотах 410 и 610 МГц не было.
ОБСУЖДЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ПРОГНОЗА «ПРОТОННЫХ» ВСПЫШЕК
Согласно представлениям, изложенным в статье [22], солнечные вспышки происходят через 0.5–2 сут. после обнаружения магнитного потока >1013 Вб при скорости его всплытия >109 Вб/с. Однако время начала вспышек, а также конкретные характеристики их электромагнитного излучения, ускорения частиц и реализации КВМ с большей точностью предсказать невозможно. Далее по наблюдаемым характеристикам солнечной вспышки и КВМ можно оценить вероятность выхода солнечных протонов в гелиосферу. Достаточно полный обзор современного состояния прогностических моделей СПС на 2017 г. можно найти в статье [23].
Патрульные наблюдения GOES по SXR-излучению доступны потребителю практически в реальном времени, поэтому они широко используются для краткосрочного прогнозирования СПС и проверки различных статистических моделей предсказания [24–32]. Предложенные в работе [14] наблюдательные критерии прогноза «протонных» вспышек обобщают и дополняют методики предсказания СПС по излучению электронов и плазмы по параметрам SXR [24– 27], HXR [33, 34], микроволнового [35], плазменного [7] излучений и радиовсплескам [18].
Авторы работы [36] обратили внимание на наблюдательный факт, что импульсной фазе вспышек c HXR-излучением предшествует горячее SXR-начало (a hot X-ray ‘onset’) с температурой плазмы 10–15 МК. Согласно оценкам в работе [37] эффективное доускорение электронов возможно лишь в случае сравнительно разреженной (𝑛 ≲ 1010 см−3) и горячей (𝑇 ∼ 107 K) фоновой плазмы. В семи рассмотренных случаях, за исключением события 6а, SXR-вспышки начались раньше выбранного нулевого времени (строка В, табл. 1). Условие для ускорения протонов (нагрев плазмы до T > 12 МК длительностью более 5 мин по данным GOES) выполнено для всех выбранных событий кроме события 6а (строка Г, табл. 1). Вспышечная плазма в шести случаях из восьми прогрелась до температуры >12 МК не позднее нулевой минуты, исключением является вспышка 6б, в которой это произошло на +2 мин. В данной работе оценка температуры плазмы по наблюдениям STIX в случае 6а не делалась, но в X-вспышках температура обычно превышает 12 МК.
Свидетельства длительного ускорения электронов >100 кэВ приведены в табл. 1: строка Д – HXR-излучение, строка Е – микроволновое излучение. Так как генерация HXR и микроволн зависит от свойств плазмы, в которой происходит излучение, сравнение интенсивностей излучения без подробного анализа среды взаимодействия не имеет смысла. Важен факт регистрации одного из видов такого излучения (микроволн >2 ГГц или HXR >100 кэВ) длительностью не менее нескольких минут, так как на момент излучения могло не быть приемников, способных его измерить. С этой точки зрения, ускорение электронов >100 кэВ было во всех восьми исследуемых событиях, если учесть наблюдения STIX в событии 6а.
Радиовсплески малой интенсивности не считаются значимыми в стандартных методиках предсказания СПС (см. работу [35] и ссылки в ней). Наименьшая длительность ускорения электронов >100 кэВ была в событии 5, так как HXR по данным ACS SPI не было, а микроволновое излучение на 15.4 ГГц длилось 5 мин. То, что вспышка 5 будет без КВМ и СПС, можно было утверждать уже на +5 мин. Радиоизлучение на частотах <2695 МГц так и не появилось, что говорит о вспышке, ограниченной в пространстве. О развитии вспышечного процесса в корону (уменьшение плотности, т. е. плазменной частоты) свидетельствует плазменное излучение (табл. 1): строка Ж – минимальная зарегистрированная частота RSTN; строка З – типы зарегистрированных непрерывных радиовсплесков на частотах <180 МГц; строка И – наличие радиовсплеска II типа на частотах <180 МГц.
Данные табл. 1 показывают, что вспышки, сопровождающиеся СПС, объединяет наличие непрерывных радиовсплесков на частотах <180 МГц (строка З в табл. 1). Выскажем предположение, что непрерывное радиоизлучение на частотах <610 МГц, включая радиовсплески II, IV, V и CTM типов, с длительностью более 5 мин является главным свидетельством ускорения протонов на Солнце.
В начале мощных солнечных вспышек, когда ускорение протонов уже произошло, но КВМ и ударная волна еще не сформировались, можно ожидать выход в МП слабых протонных потоков, как это наблюдалось в случае 6б. Радиоизлучения II типа не было в событиях 2, 6а и 7, несмотря на наличие КВМ со средней скоростью >600 км/с. Скорость и направление распространения КВМ можно определить только после регистрации двух его положений в поле зрения коронографа; скважность наблюдений КВМ коронографом LASCO C2 составляет 12 мин, поэтому невозможно использовать параметры КВМ (строка К в табл. 1) для предсказания момента первого прихода солнечных протонов >100 МэВ в реальном времени. Эти параметры важны для оценки условий выхода и распространения протонов из короны в МП, которые определяют время достижения и величину максимума интенсивности. Также продолжающееся ускорение КВМ в поле зрения LASCO свидетельствует о выделении энергии и ускорении частиц на постэруптивной фазе вспышки, которое может внести существенный вклад в формирование временного профиля потока солнечных протонов [38].
ВЫВОДЫ
Проведен анализ пяти протонных событий и HXR-возрастаний темпа счета ASC SPI их родительских вспышек – X1.0 28 октября 2021 г., М3.7 24 февраля и M6.3 25 февраля 2023 г., а также M4.0 16 июля и M5.7 17 июля 2023 г. По времени начала протонного возрастания ASC SPI сделана оценка длительности ускорения протонов и темпа набора энергии протонами.
Во вспышках X1.0 и M4.0 реализовалось «быстрое» ускорение электронов ~10 МэВ/с («раннее» протонное возрастание ACS SPI, темп ускорения протонов ~2 МэВ/с), а во вспышках M3.7, M6.3 и M5.7 – «медленное» ускорение электронов ~1 МэВ/с («позднее» протонное возрастание, темп ускорения протонов <0.2 МэВ/с).
Вспышки, сопровождающиеся СПС, выделяются из всей совокупности солнечных вспышек преодолением порогов по температуре плазмы (>12 МК); энергии ускоренных электронов (>100 кэВ); высоте развития вспышечных процессов.
Слабое протонное возрастание утром 16 июля 2023 г. не могло быть предсказано по предложенным критериям, так как оно было результатом вспышки X9 на обратной стороне Солнца, зарегистрированной STIX на борту Solar Orbiter. Эта вспышка по наблюдениям GOES соответствовала баллу С1.9 и сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 МГц, длительным непрерывным радиоизлучением VI и CTM-типов на частотах 25– 180 МГц и ускорением КВМ до 1970 км/с.
Вспышка Х2.2 (N25E64) 17 февраля 2023 г. удовлетворяла всем трем критериям «протонности» и могла стать источником мощного СПС вблизи Земли при условии благоприятного расположения на Солнце. Во вспышке M8.6 (N27W29) 28 февраля 2023 г. не был выполнен третий критерий (по высоте развития вспышечного процесса), и она ожидаемо не привела к СПС (развивалась в плазме с плотностью >2.5·1010 см–3, плазменная частота >1415 МГц).
Таким образом, рассмотренные события 25-го цикла показывают, что для предсказания СПС с энергией протонов >100 МэВ, связанных с солнечными вспышками, необходимо наблюдать в реальном времени: SXR излучение в двух энергетических каналах; микроволновое (>3 ГГц) и/ или HXR-излучение; плазменное радиоизлучение на частотах <1415 МГц и непрерывные радиовсплески IV, V и VI типов.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы благодарны организаторам Первой конференции им. М. И. Панасюка «Проблемы космофизики» 10–13 июля в г. Дубна за предоставленные возможности и гостеприимство, часть статьи, посвященная событиям февраля 2023 г., основана на материалах доклада на этой конференции; А. А. Лутовинову за демонстрацию данных монитора радиационной обстановки ART-XC и февральских событий 2023 г. (АБС и АМС); участникам космических экспериментов, создавшим базы данных ART-XC, GOES, ACS SPI, SOHO/EPHIN, SOHO/LASCO, Solar Orbiter/STIX.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа была поддержана субсидиями по темам «Плазма» (АБC и АМС) в Институте космических исследований Российской академии наук и «МАС» (ИЮГ) в Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук.
About the authors
А. Б. Струминский
Институт космических исследований РАН
Author for correspondence.
Email: astruminsky@gmail.com
Russian Federation, Москва
А. М. Садовский
Институт космических исследований РАН
Email: astruminsky@gmail.com
Russian Federation, Москва
И. Ю. Григорьева
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН
Email: astruminsky@gmail.com
Russian Federation, Санкт-Петербург
References
- Papaioannou A., Kouloumvakos A., Mishev A. et al. The first ground-level enhancement of solar cycle 25 on 28 October 2021 // Astronomy and Astrophysics. 2022. V. 660. Art. ID. L5. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202142855
- Mishev A. L., Kocharov L. G., Koldobskiy S. A. et al. High resolution spectral and anisotropy characteristics of solar protons during the GLE № 73 on 28 October 2021 derived with neutron monitor analyses // Solar Physics. 2022. V. 298. Iss. 7. https://doi.org/10.1007/s11207-022-02026-0
- Klein K.-L., Musset S., Vilmer N. et al. The relativistic solar particle event on 28 October 2021: Evidence of particle acceleration within and escape from the solar corona // Astronomy and Astrophysics. 2022. V. 663. Art. ID. A173. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243903
- Bazilevskaya G. A., Cliver E. W., Kovaltsov G. A. et al. Solar Cycle in the Heliosphere and Cosmic Rays // Space Sci. Rev. 2014. V. 186. P. 409–435. doi: 10.1007/s11214-014-0084-0
- Струминский А. Б., Григорьева И. Ю., Логачев Ю. И., Садовский А. М. Солнечные релятивистские электроны и протоны 28 октября 2021 года (GLE73) // Изв. РАН. Сер. Физ. 2023. Т. 87. № 7. С. 1028–1032. https://doi.org/10.31857/S0367676523701818
- Григорьева И. Ю., Струминский А. Б., Логачев Ю. И., Садовский А. М. Корональное распространение солнечных протонов во время и после их стохастического ускорения // Косм. исслед. 2023. Т. 61. № 3. С. 230– 241. https://doi.org/10.31857/S0023420622600246, EDN: BVHXGS
- Klein K.-L., Trottet G., Klassen A. Energetic Particle Acceleration and Propagation in Strong CME-Less Flares // Solar Physics. 2010. V. 263. Art. ID. 185. https://doi.org/10.1007/s11207-010-9540-5
- Струминский А. Б., Григорьева И. Ю., Логачев Ю. И., Садовский А. М. Связь между длительностью и величиной ускорения корональных выбросов массы // Геомагнетизм и аэрономия. 2021. Т. 61. № 6. С. 683–693. https://doi.org/10.31857/S001679402105014X
- Grigor’eva I. Yu., Struminsky A. B. Flares Unaccompanied by Interplanetary Coronal Mass Ejections and Solar Proton Events. Geomagnetism and Aeronomy. 2021. V. 61. Art. ID. 1263 https://doi.org/10.1134/S0016793221080090
- Струминский А. Б., Григорьева И. Ю., Логачев Ю. И. и др. Солнечные электроны и протоны в событиях 4–10 сентября 2017 года и сопутствующие явления // Физика Плазмы. 2020. Т. 46. № 2. С. 139– 153. https://doi.org/10.31857/S0367292120020134
- Miller J. A., Cargill P. J., Emslie A. G. et al. Critical issues for understanding particle acceleration in impulsive solar flares // J. Geophys. Res. 1997. V. 102. Iss. A7. P. 14631– 14660. https://doi.org/10.1029/97JA00976
- Altyntsev A. T., Meshalkina N. S., Lysenko A. L. et al. Rapid Variability in the SOL 2011-08-04 Flare: Implications for Electron Acceleration // Astrophys. J. 2019. V. 883. Art.ID. 38. https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab380
- Лысенко А. Л., Фредерикс Д. Д., Флейшман Г. Д. и др. Рентгеновское и гамма-излучение солнечных вспышек // УФН. 2020. Т. 190. С. 878–894. https://doi.org/10.3367/UFNr.2019.06.038757
- Струминский А. Б., Садовский А. М., Григорьева И. Ю. Предсказание протонных событий по солнечным наблюдениям в реальном времени // Геомагнетизм и Аэрономия. 2023. (Принято в печать).
- Müller-Mellin R., Kunow H., Fleißner V. et al. COSTEP – Comprehensive suprathermal and energetic particle analyse // Solar Physics. 1995. V. 162. Art.ID. 483.
- Aschwanden M. J. The localization of particle acceleration sites in solar flares and CMEs // Space Sci. Rev. 2006. V. 124. P. 361–372.
- Струминский А. Б., Садовский А. М., Григорьева И. Ю. Расширение источника мягкого рентгеновского излучения и «магнитная детонация» в солнечных вспышках // Письма в АЖ. 2023. (Принято в печать).
- Núñez M., Paul-Pena D. Predicting >10 MeV SEP Events from Solar Flare and Radio Burst Data // Universe. 2020. V. 6. Art.ID. 161. https://doi.org/10.3390/universe6100161
- Zheleznykov V. V., Zaitsev V. V. The Origin of Type-V Solar Radio Bursts // Soviet Astronomy. 1968. V. 12. Art.ID. 14.
- Gopalswamy N., Yashiro G., Michalek, G. et al. The SOHO/LASCO CME Catalog // Earth, Moon and Planets. 2009. V. 104. P. 295–313. https://doi.org/10.1007/s11038-008-9282-7
- Chertok I. M. On some features of the solar proton event on 2021 October 28 – GLE73 // MNRAS. 2022. V. 517. Iss. 2. P. 2709–2713. https://doi.org/10.1093/mnras/stac2843
- Ишков В. Н. Прогноз солнечных вспышечных явлений: солнечные протонные события // Изв. РАН Сер. Физ. 2023. Т. 87. № 7. С. 1010–1013. https://doi.org/10.31857/S0367676523701788
- Swalwell B., Dalla S., Walsch R. W. Solar Energetic Particle Forcating Algorthms and Associated False Alarms // Solar Physics. 2017. V. 292. Art.ID. 173. https://doi.org/10.10007/s11207-017-1196-y
- Garcia H. A. Forecasting methods for occurrence and magnitude of proton storms with solar soft X rays // Space Weather. 2004. V. 2. Art.ID. S02002. https://doi.org/10.1029/2003SW000001
- Belov A., Kurt V., Mavromichalaki H. et al. Peak-size distributions of proton fluxes and associated soft X-ray flares // Solar Physics. 2007. V. 246. Iss. 2. P. 457–470.
- Белов А. В. Вспышки, выбросы, протонные события // Геомагнетизм и Аэрономия. 2017. Т. 57. № 6. С. 783–793. https://doi.org/10.7868/S0016794017060025
- Alberti L. M., Cliver E. W., Storini M. et al. Solar Activity from 2006 to 2014 and Short-term Forecasts of Solar Proton Events Using the ESPERTA Model // Astrophys. J. 2017. V. 838. Art.ID. 59. https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa5cb8
- Kahler S. W., White S. M., Ling A. G. Forecasting E > 50-MeV proton events with the proton prediction system (PPS) // J. Space Weather Space Clim. 2017. V. 7. Art.ID. A27. https://doi.org/10.1051/swsc/2017025
- Núñez M. Predicting solar energetic proton events (E > 10 MeV) // Space Weather. 2011. V. 9. Art.ID. S07003. https://doi.org/10.1029/2010SW000640
- Núñez M. Real-time prediction of the occurrence and intensity of the first hours of >100 MeV solar energetic proton events // Space Weather. 2015. V. 13. P. 807– 819. https://doi.org/10.1002/2015SW001256
- Núñez M. Predicting well-connected SEP events from observations of solarsoft X-rays and near-relativistic electrons // J. Space Weather Space Clim. 2018. V. 8. Art.ID. A3.
- Ling A. G., Kahler S. W. Peak Temperatures of Large X-Ray Flares and Associated CME Speeds and Widths // Astrophys. J. 2020. V. 891. Art.ID. 54. https://doi.org/103847/1538-4357/ab6f6c
- Kiplinger A. Comparative studies of hard X-ray spectral evolution in solar flares with high energy proton events observed at Earth // Astrophys. J. 1995. V. 453. P. 973– 986. doi: 10.1086/176457.
- Kahler S. W. Solar energetic particle events and the Kiplinger Effect // Astrophys. J. 2012. V. 747. Art.ID. 66. https://doi.org/10.1088/0004-637X/747/1/66
- Черток И. М. Диагностический анализ солнечных протонных вспышек сентября 2017 г. по их радиовсплескам // Геомагнетизм и аэрономия. 2018. Т. 58. № 4. С. 471–478. doi: 10.1134/S001679401804003X. Chertok I. M. Diagnostic analysis of the solar proton flares of September, 2017 // Geomagnetism and Aeronomy. 2018. V. 58. P. 457–463.
- Hudson H. S., Simões P. J.A., Fletcher L. et al. Hot X-ray onsets of solar flares // MNRAS. 2021. V. 501. Art.ID. 1273. https://doi.org/10.1093/mnras/staa3664, arXiv: arXiv:2007.05310 Bibcode: 2021.501.1273H
- Цап Ю. Т., Мельников В. Ф. Температура столкновительной плазмы и бетатронное ускорение квазитепловых электронов в солнечных вспышках // Письма в АЖ. 2023. Т. 49. № 4. С. 289–298. https://doi.org/10.31857/S0320010823040058
- Григорьева И. Ю., Струминский А. Б. Формирование источника солнечных космических лучей в эруптивных вспышках X6.9 9 августа 2011 г. M5.1 и 17 мая 2012 г. // Астрономический журнал. 2022. Т. 99. № 6. С. 486–495. https://doi.org/10.31857/S0004629922060044
Supplementary files