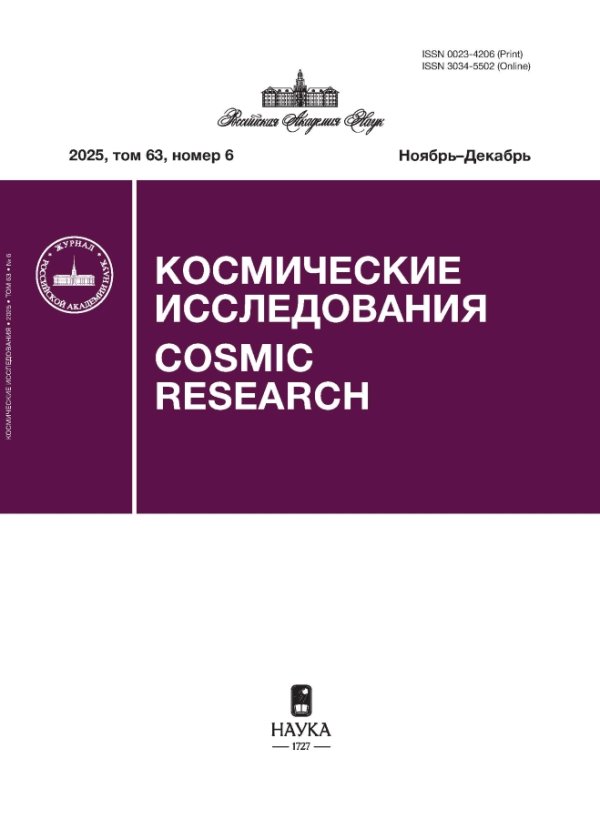Магнитогидродинамические волны в плазме солнечного ветра в периоды событий геомагнитных бурь в феврале – марте 2023 года
- Authors: Стародубцев С.А.1, Гололобов П.Ю.1, Григорьев В.Г.1, Зверев А.С.1
-
Affiliations:
- Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН
- Issue: Vol 62, No 2 (2024)
- Pages: 201-209
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0023-4206/article/view/260490
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023420624020062
- EDN: https://elibrary.ru/kzbkev
- ID: 260490
Cite item
Full Text
Abstract
Сообщается об изучении МГД-волн в плазме солнечного ветра во время двух геоэффективных событий космической погоды в феврале – марте 2023 г. В это время на Земле наблюдались различные геофизические явления: интенсивные магнитные бури, понижения интенсивности галактических космических лучей, полярные сияния и ряд других проявлений космической погоды. Для изучения ситуации в околоземном космическом пространстве в работе использовались данные прямых измерений параметров межпланетной среды на космических аппаратах DSCOVR и ACE. Применение методов спектрального анализа к данным прямых измерений параметров солнечного ветра на космическом аппарате DSCOVR позволило изучить характеристики и динамику альфвеновских, быстрых и медленных магнитозвуковых волн в инерционном диапазоне частот (от ~0.0001 до ~0.01 Гц) наблюдаемого спектра турбулентности солнечного ветра во время этих событий.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия важным направлением исследований в области космической физики стала проблема прогноза космической погоды. Для ее решения привлекаются данные наблюдений, полученные с помощью различных приборов, установленных как на Земле, так и космических аппаратах (КА). При этом важной характеристикой прогноза является его заблаговременность и точность. Для спорадических явлений, которые вызывают наибольшие возмущения космической погоды, заблаговременность прогноза составляет несколько суток. Она определяется временем распространения крупномасштабных возмущений солнечного ветра (СВ) от источника на Солнце до Земли. Одним из возможных подходов к прогнозу космической погоды являются методы, в которых используются данные наземных измерений интенсивности галактических космических лучей (КЛ). Поскольку КЛ являются длиннопробежными заряженными частицами, эффекты временной динамики их потоков могут наблюдаться на значительном удалении от крупномасштабных возмущений СВ, которые инициируют изменение космической погоды на орбите Земли. При таком подходе заблаговременность прогноза составляет 1–2 сут., что существенно больше времени, чем в прогнозе, использующем прямые измерения момента прихода возмущений СВ на КА, расположенные в точке Лагранжа L1 системы Солнце – Земля, которая составляет величину около 1 ч. Такого малого времени явно недостаточно для осуществления практических мероприятий с целью минимизации или предупреждения негативных проявлений космической погоды. Однако он дает существенно более точные оценки времени начала проявлений космической погоды на Земле и может служить для целей верификации прогноза на основе наземных измерений интенсивности КЛ с помощью нейтронных и мюонных детекторов.
При выработке прогноза космической погоды нужно понимать, какое именно проявление космической погоды прогнозируется и какая цель при этом преследуется. С нашей точки зрения, из всех наземных проявлений космической погоды наибольший практический интерес представляют мощные геомагнитные бури. Именно они, становясь причиной весьма больших геомагнитно наведенных токов, несут наибольшую потенциальную опасность аварий и катастроф на протяженных линейных объектах (линиях электропередач, нефте- и газопроводах), на электростанциях и железных дорогах [1–3]. Это особенно важно для полярных областей Земли, где в силу структуры геомагнитного поля негативные проявления космической погоды носят наиболее выраженный характер, а наземные технические и экологические системы обладают наименьшим запасом устойчивости.
Создание обоснованных методов прогноза невозможно без построения физической картины связи различных процессов и явлений, протекающих в межпланетной среде с наземными проявлениями космической погоды. При использовании измерений КЛ основным модулирующим фактором для них является межпланетное магнитное поле (ММП) и его турбулентная составляющая. К последней относятся различные колебания и волны, которые постоянно присутствуют в СВ, детальные сведения об их свойствах необходимы для понимания протекающих физических процессов как в околоземном космическом пространстве, так и в системе магнитосфера – ионосфера и, возможно, опосредованно в атмосфере Земли.
В связи с этим настоящая работа посвящена экспериментальному изучению свойств турбулентности СВ, точнее ее части – магнитогидродинамических волн (МГД-волн), в околоземном космическом пространстве во время геофизических событий в феврале – марте 2023 г. В это время на Земле вследствие резких изменений космической погоды наблюдались разного типа пульсации магнитного поля, интенсивные магнитные бури, полярные сияния и понижения интенсивности галактических КЛ, изучение которых представляет отдельный и значительный интерес.
ДАННЫЕ И МЕТОД
Для изучения и анализа геоэффективных событий в феврале – марте 2023 г. в работе использовались одночасовые данные измерений Dst-индекса геомагнитной активности из широко известной базы данных OMNI (https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html), а также сведения о характеристиках межпланетных корональных выбросов массы (КВМ), представленные в каталоге https://izw1.caltech.edu/ACE/ASC/DATA/level3/icmetable2.htm.
В целях изучения свойств турбулентности межпланетной среды использовались одноминутные данные прямых измерений параметров ММП и СВ на находящихся в точке либрации L1 КА DSCOVR (https://www.ngdc.noaa.gov/dscovr/portal/index.html#/) и одночасовые данные детектора LEMS120 эксперимента EPAM, проводимого на борту КА ACE (https://izw1.caltech.edu/ACE/ASC/level2/index.html). Этот детектор предназначен для регистрации КЛ низких энергий, главным образом протонов в восьми различных неперекрывающихся дифференциальных каналах, охватывающих диапазон энергий от 0.047 до 4.8 МэВ.
Как известно, МГД-волны, наблюдаемые на инерционном участке спектра турбулентности СВ, в области частот от ~10−4 до ~10−1 Гц, в соответствии с их природой делятся на три типа: альфвеновские (АВ), быстрые (БМЗВ) и медленные магнитозвуковые волны (ММЗВ) [4]. Однако отождествление наблюдаемых в экспериментах флуктуаций параметров межпланетной среды с известными типами МГД-волн является непростой задачей. Трудности идентификации возникают вследствие того, что флуктуации ММП и плазмы СВ, как правило, являются совокупностью волн различных частот и типов, статических колебаний вмороженных в плазму СВ и переносимых вместе с ним, различного рода разрывов среды, а также из-за часто неполного набора измеряемых параметров или недостаточно высокого качества их измерений. Линейная теория МГД-волн в плазме устанавливает их основные свойства, согласно которым высокая степень корреляции между величиной ММП B и скоростью СВ U свидетельствует о наличии в межпланетной среде определенной доли АВ, между В и плотностью СВ n – БМЗВ, а между U и n – ММЗВ [5, 6].
Поскольку, как правило, амплитуды МГД-волн имеют незначительные, относительно средних значений параметров СВ, величины, то для их выделения из данных прямых измерений мы использовали методы спектрального анализа. При этом спектральные оценки мощности флуктуаций напряженности ММП B, скорости U и плотности n СВ производились нами с использованием стандартного метода Блэкмана – Тьюки с применением корреляционного окна Тьюки [7, 8]. Для определения типа МГД-волн, их вклада в наблюдаемый спектр ММП и установления их спектров мощности мы использовали свойства коэффициента когерентности Γ(ν), который является аналогом коэффициента корреляции только не во временной, а частотной области. Важно заметить, что по определению коэффициент когерентности Γ(ν) является положительным значением квадратного корня от функции когерентности Γ2(ν) и также, в отличии от коэффициента корреляции, является не просто числом, а функцией от частоты ν. В этом случае для установления спектра определенного типа МГД-волн нужно просто домножить наблюдаемый спектр мощности модуля ММП P|B|, в котором содержится информация обо всех колебаниях и типах МГД-волн, на соответствующие значения коэффициента когерентности между указанными выше величинами ММП и СВ – ΓBU(ν), ΓBn(ν) и ΓUn(ν), которые и определяют вклад в него определенного типа МГД-волн [9, 10]. Отметим также, что используемые в настоящей статье алгоритмы и процедуры для определения спектральных оценок детально описаны в нашей недавней работе [11].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для начала кратко рассмотрим события в геомагнитном поле в феврале – марте 2023 г.
Первое событие интенсивной геомагнитной бури в конце февраля (рис. 1а) было вызвано прохождением через орбиту Земли КВМ, распространяющегося с большой транзитной скоростью (≈1080 км/с), который сопровождался отошедшей от него межпланетной ударной волной (МУВ) и значительными потоками штормовых частиц. На КА DSCOVR приход МУВ зарегистрирован в 18:42 UT 26.II.2023 (рис. 2а–в). Максимальное значение модуля ММП на фронте МУВ составило величину |B| ≈ 19.9 нТл, при этом в турбулентной области за фронтом МУВ минимальное значение Bz ≈ –16.7 нТл было зарегистрировано в 20:50 UT 26.II.2023. Затем северо-южная составляющая поля Bz систематически флуктуировала, имея при этом преимущественно отрицательные значения, и в 10:28 UT 27.II.2023 достигла очередного минимума Bz ≈ –17.3 нТл. В результате прохождения этого крупномасштабного возмущения СВ в 19:00 UT 26.II.2023 на Земле было зарегистрировано внезапное начало интенсивной магнитной бури (рис. 1а), а через 17 ч, на главной фазе бури в 12:00 UT 27.II.2023, минимальное значение Dst-индекса достигло значения –132 нТл. Далее началась обычная фаза восстановления бури. Нужно отметить, что из-за сильных флуктуаций BZ-компоненты ММП эта магнитная буря носила ступенчатый характер (рис. 1а).
Второе событие было также обусловлено прохождением через орбиту Земли КВМ. Но, в отличие от первого события, в нем наблюдалось ярко выраженное магнитное облако (МО) (рис. 2г–е), в котором минимальное значение Bz-компоненты ММП достигало величины –18.6 нТл. Этот КВМ распространялся с довольно низкой относительно фонового СВ средней транзитной скоростью ≈560–670 км/с, без образования МУВ. В результате на Земле также наблюдалась интенсивная геомагнитная буря (рис. 1б). Она началась около 08:00 UT 23.III.2023 с резкого падения и достигла минимума 02:00 UT 24.III.2023. При этом минимальное значение Dst-индекса составило величину –163 нТл. Нужно отметить, что это событие носило классический двухступенчатый характер, который был обусловлен наличием сильного МО [12–15].
Рис. 1. Зависимость Dst-индекса геомагнитной активности от времени для событий интенсивных геомагнитных бурь в конце 26.II.2023 (а) и начале 23.III.2023 (б).
Рис. 2. Зависимость параметров межпланетной среды от времени. На панелях (а–в) показаны модули |B| и Bz-компонента ММП в GSE-системе координат, плотность n и скорость U СВ для периода 22–27.II.2023 и то же самое на панелях (г–е) для 20–25.III.2023 соответственно. Заштрихованными областями и цифрами 1–5 над ними обозначены интервалы времени, для которых на рис. 3, 5 и 6 приводятся параметры МГД-волн.
Перейдем теперь к анализу межпланетной обстановки и определению характеристик турбулентности СВ в это время.
На рис. 2 приведена информация об изменениях модуля |B| и Bz-компоненты ММП в GSE-системе координат (рис. 2а), плотности n (рис. 2б) и скорости U СВ (рис. 2в) для периода 22–27. II.2023. На рис. 2г–е показаны соответствующие изменения этих же параметров для интервала 20– 25. III.2023. На этом рисунке заштрихованными областями и цифрами над ними обозначены области, для которых в качестве примеров ниже будут представлены характеристики МГД-турбулентности СВ. На рис. 2 цифры 1 и 3 соответствуют периодам за несколько дней до прихода на орбиту Земли возмущений СВ, ответственных за геомагнитные бури, цифрами 2 и 4 показаны области непосредственно перед КВМ, а цифрой 5 отмечено МО во втором событии.
Рис. 3. Зависимость коэффициентов когерентности ΓBU(ν), ΓBn(ν) и ΓUn(ν) от частоты ν, характеризующих вклад альфвеновских (а, г, ж), быстрых (б, д, з) и медленных (в, е, и) магнитозвуковых волн в наблюдаемые спектры мощности модуля ММП P|B|. Легенда для интервалов времени 1–5 приведена.
Из рис. 2 следует, что в рассматриваемое время межпланетная среда была достаточно возмущена, ее параметры превышают хорошо известные средние величины ММП и плазмы СВ для спокойной ситуации в межпланетной среде [6].
На рис. 3 показаны определенные нами коэффициенты когерентности ΓBU(ν), ΓBn(ν) и ΓUn(ν) как функции частоты ν для интервалов времени 1 и 2 (а, б, в), 3 и 4 (г, д, е), а также 5 (ж, з, и) соответственно. Как было сказано выше, их значения соответствуют вкладу определенного типа МГД-волн в наблюдаемый спектр мощности флуктуаций модуля ММП |B| на определенной частоте ν. Как видно из рис. 3а, г, ж доля АВ во все отмеченные на рис. 2 цифрами интервалы времени не очень велика. Она не превышает 30% в рассматриваемые периоды времени 1, 3 и 4, однако возрастает до ≈40–50% на разных выделенных частотах для интервалов времени 2 и 5, т. е. непосредственно перед приходом МУВ 26 II.2023 в первом и непосредственно в самом МО во втором событии.
Рис. 4. Зависимость потоков низкоэнергичных КЛ в различных дифференциальных каналах, зарегистрированных на борту КА ACE в эксперименте EPAM детектор LEMS120, от времени для 22–27.II.2023 (а) и 20–25.III.2023 (б). Легенда для восьми дифференциальных энергетических каналов приведена.
С другой стороны, количество БМЗВ (рис. 3б, д, з) в периоды 1, 3 и 4 также не превышает ≈40%. Однако, как видно на рис. 3б, их вклад существенно возрастает (до ≈60–90% на разных частотах) в области непосредственно перед МУВ (интервал 2). Такой рост величины ΓBn(ν) можно понять исходя из результатов работ [10, 16], в которых показано, что наличие штормовых частиц перед фронтами МУВ, характеризующимися большими потоками и значительными пространственными градиентами, способны генерировать в межпланетной среде БМЗВ значительной амплитуды. Что в этом случае и наблюдалось (рис. 4а). Но причина большой доли (до ≈60%) БМЗВ внутри МО (интервал 5) остается для нас неясной (рис. 3з). Отметим, что КЛ низких энергий с указанными выше свойствами в нем не наблюдалось (рис. 4б).
Нужно отметить весьма высокое содержание доли ММЗВ во все отмеченные на рис. 2 интервалы времени. Рис. 3в, е, и дает представление об их количестве во всех пяти интервалах времени.
Здесь нужно заметить, что АВ наблюдаются весьма часто, поскольку хорошо известно, что они имеют незначительные декременты затухания и могут распространяться от источника на Солнце или вблизи него на большие расстояния далеко за орбиту Земли [6], поэтому вполне понятно, что они обнаружены во всех изучаемых нами случаях. Но магнитозвуковые волны, наоборот, характеризуются большими декрементами затухания, поэтому факт их обнаружения означает, что они были генерированы локально, недалеко от орбиты Земли. И если генерацию БМЗВ можно объяснить, например, наличием потоков штормовых частиц [10, 16], то наблюдение достаточно высокой доли ММЗВ в спектрах турбулентности СВ требует своего объяснения, которое для нас остается неясным.
Рис. 5. Спектры мощности PBU(ν), PBn(ν), PUn(ν) соответственно для альфвеновских (а, г, ж), быстрых (б, д, з) и медленных (в, е, и) магнитозвуковых волн в зависимости от частоты ν. Легенда соответствующих интервалов времени 1–5 приведена.
На рис. 5 показаны установленные спектры всех трех типов МГД-волн для всех пяти интервалов времени. На панелях (а, г, ж) приведены спектры мощности АВ, на панелях (б, д, з) – БМЗВ, а на панелях (в, е, и) – ММЗВ. Они получены простым перемножением наблюдаемых в это время спектров мощности модуля ММП |B| на соответствующие им коэффициенты когерентности [10, 11]. На рис. 5 ясно видны изменения в спектрах мощности трех ветвей МГД-волн со временем. Очевидно, что наибольшие изменения мощности (на один – два порядка величины на разных частотах) происходят в спектрах мощности флуктуаций БМЗВ в области 2, непосредственно примыкающей к фронту МУВ, т. е. там, где согласно работам [10, 16] они должны интенсивно раскачиваться потоками штормовых частиц (рис. 4а). В другие же интервалы времени такого заметного изменения мощности МГД-волн не наблюдается.
Рис. 6. Наблюдаемые спектры мощности модуля ММП (P|B|) и суммы спектров альфвеновских, быстрых и медленных магнитозвуковых волн (PΣ) для интервалов времени 1–5. Указаны 95% доверительных
На рис. 6а, б, в приведены спектры мощности флуктуаций модуля ММП P|B| для всех пяти интервалов времени, а также соответствующие им суммы спектров всех трех типов установленных нами МГД-волн PΣ. Из него видно, что в пределах 95% доверительных интервалов эти значения хорошо согласуются между собой. Незначительные расхождения в оценках спектров мощности можно отнести за счет всегда присутствующих в межпланетной среде разного рода разрывов и статических колебаний, которые вморожены в СВ и переносятся в межпланетной среде вместе с ним. Результаты сравнения спектров турбулентности СВ, представленных на рис. 6, свидетельствуют о правильности применения методов спектрального анализа для выделения определенных типов МГД-волн на основе данных прямых измерений параметров ММП и плазмы СВ на КА DSCOVR.
ВЫВОДЫ
Интенсивные геомагнитные бури, начавшиеся в конце 26.II.2023 и начале 23.III.2023, обусловлены прохождением через орбиту Земли двух межпланетных КВМ, характеризующихся значительными отрицательными величинами Bz-компоненты ММП. Характерными свойствами этих КВМ является то, что они распространялись от источника на Солнце до орбиты Земли с различными транзитными скоростями. В результате чего в первом событии перед КВМ была зарегистрирована МУВ, а во втором – нет, однако внутри него содержалось сильное МО.
На основе данных прямых измерений параметров ММП и плазмы СВ на КА DSCOVR определен вклад каждой из трех веток (альфвеновской, быстрой и медленной магнитозвуковой) МГД-волн в наблюдаемый спектр модуля ММП в различные периоды во время прохождения через орбиту Земли КВМ с различными свойствами.
Установлены спектры мощности альфвеновских, быстрых и медленных магнитозвуковых волн, которые существовали в окрестности КВМ во время интенсивных геомагнитных бурь в феврале – марте 2023 г.
Показано, что использование методов спектрального анализа позволяет корректно идентифицировать наличие на инерционном участке спектра турбулентности СВ в диапазоне частот от ~10–4 до ~10–1 Гц трех веток МГД-волн: альфвеновских, быстрых и медленных магнитозвуковых.
Причина значительного количества медленных магнитозвуковых волн в околоземном космическом пространстве в изучаемые периоды времени остается неизвестной.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы благодарят NOAA, ACE Science Centers и Data Analysis Center for Geomagnetism and Space Magnetism (Kyoto University) за предоставление свободного доступа к данным космических аппаратов DSCOVR и ACE, а также к информации о текущих значениях Dst-индекса геомагнитной активности.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 22-22-20045).
About the authors
С. А. Стародубцев
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН
Email: ZverevAS@ikfia.ysn.ru
Russian Federation, Якутск
П. Ю. Гололобов
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН
Email: ZverevAS@ikfia.ysn.ru
Russian Federation, Якутск
В. Г. Григорьев
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН
Author for correspondence.
Email: ZverevAS@ikfia.ysn.ru
Russian Federation, Якутск
А. С. Зверев
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН
Email: ZverevAS@ikfia.ysn.ru
Russian Federation, Якутск
References
- Kappenman J. G. Space Weather and the Vulnerability of Electric Power Grids // Effects of Space Weather on Technology Infrastructure. NATO Science Series II: Mathematics. 2004. V. 176. P. 257–286.
- Tsurutani B. T., Lakhina G. S., Hajra. R. The physics of space weather/solar-terrestrial physics (STP): what we know now and what the current and future challenges are // Nonlin. Processes Geophys. 2020. V. 27. P. 75– 119. https://doi.org/10.5194/npg-27-75-2020
- Pilipenko V. A., Chernikov A. A., Soloviev A. A. et al. Influence of Space Weather on the Reliability of the Transport System Functioning at High Latitudes // Russian J. Earth Sciences. 2023. V. 23. Iss. 2. Art.ID. ES2008. (In Russian) https://doi.org/10.2205/2023ES000824
- Биттенкорт Ж. А. Основы физики плазмы. Москва: Физматлит, 2009.
- Neugebauer M., Wu C. S., Huba J. D. Plasma fluctuations in the solar wind // J. Geophys. Res. 1978. V. 83. P. 1027–1034.
- Топтыгин И. Н. Космические лучи в межпланетных магнитных полях. Москва: Наука, 1983.
- Jenkins G. M., Watts D. G. Spectral Analysis and Its Applications. San Francisco, Cambridge, London, Amsterdam: Holden-Day, 1968.
- Отнес Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. Основные методы. Москва: Мир, 1982.
- Luttrell A. H., Richter A. K. A study of MHD fluctuations upstream and downstream of quasi-parallel interplanetary shocks // J. Geophys. Res. 1987. V. 92. P. 2243–2252.
- Бережко Е. Г., Стародубцев С. А. Природа динамики спектра флуктуаций космических лучей // Изв. АН СССР. Серия физическая. 1988. Т. 52. С. 2361–2363.
- Стародубцев С. А., Зверев А. С., Гололобов П. Ю., Григорьев В. Г. Флуктуации космических лучей и МГД-волны в солнечном ветре // Солнечно-земная физика. 2023. Т. 9. № 2. С. 78–85. https://doi.org/10.12737/szf-92202309
- Kamide Y., Yokoyama N., Gonzalez W. Two-step development of geomagnetic storms // J. Geophys. Res. 1998. V. 103. P. 6917–6921.
- Gonzalez W. D., Tsurutani B. T., Clua de Gonzalez A. L. Interplanetary origin of geomagnetic storms // Space Sci. Rev. 1999. V. 88. P. 529–562.
- Parnahaj I., Kudela K. Forbush Decreases, Geomagnetic Storms, and Interplanetary Structures // WDS’14 Proceedings of Contributed Papers – Physics. 2014. P. 310–315.
- Kudela K., Brenkus R. Cosmic ray decreases and geomagnetic activity: list of events 1982–2002 // J. Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2004. V. 66. P. 1121–1126. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2004.05.007
- Бережко Е. Г. Неустойчивость в ударной волне, распространяющейся в газе с космическими лучами. // Письма в Астрон. журн. 1986. Т. 12. С. 842–847.
Supplementary files