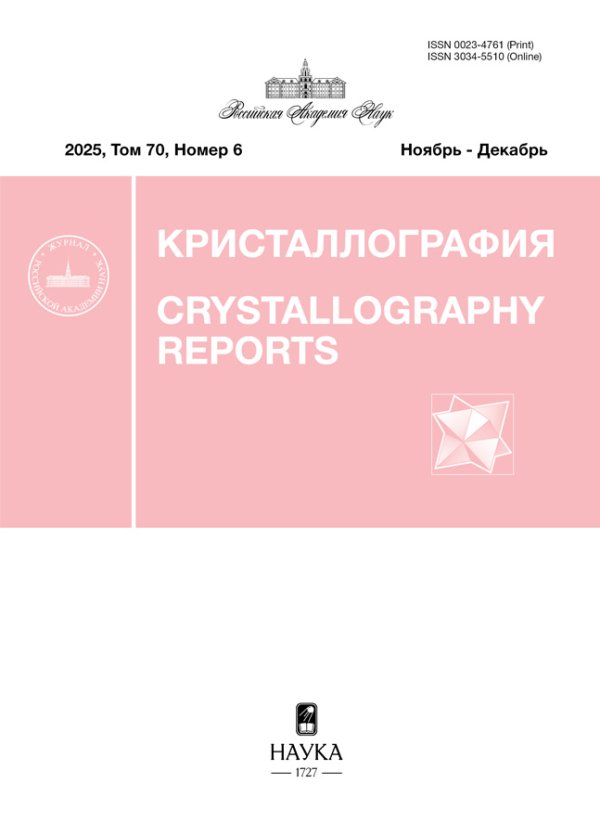Crystals of para-quaterphenyl and its trimethylsilyl derivative. I. Growth from solutions, structure and crystal chemical analysis by the Hirschfeld surface method
- Authors: Postnikov V.A.1, Sorokina N.I.1, Lyasnikova M.S.1, Yurasik G.A.1, Kylishov A.A.1, Sorokin T.A.1, Borshchev O.V.2, Svidchenko E.A.2, Surin N.M.2
-
Affiliations:
- Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
- Enikolopov Institute of Synthetic Polymer Materials of Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 69, No 5 (2024)
- Pages: 891-906
- Section: CRYSTAL GROWTH
- URL: https://journal-vniispk.ru/0023-4761/article/view/267152
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124050164
- EDN: https://elibrary.ru/ZBHMHQ
- ID: 267152
Cite item
Full Text
Abstract
The results of crystal growth of para-quaterphenyl (4P) and its derivative – 4,4''-bis(trimethylsilyl)-para-quaterphenyl (TMS-4P-TMS) from solutions are presented. It has been established that TMS-4P-TMS crystals exhibit better growth characteristics compared to 4P. Parameters of phase transitions of 4P and TMS-4P-TMS in closed crucibles were refined using the method of differential scanning calorimetry. The crystal structure of TMS-4P-TMS in the triclinic space group P1 (Z = 2) has been decrypted for the first time using single-crystal X-ray diffraction and studied over a wide temperature range. Crystallographic analysis of the studied compounds in crystals was performed using the Hirshfeld surface method, and modeling of intermolecular interactions was conducted.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Линейные олигофенилы (nP) – полициклические ароматические углеводороды на основе кратного сопряжения фенильных групп в пара-положении с общим членом гомологического ряда C6nH4n+2, где n – число фенильных колец. Среди различных семейств органических сопряженных молекул nP известны как высокостабильные соединения, сохраняющие устойчивость в расплаве при температурах выше точки плавления [1], так и обладающие высокой устойчивостью к фотодеградации [2, 3]. Высшие олигофенилы с n ≥ 4 относятся к полупроводниковым соединениям [2] и являются синими излучателями с высоким квантовым выходом флуоресценции [4–6], что представляет интерес для органической оптоэлектроники [3, 7, 8].
Для молекулярного строения линейных олигофенилов характерно наличие гибкой конформационной структуры, допускающей вращение сопряженных фенильных групп друг относительно друга. При этом только плоская конфигурация имеет высшую ромбическую симметрию D2h, а в общем случае молекулы будут характеризоваться более низкой симметрией вплоть до асимметричной формы С1. При комнатной температуре данные соединения имеют изоструктурное кристаллическое строение, характеризующееся моноклинной пр. гр. P21/a с Z = 2 [9]. Простая симметричная форма молекул nP и наличие в ассиметричном блоке элементарной ячейки кристалла всего лишь половины молекулы (Z´ = 0.5) весьма привлекательны для моделирования оптических свойств [10–12] и электротранспортных характеристик в кристаллах [13]. При низких температурах в кристаллах nP имеют место структурные фазовые переходы в триклинную полиморфную модификацию, при этом конформация молекулы перестает быть плоской, и торсионные углы между соседними фенильными кольцами достигают значений более 20° [6, 14, 15]. Внутримолекулярные взаимодействия обусловливают минимум потенциальной энергии для конформации с разориентированными друг относительно друга фенилами, в связи с чем конкуренция сил внутри- и межмолекулярных взаимодействий в кристаллах приводит к низкотемпературному полиморфизму [16, 17]. Другими словами, неустойчивость поведения кристаллической структуры к изменению температуры в семействе nP обусловлена торсионной гибкостью молекул. Однако динамика фазовых переходов и свойства низкотемпературных фаз кристаллов остаются еще слабо изученными, особенно для высших олигофенилов.
Из-за низкой растворимости высших линейных олигофениленов, спадающей экспоненциально по мере увеличения длины сопряженного ядра молекулы [9], получение качественных монокристаллических образцов для них весьма затруднительно, поэтому подавляющее число работ по данным соединениям ориентировано на исследования поликристаллических тонких пленок или спрессованных порошков [18–21]. Интересным представляется химический подход по функционализации сопряженного ядра молекулы различными терминальными заместителями с целью повышения растворимости. Например, добавление концевых триметилсилильных групп в состав линейных сопряженных молекул в ряде случаев оказало положительный эффект на ростовые и морфологические качества кристаллов, их фазовую стабильность, спектрально-флуоресцентные свойства (увеличение квантового выхода флуоресценции) и устойчивость к фотодеградации [15, 22–24].
В данной работе представлены результаты исследования роста из растворов и структуры кристаллов производного пара-кватерфенила с концевыми триметилсилильными заместителями: 4,4'''-бис(триметилсилил)-пара-кватерфенила (TMS-4P-TMS). Для установления эффекта концевых триметилсилильных групп в составе молекулы TMS-4P-TMS в качестве стандарта сравнения используется пара-кватерфенил (4P) [25].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Соединения 4P и TMS-4P-TMS были синтезированы по методикам, описанным в [26]. Для выращивания кристаллов TMS-4P-TMS и 4P использовали толуол (ос. ч.), изопропанол (ч. д. а.) и бутанол-1 (ч. д. а.) (Экос-1, Россия).
Параметры фазовых переходов кристаллов уточнены в диапазоне температур от 30 до 350°C в герметичных алюминиевых тиглях методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на термоаналитическом комплексе STA Netzsch 449 F1. Использование герметичных тиглей позволяет точнее установить величину тепловых эффектов соединений, интенсивно испаряющихся при переходе в расплавленное состояние. Эксперименты проводили на образцах поликристаллических порошков в потоке сухого аргона при скорости нагрева/охлаждения 10°C/мин. Для исследования фазовых переходов при нагреве вещества использовали перекристаллизованный из толуола кристаллический осадок.
Выращивание кристаллов TMS-4P-TMS и 4P из раствора осуществляли методом “растворитель–осадитель” [25]. В качестве растворителя использовали толуол, а в качестве осадителя – сольватофобные изопропанол и бутанол-1. Ранее было установлено, что при 20°С концентрация насыщенного раствора TMS-4P-TMS в толуоле CS ≈ 2.66 ммоль/л, что приблизительно в 4 раза выше, чем у пара-кватерфенила [27]. Для выращивания кристаллов ненасыщенные растворы TMS-4P-TMS и 4P в толуоле подготавливали в стеклянных виалах объемом 20 мл в ультразвуковой ванне. Полученный отфильтрованный раствор в стакане помещали внутрь герметичного сосуда с осадителем, данную ростовую систему выдерживали в термостате при 20○С в течение нескольких суток. По окончанию выдержки наиболее крупные плоские кристаллы TMS-4P-TMS плавали на поверхности раствора, а кристаллы 4P – как на поверхности, так и в объеме раствора.
Микроморфологию поверхности кристаллов исследовали с помощью оптического микроскопа BX61 (Olympus, Япония), сканирующего конфокального микроскопа LEXT OLS3100 (Olympus, Япония) и атомно-силового микроскопа (АСМ) Ntegra Prima (NT-MDT, Россия) в контактном режиме по методике, описанной в [24]. Толщину кристаллических пленок определяли с помощью микроскопа LEXT OLS3100.
Полный дифракционный эксперимент для монокристалла TMS-4P-TMS был получен при температурах –188, 20 и 127°С на дифрактометре Xcalibur Eos S2 (Rigaku Oxford Diffraction), оборудованном двухкоординатным ССD-детектором. Автоматический выбор ячейки Браве завершился выбором триклинных ячеек. Экспериментальные данные обработаны с помощью программы CrysAlisPro [28]. Кристаллографические расчеты (ввод поправки на аномальное рассеяние, учет поглощения, усреднение эквивалентных по симметрии отражений) осуществляли с использованием комплекса программ Jana2006 [29]. Координаты атомов кремния и углерода найдены методом chargeflipping в программе Superflip [30]. Координаты атомов водорода найдены в результате анализа разностных синтезов электронной плотности, построенных на заключительном этапе уточнения структурных параметров атомов кремния и углерода. Тепловые параметры атомов кремния и углерода в модели кристалла TMS-4P-TMS уточнены в анизотропном приближении атомов смещения, а тепловые параметры атомов водорода – в изотропном приближении. Координаты всех атомов структуры и параметры их тепловых смещений уточнены методом наименьших квадратов в полноматричном варианте. Визуализации межмолекулярных взаимодействий в кристаллах, анализ поверхности по Хиршфельду, построение графиков 2D-“отпечатков пальцев” и расчет энергии парных межмолекулярных взаимодействий в кристалле выполнены с помощью пакета CrystalExplorer [31] с использованием кристаллической структуры TMS-4P-TMS и 4P [25], полученной при 20°С. Электронные плотности, использованные для расчета поверхностей Хиршфельда, получены из таблиц атомных волновых функций, расширенных с помощью базисных функций экспоненциального типа [32]. Построение поверхности Хиршфельда с нанесением на нее значений электростатического потенциала было выполнено с использованием теории функционала плотности уровня B3LYP/6-31G(d,p). Расчет парных межмолекулярных взаимодействий в кристалле выполнен с помощью модели CE-B3LYP на основе электронной плотности B3LYP/6-31G(d,p).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 приведены кривые ДСК исследуемых соединений. Параметры их фазовых переходов приведены в табл. 1.
Таблица 1. Параметры фазовых переходов для 4P и TMS-4P-TMS, установленные методом ДСК в закрытых и открытых [27] тиглях
Вещество | М, г/моль | Ttr, °C | ΔHtr, кДж/моль | Tm, °C | ΔHm, кДж/моль | ΔSm, кДж/(моль∙К) |
4P | 306.4 | 314 314 [27] | 43 61 [27] | 73 | ||
TMS-4P-TMS | 450.8 | 136–155 151 [27] | 6.3 2.1 [27] | 285 286 [27] | 33 41 [27] | 59 |
Примечание. Ttr и ΔHtr – температура и энтальпия полиморфного перехода; Tm – температура плавления, ΔHm и ΔSm – энтальпия и энтропия плавления.
Рис. 1. Кривые ДСК для 4Р (1) и TMS-4P-TMS (2).
В сравнении с результатами, полученными ранее при использовании открытых тиглей [27], температуры плавления Tm исследованных соединений почти не изменились, однако значения молярной энтальпии плавления ΔHm заметно снизились: для 4P – в 1.42 раза, для TMS-4P-TMS – в 1.24 раза (табл. 1). Полученный результат по ΔHm для 4P близок к результату, полученному в [33] (37.8 кДж/моль) методом ДСК в ходе исследований в герметичном алюминиевом тигле. В сравнении с незамещенным соединением, для триметилсилильного производного температура плавления ниже на 20°С, а молярные величины энтальпии и энтропии плавления уменьшаются приблизительно в 1.3 и 1.2 раза соответственно, что указывает на меньшую степень локального разупорядочения при переходе в расплавленное состояние. При охлаждении расплавы исследуемых соединений кристаллизуются на 8–10°С ниже соответствующих температур плавления. В условиях герметичного тигля полиморфный переход для TMS-4P-TMS оказался более размытым в интервале 136–155°С.
Данные по росту кристаллов TMS-4P-TMS представлены в табл. 2. Для сравнения в табл. 2 также представлены сведения по характеристикам роста кристаллов 4P, взятые из [25] и дополненные новыми результатами.
Таблица 2. Характеристики роста кристаллов TMS-4P-TM и 4P из растворов толуола в парах осадителя
Вещество | Осадитель | С0, г/л | τ, сутки | L, мм | H, мкм | VL, мкм/ч | ξ×103 |
TMS-4P-TMS | Изопропанол | 1.0 | 5 | 2 | 120 | 16.7 | 60 |
Бутанол-1 | 1.0 | 7 | 3 | 320 | 17.8 | 106 | |
1.0 | 14 | 6 | 170 | 17.8 | 28 | ||
1.0 | 13 | 22 | 15 | 70.5 | 0.7 | ||
4P | Изопропанол* | 0.17 | 20 | 5 | 0.5 | 10.4 | 0.1 |
20 | 1.9 | 4.7 | 4.0 | 2.5 | |||
Изопропанол | 0.17 | 25 | 7 | 30 | 11.7 | 4 | |
Бутанол-1 | 0.16 | 5 | 1.5 | 25 | 12.5 | 17 |
Примечание. С0 – начальная концентрация раствора, τ – период роста, L и H – соответственно длина и толщина наиболее крупных кристаллов в опыте, VL = L/τ – средняя продольная скорость роста кристаллов, ξ = H/L– коэффициент анизотропии скорости роста кристаллов.
*Данные [25].
Бесцветные кристаллы TMS-4P-TMS в насыщенных спиртовых парах склонны к росту на границе раздела жидкость–воздух. В данных условиях в течение 5–14 сут формируются плоские монокристаллы длиной 5 и более миллиметров, толщина которых может превышать 300 мкм (рис. 2а, табл. 2). При УФ-освещении кристаллы флуоресцируют синим цветом (рис. 2а). Монокристаллы TMS-4P-TMS малых размеров имеет типичную форму – параллелограмм с внутренними углами ~79° и ~101° (рис. 2б). Поверхность развитой грани крупных кристаллов (рис. 2в) изобилует множеством макроступеней и дислокационных холмиков роста. В качестве примера на рис. 2г представлено конфокальное изображение четырехскатной дислокационной пирамиды.
Рис. 2. Кристаллы TMS-4P-TMS: а – на предметном стекле при УФ-подсветке; б – изображение монокристалла в скрещенных поляризаторах; в – изображение крупного монокристалла, сформированного на границе раздела раствор–воздух; г – дислокационная пирамида роста на поверхности кристалла.
В одном из опытов после выдержки раствора в парах бутанола-1 в течение 13 сут на поверхности раствора сформировался крупный кристалл TMS-4P-TMS, вершины которого соприкасались со стенками ростового стакана (рис. 3а). Кристалл удалось в целостности извлечь на предметное стекло (рис. 3б). Его размеры составили 22 × 18 мм2 при толщине около 15 мкм. Поверхность кристалла визуально гладкая. На рис. 3в представлено АСМ-топографическое изображение участка поверхности развитой грани кристалла, где наблюдаются ступени роста высотой h = 1.9 ± 0.1 нм. Подобная картина является характерной для большей части поверхности развитой грани кристалла. По-видимому, формирование данного кристалла проходило по механизму 2D-зарождения новых слоев, что обеспечило предельно низкую шероховатость поверхности развитой грани и высокую анизотропию скорости роста кристаллов в продольных и поперечных направлениях. У представленного на рис. 3б кристалла коэффициент анизотропии скорости роста определяется как î = h/L = Vh/VL ≈ 7 × 10–4, где h и L – толщина и длина кристалла соответственно, Vh и VL – средние за период выращивания кристалла скорости его роста в толщину и длину соответственно. Для сравнения коэффициент анизотропии скорости роста î кристалла, приведенного на рис. 2в, на 2 порядка выше (табл. 2).
Рис. 3. Крупная монокристаллическая пленка TMS-4P-TMS на поверхности раствора (а) и ее изображение на подложке при УФ-подсветке (б); в – топографическое АСМ-изображение центральной области развитой грани кристалла в ориентации плоскости (001).
Распространенной формой среди кристаллов 4Р также является ограниченный боковыми гранями [110], [110], [1 1 0] и [110] плоский параллелограмм с внутренними углами ~70° и ~110° [34]. В аналогичных условиях скорость продольного и поперечного роста кристаллов 4P заметно ниже, чем у TMS-4P-TMS. Информация о росте кристаллов 4P на границе раздела жидкость–воздух в табл. 2 дополнена новыми сведениями по росту в объеме раствора. В данных условиях кристаллы 4P формируются крупнее и утолщеннее, но с более развитой поверхностной микроморфологией. В качестве примера на рис. 4а представлен кристалл 4P со сростком вдоль длинной оси кристалла. Основной кристалл и сросток имеют плоскую форму. На поверхности развитой грани наблюдается множество линейно протяженных холмиков роста высотой до 2 мкм, которые в ряде областей формируют дендритные структуры с крестообразными пересечениями под углом ~70°. Подобные особенности поверхностной микроморфологии были зафиксированы ранее при исследовании роста из растворов кристаллов пара-терфенила [15] и пара-квинкифенила [6].
Рис. 4. Кристалл 4P со сростком под УФ-освещением (а) и конфокальное изображение участка его поверхности (б).
Основные кристаллографические параметры, данные экспериментов и результаты уточнения структур TMS-4P-TMS при температурах –188, 20 и 127°С и 4Р при температурах –188 и 20°С [25] приведены в табл. 3. Информация об исследованной структуре депонирована в Кембриджском банке данных органических структур (CCDC № 2356555, 2356556, 2356557).
Таблица 3. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты уточнения структуры кристаллов TMS-4P-TMS и 4P
Вещество | TMS-4P-TMS | 4P | |||
Химическая формула | C30H34Si2 | С24Н18 | |||
T, °C | –188 | 20 | 127 | –188 | 20 [25] |
Пр. гр., Z | P1, 2 | P1, 2 | P1, 2 | P1, 8 | P21/a, 2 |
а, Å | 7.5185(5) | 7.7024(2) | 7.8552(4) | 11.021(1) | 8.071(3) |
b, Å | 9.1599(6) | 9.2629(3) | 9.3467(4) | 15.933(1) | 5.580(1) |
c, Å | 18.542(3) | 18.6123(7) | 18.641(1) | 17.752(2) | 17.770(2) |
α, град | 84.531(9) | 96.18(3) | 96.546(4) | 96.03(1) | 90 |
β, град | 83.904(9) | 96.28(3) | 96.360(4) | 90.20(1) | 95.74(2) |
γ, град | 89.984(6) | 90.31(2) | 90.619(4) | 90.02(1) | 90 |
Vо, Å3 | 1263.9(2) | 1312.0(1) | 1350.9(1) | 3096.5 | 796.4(4) |
Dx, г/см3 | 1.184 | 1.141 | 1.108 | 1.314 | 1.278 |
Излучение; λ, Å | MoKα; 0.71073 | ||||
μ, мм–1 | 0.156 | 0.150 | 0.146 | 0.074 | 0.072 |
Дифрактометр | Xcalibur, EosS2 | ||||
Тип сканирования | Ω | ||||
θmax, град | 34.95 | 38.59 | 38.66 | 34.97 | 35.00 |
Число отражений: измеренных/независимых, Rуср/I > 3σ(I) | 17530/367, 0.036/7052 | 28465/10439, 0.041/3089 | 29331/10757, 0.047/2028 | 42119/22226, 0.184/1436 | 10351/3032, 0.129/472 |
Метод уточнения | МНК по F | ||||
Число уточняемых параметров | 425 | 658 | 145 | ||
R(|F|)/wR(|F|) | 0.059/0.071 | 0.053/0.042 | 0.044/0.040 | 0.059/0.052 | |
S | 2.51 | 1.74 | 1.77 | 1.88 | |
Δρmin/Δρmax, э/Å3 | –0.39/1.58 | –0.59/1.14 | –0.80/1.56 | –0.53/0.59 | |
Примечание. Dx – рентгенографическая плотность, χ – угол отклонения молекулы от нормали к плоскости (001).
В исследуемом диапазоне температур в кристалле TMS-4P-TMS фазовые переходы отсутствуют. С ростом температуры от –188 до 127°С наблюдается увеличение объема элементарной ячейки на 6.9% (табл. 3). Также было проведено исследование кристалла TMS-4P-TMS при 152°С, что слегка выше температуры полиморфного перехода (табл. 1). Для сравнения на рис. 5 представлены рентгеновские дифрактограммы, свидетельствующие о том, что при температуре 152°С данный образец перестает быть монокристаллическим.
Рис. 5. Дифрактограммы монокристаллаTMS-4P-TMS при температурах 20 (а), 127 (б) и 152°С (в).
В [25] была уточнена структура кристалла 4P при 20°С в моноклинной пр. гр. P21/a с параметрами, представленными в табл. 3. В настоящей работе установлено, что при охлаждении кристалла 4P до –188°С наблюдается фазовый переход в низкотемпературную триклинную фазу с увеличением элементарной ячейки почти в 4 раза (табл. 2). Уточненные в выбранных условиях параметры элементарной ячейки для низкотемпературной полиморфной фазы 4P согласуются с результатами [14]. К сожалению, провести полное рентгеноструктурное исследование образцов 4Р при –188°С не удалось из-за невозможности получить от данного образца объем экспериментального материала, необходимый для успешного уточнения 658 структурных параметров (табл. 3).
Структура молекул в кристаллах при различных температурах представлена на рис. 6. При комнатной температуре конформация молекулы 4P почти плоская, с торсионными углами между фенильными группами не выше 3°, при этом тепловые эллипсоиды атомов углерода уширены (рис. 6а). В низкотемпературной триклинной фазе конформация молекулы 4P не плоская, со значительным разупорядочением фенильных групп. Сопряженное ядро молекул TMS-4P-TMS также имеет неплоскую структуру, незначительно изменяющуюся в диапазоне от –188 до 127°С. Внутренние фенильные кольца практически компланарны, а внешние – развернуты относительно внутренних в одну сторону с торсионными углами ~25° (рис. 6б–6г). С ростом температуры наблюдаются незначительное увеличение торсионного угла между внутренними фенилами и в равной степени уменьшение торсионных углов между внешними фенильными группами с 26° до 24°. Тепловые эллипсоиды атомов углерода и кремния молекул TMS-4P-TMS при –188°С небольшие, но по мере увеличения температуры отмечается их заметное уширение.
Рис. 6. Конформации молекул в кристалле при различных температурах в ORTEP-представлении (тепловые эллипсоиды с вероятностью 50%): а – 4P при 20°С; TMS-4P-TMS при –188 (б), 20 (в) и 127°С (г).
В сравнении с 4P энергетически выгодная благодаря внутримолекулярным взаимодействиям неплоская конформация сопряженного ядра TMS-4P-TMS в кристалле, по-видимому, обеспечивается прикрытием жестких концевых триметилсилильных групп, выполняющих функции “защитных распорок”. Действительно, относительно главной оси молекулы радиальное расстояние от ядра атома кремния до ядра атома водорода в концевой группе составляет ~2.35 Å, а для фенильных групп радиальное расстояние от оси молекулы до ближайшего ядра атома водорода – около 1.98 Å. Таким образом, находясь как бы в тени “зонтиков” триметилсилильных групп, сопряженное ядро молекулы TMS-4P-TMS принимает более выгодную конформацию в кристалле. Эта особенность, по всей видимости, придает большую устойчивость кристаллической структуре к полиморфизму при низких и комнатных температурах в сравнении с 4P.
Структура кристаллов 4P состоит из плотноупакованных плоскопараллельных слоев толщиной d001 = 1.77 нм, ориентированных относительно плоскости (001) [25]. Структура кристалла TMS-4P-TMS также сформирована из плотноупакованных монослоев толщиной d001 = 1.84 нм, параллельных плоскости (001) (рис. 7а). Таким образом, установленная методом атомно-силовой микроскопии высота ростовых ступеней на поверхности развитой грани кристалла (рис. 3в) соответствует толщине мономолекулярного слоя d001.
Рис. 7. Проекции кристаллической структуры TMS-4P-TMS (20°С) на кристаллографические плоскости (100) (а), (010) (б), (012) (в); г –изображение кристалла TMS-4P-TMS с указанием индексов граней.
В кристалле 4P отклонение длинной оси молекулы от нормали к плоскости (001) составляет χ ≈ 17°, тогда как в кристалле TMS-4P-TMS угол χ почти в 3 раза выше (рис. 7а). Подобная картина наблюдается для кристаллов пара-терфенила и его производного с концевыми триметилсилильными группами: TMS-3P-TMS [15]. Сравнивая между собой кристаллическое строение данных соединений, можно заметить, что кристаллы TMS-3P-TMS и TMS-4P-TMS, как и кристаллы их незамещенных аналогов 3P и 4P, также изоструктурны.
В кристалле TMS-4P-TMS в направлении главных кристаллографических осей a и b распложены ряды молекул, эквивалентных по трансляционной симметрии вдоль соответствующих направлений (рис. 7а, 7б). Однако плотнейшие молекулярные ряды ориентированы вдоль направлений [110] и [110] (рис. 7в), внутри которых ближайшие соседи расположены наиболее близко в кристалле, не являясь при этом симметрически эквивалентными. Фрагмент монослоя, построенный на векторах [110] и [110], представляет собой параллелограмм с углами 100.5° и 79.5° (рис. 7в). Плоские кристаллы TMS-4P-TMS в форме параллелограмма с углами около 101° и 79° при выращивании из растворов встречаются часто, из чего можно предположить, что наиболее сильные межмолекулярные взаимодействия в кристалле осуществляются между ближайшими соседями в направлениях плотнейших молекулярных рядов [110] и [110]. Подобная картина в упаковке молекул внутри плотных монослоев наблюдается в кристалле пара-кватерфенила (рис. 8а), вследствие чего наиболее распространенной формой среди образующихся в растворах микрокристаллов 4P также является параллелограмм с внутренними углами ~70° и ~110° [34].
Рис. 8. Схема взаимодействий между ближайшими соседями в кристаллах 4P (а) и TMS-4P-TMS (б) (на рис. а серые и цветные молекулы 4P находятся в разных монослоях).
Для обоснования наблюдаемой анизотропии роста кристаллов 4P и TMS-4P-TMS выполнены расчеты энергии парных межмолекулярных взаимодействий между ближайшими соседями. Получены расчетные значения полной энергии парных межмолекулярных взаимодействий Etot, расстояния между молекулярными центроидами которых Rijk представлены в табл. 4. Как видно, выполненные расчеты подтверждают предположение о наиболее сильных парных взаимодействиях между молекулами в направлениях [110] и [110]. В направлениях рядов, ориентированных вдоль кристаллографических осей [100] и [010], внутри которых молекулы эквивалентны друг другу по трансляционной симметрии, а также в направлениях торцевых контактов, величина потенциала парных взаимодействий по абсолютному значению значительно ниже. Таким образом, полученные расчетные данные по потенциалам межмолекулярных взаимодействий хорошо объясняют наблюдаемую анизотропию роста кристаллов. Отметим, что в кристалле 4P в первое координационное окружение входят восемь боковых и по четыре с каждой из сторон торцевых соседей (всего 16) (рис. 8а). В кристалле TMS-4P-TMS в первой координации также восемь боковых соседей (рис. 7в), однако из-за значительного наклона молекулы к плоскости монослоя и наличия разветвленных концевых групп число соседей по торцевым контактам увеличивается до девяти с каждой из сторон (рис. 8б). Доли энергии связи в первом координационном окружении, приходящиеся на торцевые взаимодействия с ближайшими соседями с одной из сторон, для 4P и TMS-4P-TMS составляют 6.5 и 8% соответственно, а в абсолютном значении соответствующая энергия связи молекулы триметилсилильной производной в ~1.5 раза больше, чем у ее незамещенного аналога (табл. 4). Данное обстоятельство, возможно, является причиной разительного различия в коэффициентах анизотропии скорости роста кристаллов î (табл. 2).
В табл. 4 приведена полная энергия связи ΣE молекул в кристалле, рассчитанная для первого координационного окружения. Энтальпия сублимации ΔHsub определяется как половина энергии связи молекулы в кристалле [35]. В соответствии с этим теоретический прогноз величины ΔHsub на основе выполненных вычислений без учета температурного фактора для 4P составляет 162 кДж/моль, а для TMS-4P-TMS – 202 кДж/моль. Полученное расчетное значение энтальпии сублимации для пара-кватерфенила хорошо согласуется с имеющимися экспериментальными сведениями: ΔHsub = 163 ± 5 кДж/моль [36, 37].
Таблица 4. Расчетные значения полной энергии Etot парных межмолекулярных взаимодействий между ближайшими соседями в кристалле, расположенными на расстоянии Rijk друг от друга вдоль соответствующих направлений [ijk]
TMS-4P-TMS | |||||||
Направление | [100] | [010] | [110] | [110] | Торцевые контакты | ΣE | η |
Nijk | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 × 9 | –404 | 8.0 |
Etot, кДж/моль | –7.0 | –27.3 | –67.8 | –67.6 | –32.4 | ||
Rijk, Å | 7.70 | 9.26 | 6.01 | 6.04 | 18.66–28.07 | ||
4P | |||||||
Направление | [100] | [010] | [110] | [110] | Торцевые контакты | ΣE | η |
Nijk | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 × 4 | –324 | 6.5 |
Etot, кДж/моль | –3.3 | –34.1 | –51.8 | –51.8 | –21.1 | ||
Rijk, Å | 8.07 | 5.58 | 4.91 | 4.91 | 17.77–20.24 | ||
Примечание. Nijk – число соседей в данном направлении; ΣE – суммарная энергия взаимодействия с ближайшими соседями (кДж/моль); η = Eend/ΣE – доля торцевых контактов в энергии ΣE (%), Eend – полная энергия торцевых контактов с одной стороны.
Поверхность Хиршфельда молекулы в кристалле создается путем разделения пространства кристалла на области, где электронное распределение суммы сферических атомов молекулы (промолекулы) доминирует над соответствующей суммой в кристалле (прокристалле). Для определения поверхности Хиршфельда используется весовая функция
wa(r) = ρpromol(r)/ρprocryst(r),
где ρpromol(r) и ρprocryst(r) – промолекулярная и прокристаллическая электронные плотности, построенные на основе полученных атомных (сферических) электронных плотностей ρA(r). Непрерывная скалярная весовая функция изменяется в пределах 0 < wa(r) < 1 во всем пространстве. Изоповерхность этой функции со значением 0.5 и есть поверхность Хиршфельда [32].
На рис. 9 представлены поверхности Хиршфельда молекул 4P и TMS-4P-TMS с нанесенными на них значениями: электростатического потенциала (а), кратчайших расстояний di (б) и de (в) от точки поверхности до ближайших внутренних и внешних атомных ядер соответственно, нормализованного контактного расстояния dnorm (г) и величины изогнутости поверхности C (д).
Рис. 9. Поверхности Хиршфельда молекул 4P и TMS-4P-TMS в кристалле с нанесенными значениями: электростатического потенциала в диапазоне ±0.02 отн. ед. (а); di в диапазоне 1.050 (красный)–2.550 Å (синий) (б); de в диапазоне 1.000 (красный)–2.550 Å (синий) (в); dnorm в диапазоне 0.0 (белый)–1.2 (синий) отн. ед. (г); изогнутости в диапазоне от –4.00 (зеленые участки) до 0.40 отн. ед. (синие границы) (д).
На рис. 9а окрашенные красным цветом участки соответствуют отрицательному потенциалу, синим – положительному; белые области – участки поверхности с нулевым потенциалом. Как видно, участки поверхности, расположенные параллельно фенильным кольцам, характеризуются максимальными значениями отрицательного потенциала, а расположенные около атомов водорода участки поверхности имеют максимальный положительный потенциал. Из-за неплоской конформации сопряженного ядра молекулы TMS-4P-TMS области отрицательного потенциала на поверхности Хиршфельда волнообразно деформированы в сравнении с молекулой 4P. Также небольшие области с отрицательным потенциалом меньшего значения присутствуют на поверхности вблизи концевых триметилсилильных групп.
Наиболее близко к поверхности Хиршфельда с внутренней стороны на расстоянии di и с внешней стороны на расстоянии de расположены ядра атомов водорода. На рис. 9б и 9в данные участки окрашены красным и имеют округлую форму. Наиболее удаленно от поверхности Хиршфельда как с внутренней, так и внешней стороны расположены атомы углерода сопряженного ядра молекул, на что указывают окрашенные синим участки на рис. 9б, 9в.
Нормализованное контактное расстояние определяется как сумма нормализованных на ван-дер-ваальсов радиус атома расстояний:
dnorm = d|i| + d|e|,
где
,
и – ван-дер-ваальсов радиус внутренних и внешних атомов. На поверхности dnorm, где межмолекулярные контакты между атомами короче, чем сумма их ван-дер-ваальсовых радиусов, они окрашены красным, более длинные, чем сумма ван-дер-ваальсовых радиусов, контакты окрашены синим, и окрашены белым, когда длина контактов практически равна сумме ван-дер-ваальсовых радиусов данных атомов [29]. На поверхности dnorm исследуемых молекул нет красных пятен, что говорит об отсутствии в кристаллах 4P и TMS-4P-TMS контактов короче, чем сумма соответствующих ван-дер-ваальсовых радиусов (рис. 9г). Значительные синие области на поверхности dnorm в районе концевых триметилсилильных групп молекулы TMS-4P-TMS указывают на повышенное в сравнении с 4P количество длинных торцевых контактов, что согласуется со схемой, представленной на рис. 8б.
Изогнутость С (от англ. curvedness) является функцией среднеквадратичной кривизны поверхности. Плоские участки поверхности имеют низкую изогнутость (окрашены зеленым на рис. 9д), а участки с высокой изогнутостью имеют высокую кривизну (синие граничные области на рис. 9д). Области на поверхности Хиршфельда с высокой изогнутостью имеют тенденцию делить поверхность на пятна контакта с каждой соседней молекулой, так что изогнутость поверхности Хиршфельда можно использовать для определения координационного числа в кристалле. В данном случае на боковой поверхности молекул имеется по шесть пятен контактов с ближайшими соседями. То есть контакты с ближайшими соседями в направлениях [100] (рис. 8) дают незначительный вклад в боковые взаимодействия (табл. 3) и поэтому их можно исключить из первого координационного окружения. С торцевых сторон на поверхности C у молекулы 4P по четыре пятна (три крупных и одно малое), а у TMS-4P-TMS значительно больше.
На рис. 10 представлены 2D-графики “отпечатков пальцев” межмолекулярных взаимодействий в кристаллах 4P и TMS-4P-TMS. Данные двумерные графики представляют визуальную сводку частоты каждой комбинации di и de на поверхности Хиршфельда молекулы. Цветом на графике “отпечатков пальцев” обозначены интенсивности контактов: наиболее слабые – синим и далее по спектру по мере увеличения интенсивности взаимодействия вплоть до красного цвета. Таким образом, графики “отпечатков пальца” как функция интенсивности взаимодействия в координатах (di, de) характеризуют все межмолекулярные контакты одновременно и дают количественное представление о природе и типе связей между молекулами в кристалле. На рис. 10 также показаны разложения графиков “отпечатков пальцев” для основных двух типов контактов, имеющих место в кристаллах 4P и TMS-4P-TMS: C···H и H···H. Относительно диагонали de = di образ двумерного “отпечатка пальца” имеет псевдозеркальную симметрию.
Рис. 10. 2D-графики “отпечатков пальцев”, характеризующие взаимодействия между ближайшими молекулами в кристаллах 4P (а) и TMS-4P-TMS (б). Показаны доли контактов C∙∙∙H и H∙∙∙H и их распределение по области “отпечатка пальца”.
Как видно из представленных на рис. 10 2D-графиков, длины контактов, определяемые суммой di + de, для 4P лежат в интервале 2.4–4.2 Å, а для TMS-4P-TMS – в интервале 2.3–4.3 Å. Область C···H-контактов на графиках “отпечатков пальцев” образует так называемые “крылья”. H···H-контакты сосредоточены в центральной области двумерных графиков и частично представлены в “крыльях”.
В кристалле 4P доля C···H-контактов составляет 56.1%, остальные 43.9% приходятся на H···H-взаимодействия (рис. 10а). Как видно из рис. 10а, наиболее интенсивные C···H-взаимодействия лежат в интервале от 2.9 до 3.3 Å. Наиболее интенсивные H···H-контакты лежат в области значений di + de от 3.0 до 3.5 Å.
Для кристалла TMS-4P-TMS наблюдается значительное перераспределение по вкладам контактов (рис. 10б). Доля C···H-контактов снижается до 34.4%, а вклад H···H-взаимодействий увеличивается до 65.4%. Интенсивность C···H-взаимодействий значительно снижена, при этом интенсивность H···H заметно выше в сравнении с кристаллом 4P. Наиболее интенсивные C···H-взаимодействия лежат в интервале от 3.0 до 3.4 Å. Наиболее интенсивные H···H-контакты лежат на диагонали de = di в интервале от 2.4 до 3.6 Å.
В кристалле 4P основной вклад в C···H-контакты дают C–H···π-взаимодействия, схема которых представлена на рис. 11а. Наиболее короткий C–H···π-контакт имеет длину 2.87 Å. В C–H···π-взаимодействия включено все сопряженное ядро молекулы 4P. В кристалле TMS-4P-TMS молекулы упакованы со смещением друг относительно друга, которое приблизительно соответствует длине фенильной группы. Поэтому парные C–H···π-взаимодействия между сопряженными ядрами молекул обеспечены лишь тремя фенильными звеньями, а четвертое участвует в C–H···π- и C–H···С–Si-контактах с атомами концевой триметилсилильной группы (рис. 11б). Между молекулами TMS-4P-TMS наиболее короткие C–H···π-контакты имеют длину 2.86 Å. Таким образом, благодаря сдвигу между ближайшими молекулами TMS-4P-TMS в кристалле длины коротких C–H···π-контактов не меньше, чем между молекулами в кристалле 4P. Однако доля данных контактов в кристалле TMS-4P-TMS во взаимодействиях между сопряженными ядрами ближайших молекул заметно меньше, что, по всей видимости, должно негативно сказаться на переносе электрических зарядов в кристалле.
Рис. 11. Кратчайшие контакты C–H∙∙∙C между молекулами 4P (а) и TMS-4P-TMS (б) в кристаллах, длина которых не выше 3.5 Å.
С помощью программы CrystalExplorer проанализированы пустые области кристаллических структур исследуемых соединений. Поверхность пустот определяется как изоповерхность электронной плотности прокристалла и рассчитывается для всей элементарной ячейки. Такой подход дает меньшее значение доли пустот в элементарной ячейке в сравнении с подходом оценки упаковки молекул в представлении совокупности ван-дер-ваальсовых сфер [38].
Визуализация пустот в элементарных ячейках 4P и TMS-4P-TMS при 20°С представлена на рис. 12, параметры пустот приведены в табл. 5. Как видно, в элементарных ячейках кристаллов исследуемых соединений имеются несколько пустых областей, каждая из которых выделена своим цветом. Наиболее крупная пустая область выделена красным цветом и для 4P она занимает 6.19%, а для TMS-4P-TMS – 12.71% от соответствующего объема элементарной ячейки, на остальные пустые области в кристаллах 4P и TMS-4P-TMS приходится 0.87 и 0.01% соответственно. Таким образом, доля пустот в кристаллах TMS-4P-TMS в 1.8 раза выше, чем в кристаллах 4P. Структура главных пустых доменов (выделена красным на рис. 12) характеризуется наличием выделенного вдоль главной оси молекул направления внутри элементарной ячейки. В результате в кристаллах исследуемых соединений пустые области формируют сплошные каналы, направленные вдоль главных осей молекул: для 4P – вдоль нормали к плоскости (107), для TMS-4P-TMS – вдоль нормали к плоскости (023).
Рис. 12. Визуализация пустот в элементарных ячейках кристаллов 4P (а) и TMS-4P-TMS (б) при 20°С (изоповерхность 0.002 э∙Å–3).
Таблица 5. Характеристики пустот в элементарных ячейках кристаллов 4P и TMS-4P-TMS при 20°С
Пустые домены | 4P | TMS-4P-TMS | ||||
SØ, Ų | VØ, ų | η, % | SØ, Ų | VØ, ų | η, % | |
Красный | 229.18 | 49.29 | 6.19 | 524.08 | 166.84 | 12.71 |
Желтый | 12.15 | 3.64 | 0.46 | 0.48 | 0.02 | < 0.01 |
Зеленый | 11.60 | 3.17 | 0.40 | 0.30 | 0.01 | < 0.01 |
Голубой | 0.57 | 0.05 | < 0.01 | 0.31 | 0.01 | < 0.01 |
Синий | 0.45 | 0.04 | < 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Пурпурный | 0.37 | 0.03 | < 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
Всего | 254.32 | 56.22 | 7.06 | 525.2 | 166.88 | 12.72 |
Примечание. SØ и VØ – площадь поверхности и объем пустого домена, η – доля пустых доменов в элементарной ячейке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что кристаллы TMS-4P-TMS значительно лучше разрастаются в растворе, чем кристаллы пара-кватерфенила, что связано с более высокой растворимостью и, вероятно, благоприятными особенностями кристаллической упаковки у первого. Коэффициент анизотропии скорости роста, определяемый как отношение толщины кристалла к его длине, для TMS-4P-TMS оказался на 1–2 порядка выше, чем у 4P. Типичная форма кристаллов 4P и TMS-4P-TMS – плоские параллелограммы, построенные на гранях (110), (110) и противоположных им. Согласно выполненным расчетам парных межмолекулярных взаимодействий наиболее сильная связь между ближайшими соседями в кристаллах исследуемых соединений осуществляется в направлениях векторов [110] и [110], что объясняет наиболее быстрый рост кристаллов вдоль данных направлений. Структура кристаллов TMS-4P-TMS, установленная в триклинной пр. гр. P1 с Z = 2, изоструктурна его более короткому гомологу TMS-3P-TMS. Так же как и кристаллы 4P, кристаллы TMS-4P-TMS представляют собой стопку плотноупакованных монослоев в ориентации (001), однако наличие концевых триметилсилильных групп приводит к значительным изменениям в упаковке молекул: к троекратному увеличению наклона молекул к базальной плоскости монослоя и заметному снижению доли C–H···π-взаимодействий между сопряженными ядрами молекул, что в целом выражается в более рыхлой упаковке молекул в кристалле. В отличие от 4Р кристаллы TMS-4P-TMS стабильны в диапазоне температур от –188 до 127°С, при этом у них наблюдается полиморфный переход в высокотемпературную фазу в интервале 136–155°С. Таким образом, массивные концевые триметилсилильные заместители выполняют стабилизирующую роль для кристаллической структуры при низких и комнатных температурах. Анализ поверхности Хиршфельда молекул в кристалле показал, что если для 4P наибольший вклад в межмолекулярные взаимодействия дают C–H···π-контакты (56.1%), то для TMS-4P-TMS имеет место значительное перераспределение в пользу H···H-контактов (65.4%). Анализ пустот в кристаллической структуре, выполненный на основе определения изоповерхности электронной плотности прокристалла, показал, что их доля в кристалле TMS-4P-TMS в 1.8 раза выше, чем в кристаллах 4P, при этом в кристаллах исследуемых соединений пустые области формируют сплошные каналы, направленные вдоль главных осей молекул.
Работа проведена в рамках выполнения государственного задания НИЦ “Курчатовский институт” c использованием оборудования ЦКП “Структурная диагностика материалов”.
About the authors
V. A. Postnikov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Author for correspondence.
Email: postva@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
N. I. Sorokina
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: postva@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
M. S. Lyasnikova
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: lyasnikova.m@crys.ras.ru
Russian Federation, Moscow
G. A. Yurasik
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: postva@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
A. A. Kylishov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: postva@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
T. A. Sorokin
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: postva@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
O. V. Borshchev
Enikolopov Institute of Synthetic Polymer Materials of Russian Academy of Sciences
Email: postva@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
E. A. Svidchenko
Enikolopov Institute of Synthetic Polymer Materials of Russian Academy of Sciences
Email: postva@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
N. M. Surin
Enikolopov Institute of Synthetic Polymer Materials of Russian Academy of Sciences
Email: postva@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Ried W., Freitag D. // Angew. Chem. 1968. V. 80. P. 932. https://doi.org/10.1002/ange.19680802203
- Noren G.K., Stille J.K. // J. Polym. Sci. Macromol. Rev. 1971. V. 5. P. 385. https://doi.org/10.1002/pol.1971.230050105
- Attia A.A., Saadeldin M.M., Soliman H.S. et al. // Opt. Mater. 2016. V. 62. P. 711. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.10.046
- Berlman I.B. Handbook of florescence spectra of Aromatic Molecules. 2d ed. N.Y.; London: Academic Press, 1971. 473.
- Nijegorodov N.I., Downey W.S., Danailov M.B. // Spectrochim. Acta. A. 2000. V. 56. P. 783. https://doi.org/10.1016/S1386-1425(99)00167-5
- Postnikov V.A., Sorokina N.I., Lyasnikova M.S. et al. // Crystals. 2020. V. 10. P. 363. https://doi.org/10.3390/cryst10050363
- Quochi F., Saba M., Cordelia F. et al. // Adv. Mater. 2008. V. 20. P. 3017. https://doi.org/10.1002/adma.200800509
- Cao M., Zhang C., Cai Z. et al. // Nat. Commun. 2019. V. 10 (756). https://doi.org/10.1038/s41467-019-08573-8
- Кулишов А.А. Дис. “Особенности роста кристаллов линейных сопряженных молекул из гомологических семейств аценов и олигофениленов”… к-та физ.-мат. наук. М.: ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, 2022.
- Давыдов А.С. Теория поглощения света в молекулярных кристаллах. Киев: Изд-во АН УССР, 1951. 176 c.
- Mabbs R., Nijegorodov N., Downey W.S. // Spectrochim. Acta. A. 2003. V. 59. P. 1329. https://doi.org/10.1016/S1386-1425(02)00329-3
- Lukeš V., Aquino A.J.A., Lischka H. et al. // J. Phys. Chem. B. 2007. V. 111. P. 7954. https://doi.org/10.1021/jp068496f
- Freidzon A.Y., Bagaturyants A.A., Burdakov Y.V. et al. // J. Phys. Chem. C. 2021. V. 125. P. 13002. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c02779
- Baudour J.-L., Délugeard Y., Rivet P. // Acta Cryst. B. 1978. V. 34. P. 625. https://doi.org/10.1107/s0567740878003647
- Постников В.А., Сорокина Н.И., Алексеева О.А. и др. // Кристаллография. 2018. Т. 63. С. 801. https://doi.org/10.1134/s0023476118050247
- Cailleau H., Baudour J.L., Meinnel J. et al. // Faraday Discuss. Chem. Soc. 1980. V. 69. P. 7. https://doi.org/10.1039/DC9806900007
- Baker K.N., Fratini A.V., Resch T. et al. // Polymer. 1993. V. 34. P. 1571. https://doi.org/10.1016/0032-3861(93)90313-Y
- Szymanski A. // Mol. Cryst. 1968. V. 3. P. 339. https://doi.org/10.1080/15421406808083450
- Athouël L., Resel R., Koch N. et al. // Synth. Met. 1999. V. 101. P. 627. https://doi.org/10.1016/S0379-6779(98)00761-9
- Darwish A.A.A. // Infrared Phys. Technol. 2017. V. 82. P. 96. https://doi.org/10.1016/j.infrared.2017.03.004
- Attia A.A., Soliman H.S., Saadeldin M.M. et al. // Synth. Met. 2015. V. 205. P. 139. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2015.04.003
- Постников В.А., Кулишов А.А., Борщев О.В. и др. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтр. исслед. 2021. № 1. С. 28. https://doi.org/10.31857/s1028096021010131
- Postnikov V.A., Yurasik G.A., Kulishov A.A. et al. // Crystals. 2023. V. 13. P. 1697. https://doi.org/10.3390/cryst13121697
- Postnikov V.A., Sorokina N.I., Kulishov A.A. et al. // ACS Omega. 2024. V. 9. P. 14932. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c08543
- Постников В.А., Сорокина Н.И., Алексеева О.А. и др. // Кристаллография. 2018. Т. 63. С. 152. https://doi.org/10.7868/s0023476118010150
- Parashchuk O.D., Mannanov A.A., Konstantinov V.G. et al. // Adv. Funct. Mater. 2018. V. 28. P. 1800116. https://doi.org/10.1002/adfm.201800116
- Постников В.А., Лясникова М.С., Кулишов А.А. и др. // Журнал физ. химии. 2019. Т. 93. С. 1362. https://doi.org/10.1134/s0044453719090188
- Rigaku Oxford Diffraction: 1.171.39.46. Rigaku Corporation, Oxford, UK, 2018.
- Petrícek V., Dušek M., Palatinus L. // Z. Kristallogr. 2014. V. 229. P. 345. https://doi.org/10.1515/zkri-2014-1737
- Palatinus L. // Acta Cryst. A. 2004. V. 60. P. 604. https://doi.org/10.1107/S0108767304022433
- Turner M.J., McKinnon J.J., Wolff S.K. et al. CrystalExplorer21: Version 21.5.
- Spackman P.R., Turner M.J., McKinnon J.J. et al. // J. Appl. Cryst. 2021. V. 54. P. 1006. https://doi.org/10.1107/S1600576721002910
- Smith G.W. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1979. V. 49. P. 207. https://doi.org/10.1080/00268947908070413
- Постников В.А., Кулишов А.А., Лясникова М.С. и др. // Журнал физ. химии. 2021. Т. 95. С. 1101. https://doi.org/10.31857/s0044453721070220
- Чернов А.А., Гиваргизов Е.И., Багдасаров Х.С. и др. Современная кристаллография. Т. 3. Образование кристаллов. М.: Наука, 1980. 401 с.
- Hanshaw W., Nutt M., Chickos J.S. // J. Chem. Eng. Data. 2008. V. 53. P. 1903. https://doi.org/10.1021/je800300x
- Roux M.V., Temprado M., Chickos J.S. et al. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 2008. V. 37. P. 1855. https://doi.org/10.1063/1.2955570
- Китайгородский А.И. Молекулярные кристаллы. М.: Наука, 1971. 424 с.
Supplementary files