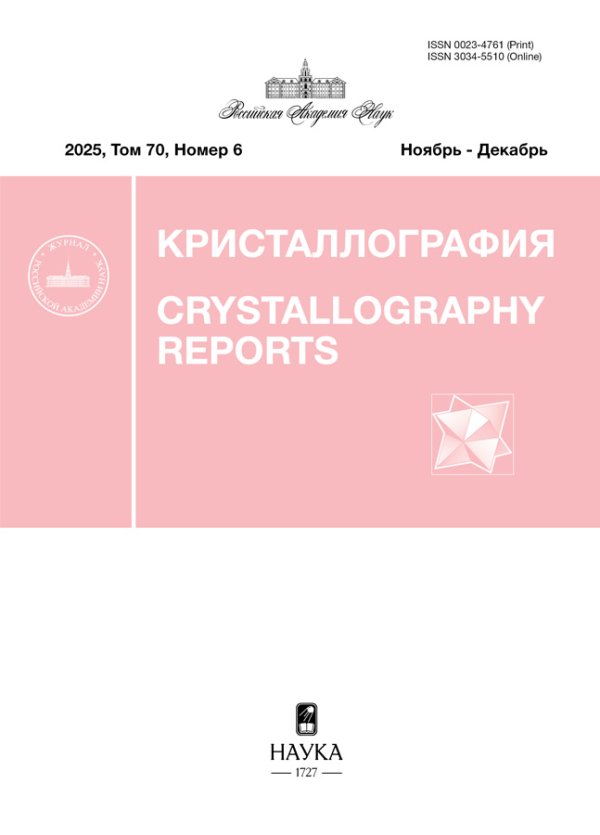Разработка субъединичной вакцины против вируса африканской чумы свиней на основе белка cd2v с использованием методов иммуноинформатики и молекулярной динамики
- Авторы: Ивановский А.С.1,2, Тимофеев В.И.1, Калач А.В.2, Кордонская Ю.В.3, Марченкова М.А.1, Писаревский Ю.В.1, Дьякова Ю.А.3, Ковальчук М.В.1,3
-
Учреждения:
- Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ “Курчатовский институт”
- МИРЭА – Российский технологический университет
- Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”
- Выпуск: Том 69, № 6 (2024)
- Страницы: 987-997
- Раздел: КРИСТАЛЛОГРАФИЯ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0023-4761/article/view/272025
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124060089
- EDN: https://elibrary.ru/YHSZOA
- ID: 272025
Цитировать
Полный текст
Аннотация
При помощи методов иммуноинформатики и молекулярной динамики рассчитана субъединичная вакцина против вируса африканской чумы свиней (АЧС). Смоделирована трехмерная структура выбранного иммуногенного белка вируса АЧС – CD2v, предсказана его топология относительно мембраны. Предсказаны B- и Т-клеточные эпитопы для надмембранной части CD2v, проведена оценка их иммуногенности, аллергенности и токсичности. Для разработки субъединичной вакцины выделен наименее вариабельный участок на основе анализа консервативности предсказанных эпитопов. Для выбранного надмембранного участка методами молекулярной динамики проведены расчеты его стабильности в водно-солевом растворе и показана его структурная стабильность. Методом иммуномоделирования показано, что разработанная вакцина-кандидат способна вызывать стойкий иммунный ответ и не приводит к цитокиновому шторму.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Африканская чума свиней (АЧС) – смертельное заболевание, поражающее домашних свиней и диких кабанов, несущее серьезные экономические последствия для пострадавших стран. АЧС является естественным заболеванием для стран Африки к югу от Сахары и на острове Сардиния в Италии. С 2007 г. вирус появился в Грузии, а затем распространился по всему Кавказскому региону и России. Вспышки также были зарегистрированы на всем постсоветском пространстве [1]. Ввиду высокой контагиозности и вирулентности вируса АЧС для предотвращения риска заражения при выявлении вируса хотя бы у одной особи из поголовья умерщвляется поголовье целиком. Вирус не опасен для человека, но люди могут быть его переносчиками. Основными источниками возбудителя АЧС являются больные, переболевшие и/или погибшие от АЧС домашние свиньи или дикие кабаны, а также их органы, кровь, ткани, секреты, экскреты, объекты внешней среды с которыми они контактируют [2].
Вирион вируса АЧС имеет диаметр от 175 до 215 нм [3]. Внешняя оболочка (суперкапсид) вируса состоит из нескольких белков, таких как p12 и CD2v [4]. Внешний капсид состоит из основных белков p72, образующих гексамеры, и второстепенных белков, таких как пентон, который способствует икосаэдрической форме [3]. Размер генома вируса АЧС составляет от 171 до 190 пар оснований и состоит из 151–167 открытых рамок считывания, кодирующих 68 белков, ассоциированных с вирионами [5]. Большинство белков, кодируемых геномом вируса АЧС, участвуют в сборке вирионов, иммунной модуляции, репликации и репарации генома [5].
Работы над созданием вакцины от вируса африканской чумы свиней (ВАЧС) активно ведутся в странах с развитым животноводством с конца 1950-х гг. Однако в настоящее время в мире нет ни одной сертифицированной вакцины против ВАЧС. Существует ряд [6–15] вакцин, находящихся на разных стадиях испытаний. Большинство из них являются аттенуированными или инактивированными вирионами, общей чертой которых является характерность рисков нежелательных иммунных реакций [16, 17].
На этом фоне выгодно выделяется стратегия разработки субъединичных вакцин на основе иммуногенных компонентов исследуемого вируса. Они конструируются из надмембранной части трансмембранного патогена-мишени и являются необходимыми для генерации соответствующего иммунного ответа без какого-либо риска заражения, так как генетический материал в них отсутствует [18].
Большинство из производимых на данный момент вакцин разрабатывается на основе лабораторных экспериментов, что несет в себе высокие издержки. Однако с увеличением вычислительных мощностей и появлением алгоритмов анализа больших биологических данных активно развиваются in silico-методы анализа и модуляции иммунологических свойств и взаимодействий пептидных последовательностей, на основе чего предлагаются алгоритмы разработки, в том числе, пептидных и субъединичных вакцин [19–21].
В настоящем исследовании для разработки вакцины-кандидата выбран суперкапсидный белок CD2v [22]. Известно, что он вовлечен непосредственно в явление гемадсорбции, вызванное инфицированием восприимчивых клеток ВАЧС [22]. Было обнаружено, что CD2v играет важную роль в вирулентности, индукции защитных иммунных ответов и формировании клеточного ответа. Удаление CD2v в ряде изолятов приводило к аттенуации вируса и индуцировало защиту от заражения вирулентным вирусом [23].
В данной работе исследован В-субдомен белка CD2v (рис. 1), А-субдомен данного белка исследован в [24, 25].
Рис. 1. Пространственная структура белка CD2v с отмеченными субдоменами. Цветом показана топология относительно мембраны: синим – надмембранная часть, красным – мембрана, розовым – подмембранная часть.
Смоделирована трехмерная структура исследуемого белка, рассчитана его топология относительно мембраны, предсказаны B- и Т-клеточные эпитопы для надмембранной части, проведена оценка их аллергенности и токсичности. Для данного надмембранного участка проведена проверка его стабильности в водно-солевом растворе. После чего было проведено иммуномоделирование.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Поиск аминокислотной последовательности. Аминокислотная последовательность белка CD2v взята из базы данных UniProt [26].
Анализ пространственной структуры и топологии относительно мембраны. Пространственную структуру белка CD2v смоделировали при помощи программы на основе глубокого обучения: AlphaFold2 [27]. Исследование расположения белка относительно мембраны проводили при помощи сервиса DeepTMHMM [28]. Для дальнейшей работы на основе предсказанной топологии был выделен надмембранный фрагмент белка с использованием программы PyMol [29].
Предсказание Т- и B-эпитопов. Для предсказания цитотоксических Т-эпитопов использовали иммуноинформатический веб-сервис NetCTL [30]. Предсказание проводили со следующими параметрами:
– супертип – A1;
– порог протеасомного расщепления – 0.15;
– относительная эффективность транспортировки антигена – 0.05;
– порог идентификации эпитопов – 0.75.
Линейные и конформационные В-эпитопы предсказаны при помощи иммуноинформатического веб-сервиса ElliPro [31].
Порог идентификации эпитопов и максимальное расстояние между аминокислотами были выбраны с использованием значений по умолчанию:
– порог идентификации – 0.5;
– максимальное расстояние – 6 Å.
Для предсказания использовали пространственную структуру, смоделированную ранее при помощи AlphaFold2.
Анализ иммунологических свойств найденных эпитопов. Анализ аллергенности предсказанных ранее эпитопов проводили при помощи веб-сервиса AlgPred2 [32], анализ токсичности – ToxinPred2 [33]. Иммуногенность оценивали с использованием иммуноинформатического веб-сервиса VaxiJen [34].
Анализ консервативности предсказанных эпитопов. При помощи алгоритма BLAST [35] были найдены гомологи белка CD2v, из которых выбрали семь, принадлежащих к другим вариантам ВАЧС. Консервативность предсказанных ранее Т- и В-линейных и В-конформационных эпитопов проанализирована при помощи сервиса Epitope Conservacy Analysis [36].
Выделение надмембранного домена исследуемого белка. При помощи программы PyMol выделен надмембранный богатый эпитопами B-субдомен исследуемого белка. Далее на основе первичной последовательности выделенного субдомена провели повторное предсказание его пространственной структуры, предсказание Т- и В-клеточных эпитопов и анализ их иммунологических свойств, ввиду того что участки связывания с рецепторами клеток иммунной системы у исследуемого субдомена могут варьироваться из-за незначительных изменений в конформации.
Иммуномоделирование проводили при помощи веб-сервиса C-IMMSIMM [37]. Промоделированы две инъекции вакцины-кандидата с разницей в 25 дней.
Анализ стабильности в водно-солевом растворе. Моделирование молекулярной динамики провели для вакцины-кандидата с использованием программного пакета GROMACS [38]. Силовое поле AMBER99SB-ILDN использовали с моделью воды TIP3P и добавлением 0.15 М KCl к системе. Для нейтрализации общего заряда системы к ней были добавлены некоторые дополнительные ионы. Чтобы расслабить структуру и избежать стерических столкновений в дальнейшем моделировании, потенциально минимизацию энергии проводили с шагом 1 фс до максимальной силы 1000.0 кДж/моль/нм. После этого давление и температура системы были уравновешены до 1 атм и 310 K путем запуска моделирования в NVT- и NPT-ансамбле (100 пс каждый) соответственно. Кроме того, давление и температуру системы контролировали с помощью модифицированного термостата Берендсена [39] и баростата Паринелло–Рахмана [40] с постоянной времени tau_t 1/4 = 0.1 пс и tau_p 1/4 = 2 пс соответственно. Продуктивное 200 нс моделирование МД проводили в изотермическо-изобарическом ансамбле с временным шагом 2 фс. LINCS [41] алгоритм использовали для ограничения связей с участием атомов водорода. И, наконец, дальнодействующие электростатические взаимодействия рассчитывали с использованием схемы суммирования Particle-Mesh Ewald [42].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка иммуногенности выбранного белка, проведенная при помощи иммуноинформатического веб-сервиса VaxiJen, показала, что исследуемый белок – вероятный антиген.
Предсказанная при помощи AlphaFold2 пространственная структура CD2v представлена на рис. 1.
На основании предсказанной структуры проведен анализ топологии белка относительно клеточной мембраны при помощи веб-сервиса DeepTMHMM. Результаты анализа представлены на рис. 2, где видим, что наиболее перспективным для разработки вакцины фрагментом исследуемого белка-антигена является надмембранная часть, выделенная синим цветом на рис. 1. Поскольку она является растворимой в воде, именно надмембранная часть взаимодействует с клетками иммунной системы.
Рис. 2. Расположение белка относительно клеточной мембраны.
Предсказание Т-клеточных эпитопов проводили на основе первичной структуры CD2v при помощи веб-сервиса NetCTL. Результаты предсказания Т-эпитопов для исследуемого белка представлены в [24], табл. 1. Предсказанные эпитопы отмечены светлым цветом на рис. 3.
Рис. 3. Пространственная структура надмембранного домена белка CD2v. Светлым цветом отмечена локализация предсказанных Т-линейных эпитопов.
Таблица 1. Т-клеточные эпитопы
Аминокислотная последовательность эпитопа | Аффинность к главному комплексу гистосовместимости* | Оценочная функция [30] |
NTEIFNRTY | 0.717 | 3.3352 |
SVDSPTITY | 0.5894 | 2.8012 |
DTNGDILNY | 0.4773 | 2.281 |
NIFTINDTY | 0.2081 | 1.1817 |
YQYNTPIYY | 0.15 | 0.9481 |
STQNISLIH | 0.2162 | 0.9027 |
TTNNCSLII | 0.2006 | 0.8936 |
LLPKPYSRY | 0.1377 | 0.8704 |
CCGHNISLY | 0.1546 | 0.8689 |
STLFYIIIF | 0.1279 | 0.7746 |
YGGLFWNTY | 0.116 | 0.757 |
WSTLNQTVF | 0.135 | 0.7535 |
Примечание. Эпитопы SVDSPTITY и DTNGDILNY локализованы в В-субдомене.
*Значение рассчитывается как 1 – log50000(aff), где aff – аффинность в наномоль (нМ).
На следующем шаге были предсказаны B-клеточные эпитопы, которые, в свою очередь, подразделяются на два вида: линейные и конформационные [43] (табл. 2, 3).
На рис. 4 в В-субдомене светлым цветом выделены В-клеточные линейные эпитопы, представленные в табл. 2.
Рис. 4. Пространственная структура надмембранного В-субдомена белка CD2v. Светлым цветом отмечена локализация предсказанных В-линейных эпитопов.
Таблица 2. В-клеточные линейные эпитопы
Пептидная последовательность | Оценочная функция [31] |
NCTNS | 0.782 |
NTISSLN | 0.733 |
YWNGNNNFT | 0.68 |
NNNGTN | 0.601 |
SVDS | 0.523 |
Таблица 3. В-клеточные конформационные эпитопы
Аминокислотные остатки | Количество остатков | Оценочная функция [31] |
A: N10, A: C11, A: T12, A: N13, A: S14, A: Y48 | 6 | 0.774 |
A: W49, A: N50, A: G51, A: N52, A: N53, A: T56, A: N73, A: N75, A: C76 | 9 | 0.662 |
A: V2, A: D3, A: S4, A: N20, A: N21, A: N22, A: G23, A: N25, A: N63, A: T64, A: I65, A: S66, A: S67, A: L68, A: N69 | 15 | 0.616 |
После предсказания Т- и В-клеточных эпитопов провели анализ аллергенности, токсичности Т-линейных эпитопов, связывающихся со специфическими рецепторами Т-клеток (табл. 4).
Таблица 4. Токсичность, аллергенность предсказанных Т-линейных эпитопов
Пептидная последовательность | Оценка | Предсказание (ToxinPred2) | Оценка | Предсказание (AlgPred2) |
SVDSPTITY | 0.54 | Non-Toxin | 0.32 | Non-Allergen |
DTNGEIVNY | 0.56 | Non-Toxin | 0.32 | Non-Allergen |
Примечание. Для обоих случаев порог рассмотрения – 0.6.
На следующем этапе оценивали консервативность предсказанных эпитопов для вывода о целесообразности разработки вакцины с их использованием. С помощью алгоритма BLAST, встроенного в UniProt, найдены гомологи исследуемого белка CD2v (UniProt ID: Q89501, D4I5P6, P0C9V8, P0C9V6, P0C9V9, P0C9V7, A0A0A7W5A6), принадлежащие другим вариантам ВАЧС. Результаты расчета консервативности предсказанных эпитопов к гомологам, принадлежащим другим вариантам вируса, представлены в табл. 5, 6.
Таблица 5. Консервативность предсказанных Т- и В-линейных эпитопов
Тип эпитопа | Пептидная последовательность | Процент совпадений идентичных белковых последовательностей | Минимальная идентичность | Максимальная идентичность |
T-линейный | SVDSPTITY | 57.14% (4/7) | 44.44% | 100.00% |
DTNGDILNY | 57.14% (4/7) | 55.56% | 100.00% | |
В-линейный | NCTNS | 100.00% (7/7) | 80.00% | 100.00% |
NTISSLN | 71.43% (5/7) | 57.14% | 100.00% | |
NNNGTN | 100.00% (7/7) | 66.67% | 100.00% | |
SVDS | 28.57% (2/7) | 50.00% | 100.00% |
Примечание. Порог рассмотрения идентичности последовательности ≥60%.
Таблица 6. Консервативность предсказанных В-конформационных эпитопов
Пептидная последовательность | Процент совпадений идентичных белковых последовательностей | Минимальная идентичность | Максимальная идентичность |
N10, C11, T12, N13, S14, Y48 | 100.00% (7/7) | 66.67% | 100.00% |
W49, N50, G51, N52, N53, T56, N73, N75, C76 | 28.57% (2/7) | 44.44% | 100.00% |
V2, D3, S4, N20, N21, N22, G23, N25, N63, T64, I65, S66, S67, L68, N69 | 28.57% (2/7) | 33.33% | 100.00% |
Примечание. Порог рассмотрения идентичности последовательности ≥60%.
Результаты анализа позволяют сделать заключение, что большинство из предсказанных ранее эпитопов подходит для конструирования вакцины против ВАЧС ввиду их высокой консервативности относительно исследуемых вариантов вируса.
Далее при помощи методов иммуномоделирования была проведена оценка предполагаемого ответа врожденной и адаптивной иммунной системы модельного организма на дважды вводимую в него вакцину-кандидата с промежутком в 25 дней. Результаты (рис. 5) показывают, что происходит активация дендритных клеток, макрофагов и лимфоцитов, которые, в свою очередь, способны представлять антигены в специализированных рецепторах главного комплекса гистосовместимости (ГКГ) I и II типов. Это также указывает на то, что CD4 Т-хелперные лимфоциты, CD8+ Т-киллерные лимфоциты будут умеренно активированы в течение первых нескольких дней после приема данной вакцины. Прогнозируется, что В-лимфоциты и плазматические клетки активируются, вырабатывая изотипы антител IgM и IgG, а выделение цитокинов усиливается при введении вакцины-кандидата.
Рис. 5. Антитела и иммуноглобулины. Антитела подразделяются по изотипу (а). Цитокины. Концентрация цитокинов и интерлейкинов. D на врезке – сигнал опасности цитокинового шторма (б). Общее количество В-лимфоцитов, клеток памяти и их разделение на изотипы (в). Количество В-лимфоцитов в плазме крови, разделенное по изотипам (г). Общее количество Т-хелперных лимфоцитов и клеток памяти (д). Общее количество Т-регуляторных лимфоцитов, активных клеток и клеток памяти (е). Макрофаги. Общее количество, интернализованные, представляющие главный комплекс гистосовместимости класса II, активные и покоящиеся макрофаги (ж).
Полученные результаты демонстируют наличие как первичной яркой реакции иммунной системы на введение в нее вакцины-кандидата, так и вторичной с сохранением клеток памяти на длительный период.
Таким образом, возможно использование разработанной вакцины-кандидата для борьбы с ВАЧС. Однако для перехода к процессу синтеза предлагаемого участка белка необходимо провести анализ его предположительной стабильности в водно-солевом растворе для подтверждения расчетами устойчивости предлагаемой вакцины-кандидата, показать, что белок не свернется или не растворится при инъекции в организм.
При помощи метода молекулярной динамики с использованием программного пакета GROMACS провели анализ выделенного ранее субдомена на стабильность в водно-солевом растворе. На рис. 6–8 представлены результаты анализа полученных в процессе моделирования траекторий.
Радиус инерции, характеризующий компактность полученной структуры, представлен на рис. 6.
Колебания радиуса инерции находятся в диапазоне 4 Å, что говорит о высокой стабильности плотности исследуемой субъединицы.
Рис. 6. Радиус инерции вакцины-кандидата в процессе молекулярной динамики.
Среднеквадратичные отклонения (СКО) представлены на рис. 7. Данная метрика позволяет оценить отклонение атомов в исследуемой субъединице на каждом из моментов времени моделирования относительно изначального положения (в момент времени t = 0).
Рис. 7. Среднеквадратичное отклонение атомов вакцины-кандидата в процессе молекулярной динамики.
Из графика СКО видно, что начиная с 40 нс колебания метрики происходят в диапазоне 1 Å, что является показателем высокой стабильности вакцины-кандидата.
Среднеквадратичная флуктуация (рис. 8) описывает стандартное отклонение каждого аминокислотного остатка, на основе чего можно оценить колебания расстояния остатков относительно основной цепи.
Рис. 8. Среднеквадратичная флуктуация (СФК) аминокислотных остатков вакцины в процессе молекулярной динамики.
Результаты молекулярной динамики позволяют сделать предположение о возможной структурной стабильности разработанной вакцины-кандидата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты анализа in silico предсказанных эпитопов белка-патогена CD2v вируса африканской чумы свиней указывают на возможность использования некоторых из них для разработки субъединичной вакцины против ВАЧС. Некоторые из обнаруженных иммуногенных детерминант не являются ни аллергенными, ни токсичными, но в то же время являются консервативными для большинства изученных изолятов вируса, что позволяет использовать их для создания вакцины против различных вариантов вируса.
Представленные результаты подтверждают возможность моделирования пептидных вакцин-кандидатов на основе анализа и дальнейшего выделения фрагментов трансмембранных иммуногенных белков. Было установлено, что выделенный фрагмент белка-патогена CD2v ВАЧС является стабильным в водно-солевом растворе и способен вызывать яркий и устойчивый иммунный ответ организма. На основании представленных результатов предложена и обоснована структура возможной вакцины-кандидата против ВАЧС.
Работа проведена в рамках выполнения государственного задания НИЦ “Курчатовский институт”с использованием оборудования центра коллективного пользования “Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса” НИЦ “Курчатовский институт”, http://ckp.nrcki.ru/.
Об авторах
А. С. Ивановский
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ “Курчатовский институт”; МИРЭА – Российский технологический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: a.1wanowskiy@gmail.com
Россия, Москва; Москва
В. И. Тимофеев
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ “Курчатовский институт”
Email: a.1wanowskiy@gmail.com
Россия, Москва
А. В. Калач
МИРЭА – Российский технологический университет
Email: a.1wanowskiy@gmail.com
Россия, Москва
Ю. В. Кордонская
Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”
Email: a.1wanowskiy@gmail.com
Россия, Москва
М. А. Марченкова
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ “Курчатовский институт”
Email: a.1wanowskiy@gmail.com
Россия, Москва
Ю. В. Писаревский
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ “Курчатовский институт”
Email: a.1wanowskiy@gmail.com
Россия, Москва
Ю. А. Дьякова
Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”
Email: a.1wanowskiy@gmail.com
Россия, Москва
М. В. Ковальчук
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ “Курчатовский институт”; Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”
Email: a.1wanowskiy@gmail.com
Россия, Москва; Москва
Список литературы
- Revilla Y., Pérez-Núñez D., Juergen A. // Adv. Virus Res. 2018. V. 100. P. 41. https://doi.org/10.1016/bs.aivir.2017.10.002
- Россельхознадзор. Африканская чума свиней. https://fsvps.gov.ru/jepizooticheskaja – situacija/rossija/jepidsituacija-po-achs-v-rossijskoj-federacii/hronologija-achs/
- Liu Q., Ma B., Qian N. et al. // Cell Res. 2019. V. 29. P. 953. https://doi.org/10.1038/s41422-019-0232-x
- Ros-Lucas A., Correa-Fiz F., Bosch-Camós L., Rodriguez F. // Pathogens. 2020. V. 9. P. 1078. https://doi.org/10.3390/pathogens9121078
- Blome S., Franzke K., Beer M. // Virus Res. 2020. V. 287. № 198099. https://doi.org/10.1016/j.virusres.2020.198099
- Borca M.V., Ramirez-Medina E., Silva E. et al. // Viruses. 2020. V. 13 (5). P. 765. https://doi.org/10.3390/v13050765
- Lewis T., Zsak L., Burrage T.G. et al. // J. Virol. 2000. V. 74 (3). P. 1275.
- Monteagudo P.L., Lacasta A., Lopez E. et al. // J. Virol. 2017. V. 91 (21). https://doi.org/10.1128/JVI.01058-17
- Moore D.M., Zsak L., Neilan J.G. et al. // J. Virology. 1998. V. 72 (12). P. 10310.
- O'Donnell V., Holinka L.G., Gladue D.P. et al. // J. Virol. 2015. V. 89 (11). P.6048. https://doi.org/10.1128/JVI.00554-15
- O'Donnell V., Risatti G.R., Holinka L.G. et al. // J. Virol. 2017. V. 91 (1). https://doi.org/10.1128/JVI.01760-16
- Reis A.L., Goatley L.C., Jabbar T. et al. // J. Virol. 2017. V. 91. P. 24. https://doi.org/10.1128/JVI.01428-17
- Sanchez-Cordon P.J., Jabbar T., Berrezaie M. et al. // Vaccine. 2018. V. 36 (5). P. 707. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.12.030
- Tran X.H., Le T.T.P., Nguyen Q.H. et al. // Transbound. Emerg. Dis. 2022. V. 69. P. 497. https://doi.org/10.1111/tbed.14329
- Алексеев К.П., Раев С.А., Южаков А.Г. и др. // Сельхозбиология. 2019. Т. 54 (6). С. 1236. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2019.6.1236rus
- Purcell A., McCluskey J., Rossjohn J. // Nat. Rev. Drug Discov. 2007. V. 6. P. 404. https://doi.org/10.1038/nrd2224
- Шамсутдинова О.А. // Инфекция и иммунитет. 2017. Т. 7. № 2. C. 107. https://doi.org/10.15789/2220-7619-2017-2-107-116
- Moyle P.M., Toth I. // ChemMedChem. 2013. V. 8. P. 360. https://doi.org/10.1002/cmdc.201200487
- Abass O.A., Timofeev V.I., Sarkar B. et al. // J. Biomol. Struct. Dyn. 2022. V. 40 (16). P. 7283. https://doi.org/10.1080/07391102.2021.1896387
- Adekunle B.R., Angus Nnamdi Oli, Mercy Titilayo Asala et al. // Veterinary Vaccine. 2023. V. 2 (1). P. 2772. https://doi.org/10.1016/j.vetvac.2023.100013
- Rakitina T.V., Smirnova E.V., Podshivalov D.D. et al. // Crystals. 2023. V. 13. P. 1416. https://doi.org/10.3390/cryst13101416
- Zhang M., Lv L., Luo H. et al. // Vet. Res. 2023. V. 54. P. 106. https://doi.org/10.1186/s13567-023-01239-w
- Чернышев Р.С., Спрыгин А.В., Иголкин А.С. и др. // Сельскохозяйственная биология. 2022. T. 57. № 4. С. 609. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2022.4.609rus
- Колесников И.А., Тимиофеев В.И., Ермаков А.В. и др. // Кристаллография. 2023. Т. 68. № 6. C. 971. https://doi.org/10.31857/S0023476123600179
- Ивановский А.С., Колесников И.А., Кордонская Ю.В. и др. // Кристаллография. 2023. Т. 68. № 6. C. 979. https://doi.org/10.31857/S0023476123600805
- A0A7T0LXP0 // UniProtKB. https://www.uniprot.org/uniprotkb
- Jumper J., Evans R., Pritzel A. et al. // Nature. 2021. V. 596.P. 583. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2
- Jeppe H., Trigos K.D., Pedersen M.D. et al. // ВioRxiv. 2022.№ 487609. https://doi.org/10.1101/2022.04.08.487609
- The PyMOL Molecular Graphics System, Version 3.0 Schrödinger, LLC. https://pymol.org/
- Larsen M.V., Lundegaard C., Lamberth K. et al. // BMC Bioinformatics. 2007. V. 8. P. 424.
- https://doi.org/10.1186/1471-2105-8-424
- Ponomarenko J., Bui HH., Li W. et al. // BMC Bioinformatics. 2008.V. 9. P. 514. https://doi.org/10.1186/1471-2105-9-514
- Sudipto Saha, Raghava G.P.S. // Nucleic Acids Res. 2006. V. 34. P. 202.
- https://doi.org/10.1093/nar/gkl343
- Sharma N., Naorem L.D., Jain S., Raghava G.P.S. // Brief Bioinform. 2022. V. 23 (5). P. 174. https://doi.org/10.1093/bib/bbac174.
- Doytchinova I.A., Flower D.R. // BMC Bioinformatics. 2007. V. 8. P. 4. https://doi.org/10.1186/1471-2105-8-4
- Altschul S.F., Gish W., Miller W. et al. // J. Mol. Biol. 1990. V. 215 (3). P. 403
- Bui H., Sidney J.H., Li W. et al. // BMC Bioinformatics. 2007. V. 8 (1). P. 361. https://doi.org/10.1186/1471-2105-8-361
- Rapin N., Lund O., Bernaschi M., Castiglione F. // PLoS One. 2010. V. 5 (4). P. 9862. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0009862
- Carvalho L., Sano Gi., Hafalla J. et al. // Nat. Med. 2002. V. 8. P. 166. https://doi.org/10.1038/nm0202-166
- Berendsen H.J.C., Postma J.P.M., van Gunsteren W.F. et al. // J. Chem. Phys. 1984. V. 81. P. 3684. https://doi.org/10.1063/1.448118
- Parrinello M., Rahman A. // J. Chem. Phys. 1982. V. 76. P. 2662. https://doi.org/ 10.1063/1.443248
- Hess B., Bekker H., Herman J.C. et al. // J. Comput. Chem. 1997. V. 18. P. 1463. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-987X(199709)18:12%3C1463::AID-JCC4%3E3.0.CO;2-H
- Darden T., York D., Pedersen L. // J. Chem. Phys. 1993. V. 98 (12). P. 10089. https://doi.org/10.1063/1.464397
- Potocnakova L., Bhide M., Pulzova L.B. // J. Immunol. Res. 2016. № 6760830. https://doi.org/10.1155/2016/6760830
Дополнительные файлы