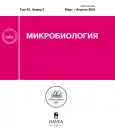The MAMP Peptide Patterns of Bacterial Flagellins and Their Interaction with Plant Receptors: Bioinformatic and Coevolutionary Aspects
- Authors: Shchyogolev S.Y.1, Burygin G.L.1, Krasova Y.V.1, Matora L.Y.1
-
Affiliations:
- Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms, Saratov Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 93, No 2 (2024)
- Pages: 179-188
- Section: SHORT COMMUNICATIONS
- URL: https://journal-vniispk.ru/0026-3656/article/view/262517
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0026365624020155
- ID: 262517
Cite item
Full Text
Abstract
Conservative motifs (peptide patterns) determining the elicitor properties of plant-pathogenic bacteria were revealed in amino acid sequences of the flagellins of phytopathogenic, associated, and root nodule microflora. In plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR), analogs of one (flg22) out of two (flg22 and flgII-28) specific peptides, characterizing pathogens were revealed. Instead of glycine G18, characteristic of an elicitor, tyrosine Y18 was identified in flg22 analogs of most PGPR, which prevents actuation of the phytoimmunity mechanism against PGPR. Molecular docking with the AlphaFold software complex demonstrated reliability of the interaction between the plant receptor FLS2 and the canonical peptide flg22 and its analogs from a plant pathogen and an Azospirillum. However, in the case of the FLS3 plant receptor only its interactions with the canonical peptide flgII-28 and its analog from the plant pathogen were reliable.
Full Text
Ассоциированные с микробами молекулярные паттерны MAMP (PAMP для фитопатогенов) представляют собой высоко консервативные пептидные мотивы во флагеллинах бактерий, распознаваемые поверхностными рецепторами растительных клеток (Felix et al., 1999). В случае патогенов это приводит к запуску систем фитоиммунитета (Fliegmann, Felix, 2016) с участием обогащенного лейцином киназного рецептора FLS2, вовлеченного в восприятие пептида из N-концевой части бактериального флагеллина, состоящего из 22 аминокислотных остатков (ао) (flg22) (Gómez-Gómez, Boller, 2000), и FLS3, взаимодействующего с другим пептидом длиной 28 ао (flgII-28) из той же части флагеллина (Hind et al., 2016). В работе (Cai et al., 2011) отмечается, что появление во флагеллине фитопатогенов характерного паттерна flgII-28 может быть обусловлено реакцией растений на ослабление FLS2+flg22-зависимого иммунитета при коэволюционных изменениях в геномах организмов.
Взаимодействие MAMP с растительными рецепторами является одной из основ механизма ассоциативных/симбиотических растительно-микробных отношений (Проворов и соавт., 2018). Однако для широкого круга стимулирующих рост растений ризобактерий (PGPR) наличие указанных выше паттернов и их взаимодействия с растительными рецепторами практически мало изучены.
В данной работе нами была проведена сравнительная идентификация MAMP во флагеллинах различных типов — белке полярного (FliC) и латерального (Laf1) жгутиков, соединительном белке крюка с филаментом (FlgL), весьма сходном в 3D-структуре с флагеллином (Hu, Reevesa, 2020) — у представителей фитопатогенной, ассоциативной и клубеньковой микрофлоры. При этом мы принимали во внимание отличия в размерах молекул среди флагеллинов одного и того же типа. В статье Thomson et al. (2018) дано много примеров бактериальных жгутиковых систем с флагеллинами, размеры которых варьируют в широких пределах и нередко значительно превышают общеизвестные, достигая порядка 1000 ао и выше. В таких случаях для обозначения размера белка мы использовали нижний индекс, к примеру, FliC274, FliC621 и т. д.
Нашей целью было выяснение мотивов в последовательностях флагеллинов, определяющих наличие или отсутствие у них элиситорных (связанных с иммунитетом растений) свойств, и оценка взаимодействий MAMP с растительными рецепторами методом молекулярного докинга.
В качестве канонических образцов MAMP использованы аминокислотные последовательности пептидов flg22 и flgII-28, являющихся фрагментами флагеллинов FliC, соответственно, из животного патогена Pseudomonas aeruginosa ATCC700888 и фитопатогена P. syringae pv. tomato T1. Аминокислотная последовательность пептида flg22 идентична соответствующему участку флагеллинов многих штаммов рода Pseudomonas, включая указанный выше штамм, выделенный из промышленных вод. Учитывая его принадлежность к виду синегнойной палочки, данный штамм был условно отнесен нами к животным патогенам, при том, что известно его выраженное элиситорное действие на ряд растений (Felix et al., 1999; Gomez-Gomez, Boller, 2000), дабы отличить его от признанных фитопатогенов и PGPR. Примеры взаимодействий энтеробактерий с растениями приведены также в работе (Garcia et al., 2014). Со стороны растений использованы последовательности рецепторов FLS2 и FLS3, соответственно, из Arabidopsis thaliana L. и Solanum lycopersicum L.
Были задействованы наборы из базы данных GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) десятков гомологичных последовательностей FliC, Laf1 и FlgL представителей патогенной микрофлоры, использованных в работе (Garcia et al., 2014), и PGPR семейств Azospirillaceae, Brucellaceae и Rhizobiaceae. При необходимости для указания длины аминокислотной последовательности белка в его обозначении использовали нижний индекс (см. выше).
Множественные выравнивания последовательностей (МВП) белков проводили с использованием программы Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo). Логотип, соответствующий МВП с гомологичными последовательностями, получали с помощью программы Blast2logo (https://services.healthtech.dtu.dk/service.php? Blast2logo-1.1). Предсказания 3D-структур белковых комплексов (молекулярный докинг) выполняли с применением программы AlphaFold2 в варианте AlphaFold-Multimer (https://github.com/deepmind/alphafold#running-alphafold-multimer), инсталлированной в вычислительном центре Саратовского госуниверситета (СГУ) (Щеголев и соавт., 2022). Достоверность предсказаний оценивали по параметру pDockQ с помощью программы FoldDock (https://githab.com/ElofssonLab/FoldDock). Физико-химические свойства границ раздела между взаимодействующими белковыми структурами анализировали с программой PDBePISA (https://www.ebi.ac.uk/msd-srv/prot_int/pistart.html). Визуализацию 3D-структур белков и их комплексов осуществляли с применением программы Jmol (http://www.jmol.org).
Расположение пептидов в высококонсервативных N-концевых доменах флагеллинов в пределах 30‒51 ао (flg22) и 84‒111 ао (flgII-28) характеризует логотип МВП на рис. S1 в дополнительных материалах, полученный нами с последовательностью FliC P. aeruginosa ATCC700888 и пятьюстами гомологичными последовательностями. Он иллюстрирует весьма существенное отличие в уровне консервативности N- и C-концевых участков белков от их высоковариабельной промежуточной части.
Результаты биохимических исследований и рентгеноструктурного анализа в работах (Garcia et al., 2014; Sun et al., 2013) продемонстрировали ключевую роль глицина G18 в 18-й позиции последовательности пептида flg22 в образовании тройного комплекса FLS2+flg22 с корецептором BAK1, необходимого для запуска реакций фитоиммунитета. Мутационная замена G18 на иной остаток в аналогах flg22 делает невозможным проявление элиситорных свойств носителями такого пептида.
На дополнительном рис. S2 представлен фрагмент полученного нами МВП для флагеллинов из патогенов и PGPR семейства Azospirillaceae, иллюстрирующий такую замену во флагеллинах представителей PGPR. Это исключает образование отмеченного выше тримера, но не препятствует взаимодействиям между FLS2 и аналогами flg22 (Sun et al., 2013), что может служить сигналом для растения к установлению ассоциативных взаимоотношений с представителями PGPR (Проворов и соавт., 2018).
Полученные нами МВП с десятками белковых последовательностей показали, что пара специфических пептидов типа flg22 и flgII-28 неизменно присутствует во флагеллинах патогенной микрофлоры, в то время как у представителей семейств Azospirillaceae, Brucellaceae и Rhizobiaceae в подавляющем большинстве случаев регистрируется только flg22. Неожиданным исключением оказался лишь “короткий” флагеллин FliC274 представителей семейства Azospirillaceae размером 274 ао (в отличие от “длинного” FliC621 размером около 600 ао), в составе которого были выявлены аналоги обоих пептидов flg22 и flgII-28 (рис. 1; A, B). Более того, в составе его аналогов flg22 в 18-й позиции оказался глицин G18 (рис. 1; A), что характерно для фитопатогенов. Эти факты переводят “короткий” флагеллин представителей Azospirillaceae в категорию элиситоров, в то время как сами эти бактерии проявляют себя в качестве несомненных PGPR.
Рис. 1. Фрагменты МВП с пептидами flg22 (A, C), flgII-28 (B) и последовательностями FliC274 из представителей Azospirillaceae (A, B); фрагмент МВП с пептидом flg22 и последовательностями FliC из представителей PGPR (C). A. — Azospirillum, B. — Brucella, S. — Sinorhizobium.
Из литературы известны примеры образования гетерогенных филаментов флагеллинов бактерий и архей из белков с разными размерами и структурой. Среди вероятных причин для формирования жгутиков сложного состава отмечается расширение набора средств для взаимодействий бактерий с другими организмами. Например, с бактериофагами для уклонения от фаговой инфекции и др. Результаты молекулярного моделирования (дополнительный рис. S3) для двух штаммов Azospirillum, целью которого была оценка принципиальной возможности образования комплексов FliC621+FliC274, дают основания предположить использование подобного механизма азоспириллами. Однако, в целом, роль “короткого” флагеллина у представителей Azospirillaceae, проявившего признаки элиситора, и возможность его вклада в формирование жгутика на сегодняшний день не выяснены и требуют дополнительных исследований.
На рис. 1 (ряд С) приведен пример МВП с флагеллинами PGPR, иллюстрирующий замену G18 на тирозин Y18 в аналогах flg22 у представителей бруцелл и ризобий. В дополнительных материалах (рис. S4‒S6) приведены результаты выявления паттернов flg22 и flgII-28 в более широком круге объектов из ассоциативной и клубеньковой микрофлоры: флагеллинах латеральных жгутиков Azospirillum и флагеллинах представителей Brucellaceae и Rhizobiaceae. В них продемонстрирована универсальность замены G18 на Y18 в аналогах flg22 и отсутствие аналогов пептида flgII-28 во флагеллинах PGPR. В соединительных белках FlgL во всех рассмотренных нами таксонах аналоги специфических пептидов flg22 и flgII-28 не обнаружены. Для иллюстрации этого на дополнительных рис. S7, S8 приведены примеры для азоспирилл. C учетом специфической роли FlgL и его исчезающе малого количества в жгутике по сравнению с десятками тысяч основных белков филамента, данный результат можно рассматривать в качестве свидетельства эффективности (отрицательного контроля) использованной нами методики выявления flg22 и flgII-28.
На рис. 2 показаны результаты молекулярного докинга, нацеленные на выяснение принципиальной возможности и особенностей взаимодействий выявленных нами аналогов специфических пептидов flg22 и flgII-28 из фитопатогена (Pectobacterium atrosepticum SCRI1043) и ассоциативной бактерии (Azospirillum baldaniorum Sp245) с растительными рецепторами FLS2 и FLS3.
В случае димера FLS2+flg22 (рис. 2; A‒D) все представленные здесь пары по критерию pDockQ ≥ 0.23 (Bryant et al., 2022) относятся к категории истинно взаимодействующих протеинов. Однако для FLS3+flgII-28 эффективными по этому критерию (рис. 2; E, F) следует признать взаимодействия специфических пептидов с растительными рецепторами только для патогенов. В то время как для аналога flgII-28 из “короткого” флагеллина азоспириллы (рис. 2; G) предсказанная модель не может считаться достоверной (pDockQ < 0.23, выделено овалом на рис. 2; G).
Рис. 2. Молекулярный докинг растительных рецепторов FLS2 (Ar. thaliana) (A‒D), FLS3 (S. lycopersicum) (E‒G) с бактериальными пептидами flg22 (A‒D), flgII-28 (E‒G) и их аналогами из фитопатогена и PGPR: P. aeruginosa ATCC700888 (A); Pc. atrosepticum SCRI1043 (B, F); A. baldaniorum Sp245, “длинный” флагеллин (C); A. baldaniorum Sp245, “короткий” флагеллин (D, G); P. syringae pv. tomato T1 (E). Овалом на рис. 2; G, выделены значения параметров, свидетельствующие о неэффективности взаимодействия для данной пары — рецептор + пептид.
Эти выводы согласуются с результатами независимых оценок интерфейсов взаимодействий, полученных с помощью программы PDBePISA. Изменения свободной энергии сольватации ∆iG (ккал/моль), представленные на рис. 2, свидетельствуют об эффективности взаимодействий в шести из семи рассмотренных вариантов (рис. 2; A‒F). В отличие от них, самопроизвольное образование комплекса специфического пептида из “короткого” флагеллина азоспириллы с растительным рецептором FLS3 (рис. 2; G) по механизму гидрофобных взаимодействий оказывается невозможным (∆iG > 0, выделено овалом на рис. 2; G).
Полученные результаты представляются достаточно обоснованными с коэволюционной точки зрения. В случае фитопатогена специфическое связывание рецептора с дополнительным паттерном flgII-28 нацелено на обнаружение патогена с усилением фитоиммунитета. Однако в случае PGPR у растения нет причин для столь строгого контроля за возможной “мимикрией” микропартнера с целью избежать действия фитоиммунитета, чем, вероятно, можно объяснить отсутствие аналогов flgII-28 в “длинном” флагеллине у представителей семейства Azospirillaceae. Несмотря на наличие в “коротком” флагеллине азоспирилл обоих паттернов flg22 и flgII-28, азоспириллы не проявляют себя как фитопатогены. Так что коэволюционные с растениями изменения в геномах данных представителей почвенной микрофлоры не должны достигать того состояния, при котором возможное взаимодействие дополнительного пептида flgII-28 с рецептором FLS3 могло бы послужить сигналом к проявлению фитоиммунитета.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы выражают благодарность К.С. Тихонову и Д.К. Андрейченко за установку в вычислительном центре СГУ и помощь в использовании AlphaFold-Multimer и сопутствующего программного обеспечения.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит результатов исследований с использованием животных в качестве объектов.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рис. S1. Фрагменты логотипа профиля последовательности FliC из P. aeruginosa ATCC 700888 с 500 гомологичными последовательностями демонстрируют весьма существенное отличие уровня консервативности N- и C-концевых участков белков от их высоковариабельной промежуточной части, отмеченной стрелками, в которой сигнал логотипа исчезающе мал по сравнению с остальными частями логотипа.
Рис. S2. Фрагмент множественного выравнивания последовательностей (МВП) с flg22 для FliC бактерий — патогенных (А) и PGPR семейства Azospirillaceae (B) — демонстрирует присутствие у патогенов остатка G18 — ключевого для наличия у них элиситорных свойств — но замену его иными остатками у Azospirillaceae.
Рис. S3. 3D-модели AlphaFold-Multimer димерных комплексов FliC621(А, C)+FliC274 (B, D) для A. brasilense Sp7 (А, B) и A. baldaniorum Sp245 (C, D). Значения pDpckQ ≥ 0.23 свидетельствуют о достаточно высоком качестве моделирования и о принципиальной принадлежности димера FliC621+FliC274 к категории истинно взаимодействующих белков (Bryant et al., 2022).
Рис. S4. Фрагмент МВП с flg22 для флагеллина FliC414=Laf1 латерального жгутика представителей рода Azospirillum демонстрирует замену глицина G18 на тирозин Y18, что исключает наличие у Laf1 элиситорных свойств. Показанные строки отражают видовое разнообразие использованных объектов. МВП с тем же набором последовательностей Laf1 показало отсутствие в них аналогов flgII-28.
Рис. S5. Фрагмент МВП с flg22 для FliC300 представителей семейства Brucellaceae демонстрирует замену глицина G18 на тирозин Y18, что исключает наличие у FliC300 элиситорных свойств. Показанные строки отражают видовое разнообразие использованных объектов. МВП с тем же набором последовательностей FliC300 показало отсутствие в них аналогов flgII-28.
Рис. S6. Фрагмент МВП с flg22 для FliC320 представителей семейства Rhizobiaceae демонстрирует замену глицина G18 на тирозин Y18, что исключает наличие у FliC320 элиситорных свойств. Аналогичный результат был получен с более многочисленными наборами гомологичных флагеллинов ризобий FliC320 и FliC395 количеством по несколько десятков. МВП с тем же набором последовательностей FliC320 показало отсутствие в них аналогов flgII-28.
Рис. S7. Фрагменты МВП с flg22 для FlgL представителей рода Azospirillum демонстрируют отсутствие в данных белках структур, гомологичных пептиду flg22, поскольку выровненными являются лишь отдельные, разделенные брешами части flg 2 2 в областях МВП за пределами высококонсервативного участка, соответствующего flg22 во флагеллине FliC бактерий (см. рис. S1), весьма сходного в ٣D-структуре с FlgL (Hu, Reevesa, 2020).
Рис. S8. Фрагменты МВП с flgII-28 для FlgL представителей рода Azospirillum демонстрируют отсутствие в данных белках структур, гомологичных пептиду flgII-28, поскольку выровненными являются лишь отдельные, разделенные брешами части flgII-28 в областях МВП за пределами высококонсервативного участка, соответствующего flgII-28 во флагеллине FliC бактерий (см. рис. S1), весьма сходного в 3D-структуре с FlgL (Hu, Reevesa, 2020).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Bryant P., Pozzati G., Elofsson A. Improved prediction of protein-protein interactions using AlphaFold2 // Nat. Commun. 2022. V. 13. № 1265. P. 1–11.
Hu D., Reevesa P.R. The remarkable dual-level diversity of prokaryotic flagellins // mSystems. 2020. V. 5. № 5. e00705-19.
About the authors
S. Yu. Shchyogolev
Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms, Saratov Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: shegolev_s@ibppm.ru
Russian Federation, Saratov, 410049
G. L. Burygin
Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms, Saratov Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
Email: shegolev_s@ibppm.ru
Russian Federation, Saratov, 410049
Yu. V. Krasova
Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms, Saratov Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
Email: shegolev_s@ibppm.ru
Russian Federation, Saratov, 410049
L. Yu. Matora
Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms, Saratov Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
Email: shegolev_s@ibppm.ru
Russian Federation, Saratov, 410049
References
- Проворов Н.А., Тихонович И.А., Воробъев Н.И. Симбиоз и симбиогенез. СПб.: Информ-Навигатор, 2018. 464 с.
- Щеголев С.Ю., Тихонов К.С., Андрейченко Д.К. Об опыте инсталляции и использования программного комплекса AlphaFold2 и его оптимизированных версий для определения 3D-структур белков и белковых комплексов // Методы компьютерной диагностики в биологии и медицине — 2022: Сборник статей Всероссийской школы-семинара / Ред. Ан.В. Скрипаль. Саратов: Изд-во “Саратовский источник”, 2022. С. 100‒106.
- Bryant P., Pozzati G., Elofsson A. Improved prediction of protein-protein interactions using AlphaFold2 // Nat. Commun. 2022. V. 13. Art. 1265. P. 1‒11.
- Cai R., Lewis J., Yan S., Liu H., Clarke C.R., Campanile F., Almeida N.F., Studholme D.J., Lindeberg M., Schneider D., Zaccardelli M., Setubal J.C., Morales-Lizcano N.P., Bernal A., Coaker G., Baker C., Bender C.L., Leman S., Vinatzer B.A. The plant pathogen Pseudomonas syringae pv. tomato is genetically monomorphic and under strong selection to evade tomato immunity // PLoS Pathog. 2011. V. 7. Art. e1002130. P. 1‒15.
- Felix G., Duran J.D., Volko S., Boller T. Plants have a sensitive perception system for the most conserved domain of bacterial flagellin // Plant J. 1999. V. 18. P. 265‒276.
- Fliegmann J., Felix G. Immunity: flagellin seen from all sides // Nature Plants. 2016. V. 2. Art. 16136. P. 1‒2.
- Garcia A.V., Charriera A., Schikorab A., Bigearda J., Pateyronc S., de Tauzia-Moreaua M.-L., Evrarda A., Mithöferd A., Martin-Magniettea M. L., Virlogeux-Payantg I., Hirta H. Salmonella enterica flagellin is recognized via FLS2 and activates PAMP-triggered immunity in Arabidopsis thaliana // Mol. Plant. 2014. V. 7. P. 657‒674.
- Gómez-Gómez L., Boller T. FLS2: a LRR receptor-like kinase involved in recognition of the flagellin elicitor in Arabidopsis // Mol. Cell. 2000. V. 5. P. 1‒20.
- Hind S.R., Strickler S.R., Boyle P.C., Dunham D.M., Bao Z., O’Doherty I.M., Baccile J.A., Hoki J.S., Viox E.G., Clarke C.R., Vinatzer B.A., Schroeder F.C., Martin G.B. Tomato receptor FLAGELLIN-SENSING 3 binds flgII-28 and activates the plant immune system // Nature Plants. 2016. V. 2. Art. 16128. P. 1‒8.
- Hu D., Reevesa P.R. The remarkable dual-level diversity of prokaryotic flagellins // mSystems. 2020. V. 5. Art. e00705-19.
- Sun Y., Li L., Macho A.P., Han Z., Hu Z., Zipfel C., Zhou J.-M., Chai J. Structural basis for flg22-induced activation of the Arabidopsis FLS2-BAK1 immune complex // Science. 2013. V. 342. P. 624‒628.
- Thomson N.M., Rossmann F.M., Ferreira J.L., Matthews-Palmer T.R., Beeby M., Pallen M.J. Bacterial flagellins: does size matter? // Trends Microbiol. 2018. V. 26. P. 575‒581.
Supplementary files