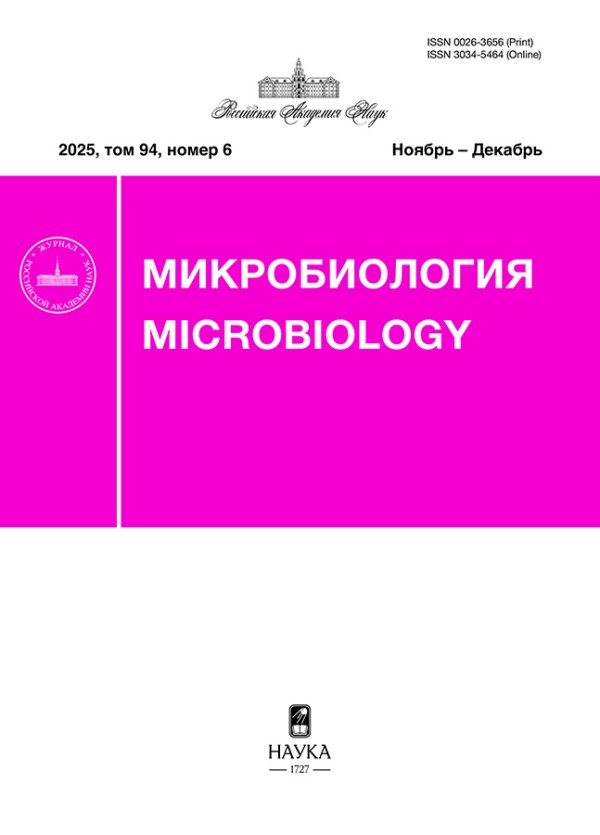Геномная эволюция α-протеобактерий в системе симбиоза
- Авторы: Проворов Н.А.1, Андронов Е.Е.1
-
Учреждения:
- Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии
- Выпуск: Том 93, № 6 (2024)
- Страницы: 679-689
- Раздел: ОБЗОРЫ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0026-3656/article/view/276120
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0026365624060018
- ID: 276120
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Одним из основных факторов эволюции бактерий, сопровождаемой глубокими изменениями их генетической организации, является образование симбиозов с эукариотами. Они предоставляют бактериям экологические ниши, находясь в которых симбионты выполняют полезные для хозяев трофические или защитные функции. Приобретение способности к симбиозу связано с формированием у бактерий систем специализированных генов (sym), которое обычно сопровождается изменением общей организации генома. У клубеньковых бактерий (ризобий) – азотфиксирующих симбионтов бобовых растений, большинство из которых относится к α-протеобактериям порядка Hyphomicrobiales, характер симбиогенных изменений генома зависит от таксономического положения. У эволюционно первичных ризобий сем. Bradyrhizobiaceae, возникших из свободноживущих N2-фиксаторов путем преобразования их собственных геномов, переход к симбиозу сопровождался существенным (в 1.5–2 раза) увеличением генома, однако он сохранил унитарную структуру: у большинства штаммов Bradyrhizobium более 95% генов находится в хромосоме. У вторичных ризобий сем. Phyllobacteriaceae (Mesorhizobium, Phyllobacterium), возникших путем переноса sym -генов в почвенные бактерии, выявляются различные стадии образования многокомпонентных геномов, содержащих значительную часть генов в составе внехромосомных элементов (ВХЭ) – плазмид и хромид. Наиболее характерна такая геномная структура для бактерий сем. Rhizobiaceae (Rhizobium, Sinorhizobium, Neorhizobium), у которых суммарный размер ВХЭ, содержащих sym-гены, может превышать размер хромосомы. У этих ризобий при переходе из тропиков в умеренные широты происходило сужение хозяйской специфичности, однако изменение структуры генома наблюдали только у Sinorhizobium: общий размер ВХЭ у этих бактерий достигает 51% генома. Усложнение генома характерно и для ризосферных азотфиксаторов Azospirillum: доля ВХЭ в их геномах достигает 60%. Формируемые ризобиями необратимо дифференцированные клеточные формы – бактероиды, входящие в состав симбиосом, могут рассматриваться как предшественники азотфиксирующих органелл, которые выявлены у некоторых простейших и конструирование которых представляет собой перспективное направление клеточной инженерии растений.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Изучение бактериальных геномов, которое началось более 30 лет назад (Koonin, Wolf, 2008), необходимо для выяснения генетических основ разнообразия прокариот, а также для раскрытия механизмов их прогрессивной и адаптивной эволюции (Bobay, Ochman, 2017). Эта эволюция базируется на процессах приобретения и утраты генов, соотношение которых ограничено размерами геномов свободноживущих бактерий, варьирующими от 1.3 млн. п.н. у морской α-протеобактерии Pelagibacter ubique (Giovannoni et al., 2005) до 13 млн. п.н. у почвенной δ-протеобактерии S orangium cellulosum (Schneiker et al., 2007).
Изучение эволюции бактерий связано с анализом связи между их адаптивной стратегией и функциональным составом геномов, который активно проводится для патогенных бактерий, позволяя изучать распространение генов вирулентности и механизмы возникновения болезнетворных форм (Hacker, Kaper, 2000). Подробное изучение геномной организации проведено для облигатных симбионтов насекомых, имеющих глубоко редуцированные геномы, которые сохранили лишь 10‒20% предковых генов (Whittle et al., 2021). Их редукцию связывают с отказом симбионтов от функций автономного существования, а также с генетическим дрейфом, который обусловлен регулярным прохождением микробной популяции через “бутылочное горлышко” вертикальной передачи (Naito, Pawlowska, 2016). Еще более глубокой редукцией характеризуются клеточные органеллы, которые обладают рудиментарными геномами (сохраняется 1‒5% предковых генов), а иногда полностью их лишены (Daley, Whelan, 2005).
Данные о влиянии на геномную организацию бактерий факультативного симбиоза ограничены. Показано, что при его образовании геномы бактерий могут как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от их таксономического положения и от механизма взаимодействия партнеров. У многих бактерий при переходе к симбиозу сохраняются характерные для свободноживущих форм унитарные геномы “колийного” типа (свыше 95% генов находится в хромосоме), однако у некоторых бактерий геномы приобретают многокомпонентную форму (MacLean et al., 2007).
Наиболее разработанной моделью эволюционной геномики факультативных симбионтов являются клубеньковые бактерии (ризобии) – полифилетичные по происхождению N2-фиксирующие симбионты бобовых растений, включающие ряд представителей α-протеобактерий (10‒12 семейств, входящих в порядок Hyphomicrobiales или Rhizobiales) и некоторые β-протеобактерии (сем. Burkholderiaceae) (Berrada, Fikri-Benbrahim, 2014). Показано, что у ризобий в ходе коэволюции с растениями возникают системы симбиотически специализированных (sym) генов, которые обычно обособлены от генов домашнего хозяйства и выявляются в составе плазмид, хромид или хромосомных островов. При этом sym-гены приобретают высокую мобильность и легко перемещаются в различные почвенные бактерии, что приводит к возникновению новых симбионтов растений. Однако молекулярные и экологические механизмы, определяющие геномную эволюцию ризобий, остаются малоизученными.
В связи с этим целью нашей работы стал анализ вопросов о том: 1) как приобретение способности к N2-фиксирующему симбиозу с растениями влияет на структуру генома в разных группах α-протеобактерий; 2) каковы молекулярные механизмы и экологические факторы симбиогенной эволюции их геномов; 3) как их организация связана с процессами видообразования и с изменениями симбиотических признаков бактерий – хозяйской специфичности и N2-фиксирующей активности.
ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОМА
Для ризобий характерны два направления эволюции генома: увеличение его размера и переход к многокомпонентной структуре. Первое направление реализуется главным образом у первичных ризобий, возникших из свободноживущих N2-фиксаторов путем внутригеномных перестроек, которые привели к формированию системы sym-генов. Она включает гены N2-фиксации (nif/fix) и образования клубеньков (nod), представляя собой расширение базового генома за счет формирования нового генного функционала. Второе направление эволюции является качественным развитием первого направления и заключается в обособлении и повышении мобильности симбиотической системы, которое было реализовано при возникновении вторичных ризобий путем переноса sym-генов в различные почвенные и ассоциированные с растениями бактерии (Provorov et al., 2022).
Показано, что в ходе эволюции первичных ризобий рода Bradyrhizobium их геномы увеличились в 1.5‒2 раза по сравнению с предковыми формами (Rhodopseudomonas). При этом произошло еще более значительное (в 3‒4 раза) увеличение пангенома, в первую очередь его акцессорной части, определяющей экологическую пластичность бактерий (Oda et al., 2008; Mornico et al., 2012; Tian et al., 2012). В результате этого бактерии рода Bradyrhizobium сформировали наиболее крупные среди всех ризобий геномы, размеры которых достигают 11.7 млн. п.н. (в среднем 8.6 млн. п.н.). Некоторые штаммы брадиризобий содержат криптические плазмиды, однако они относительно невелики (до 300 т.п.н.) и обычно составляют лишь 2‒3% генома, сохраняющего типичную для предков унитарную форму (Ormeño-Orrillo, Martínez-Romero, 2019).
Однако уже у первичных ризобий можно проследить начальные этапы перехода к многокомпонентной структуре генома, состоящего из двух или более сопоставимых по размеру репликонов (Hernández-Oaxaca et al., 2022). Так, при изучении 9 штаммов Bradyrhizobium, выделенных из клубеньков тропических бобовых растений, у 2 штаммов, для которых характерны наибольшие размеры хромосомы (9882‒10272 т.п.н.), были выявлены крупномолекулярные плазмиды. Поскольку у этих штаммов, как и у большинства брадиризобий, sym-гены находятся в хромосомах, можно предположить, что непосредственной причиной образования многокомпонентного генома является увеличение его размера.
К настоящему времени описан лишь один штамм Bradyrhizobium (DOA9), для которого характерна внехромосомная локализация sym-генов (Wongdee et al., 2018). Sym-плазмида этого штамма, выделенного из бобового растения Aeschynomene americana, имеет размер 736 т.п.н. (9.4% генома) и содержит гены, контролирующие образование клубеньков (nod), N2-фиксацию (nif, fix), а также систему секреции 3-го типа. Эта плазмида характеризуется более низким содержанием ГЦ-пар (60.1%), чем хромосома (64.4%). Важно отметить, что в хромосоме штамма DOA9 выявлены 2 несцепленных локуса, один из которых содержит nif- и fix-гены, а другой fix-гены. По-видимому, Sym-плазмида этого штамма возникла путем дупликаций симбиотически специализированных участков хромосомы. Анализ геномов различных штаммов Bradyrhizobium показал, что DOA9 может считаться переходной формой от фототрофов, лишенных nod-генов, к гетеротрофам, которые эти гены имеют (Okazaki et al., 2015).
Сравнительное изучение вторичных ризобий сем. Phyllobacteriaceae (Mesorhizobium, Phyllobacterium) позволило охарактеризовать последовательные этапы их эволюции (Wang et al., 2014): а) приобретение общим предком данного семейства кластера sym-генов, который сформировал хромосомный остров (ХО); б) диверсификацию этого ХО, которая привела к возникновению широкого спектра симбионтов, различающихся по хозяйской специфичности; в) выявленное у некоторых видов Mesorhizobium преобразование ХО в Sym-плазмиду. Широкое варьирование мезоризобий по хозяйской специфичности может быть связано с диверсификацией генов, контролирующих развитие клубеньков, а также образование систем секреции 3, 4 и 6 типов. У широко специфичных штаммов этих бактерий сигнальные Nod-факторы, кодируемые nod-генами, имели относительно простую структуру, которая усложнялась по мере симбиотической специализации ризобий (Laranjo et al., 2014).
Многокомпонентная геномная структура, связанная с наличием ВХЭ, сопоставимых по размеру с хромосомой, наиболее характерна для вторичных ризобий семейства Rhizobiaceae (Ormeño-Orrillo et al., 2015; Kuzmanović et al., 2022): у них мегаплазмиды и хромиды, в состав которых входят sym-гены, могут составлять более половины генома. Эволюция этого генома изучена у родов Rhizobium и Sinorhiobium (Ensifer), которые включают анцестральные тропические виды и возникшие из них виды умеренных широт (табл. 1).
Таблица 1. Сравнительная характеристика видов ризобий сем. Rhizobiaceae, обитающих в тропических и умеренных широтах
Роды бактерий | Sinorhizobium | Rhizobium | ||
Распространение бактерий | Тропики | Умеренные широты | Тропики | Умеренные широты |
Виды | S. fredii, S. garamanticum, S. numidicum, S. saheli, S. terangae | S. meliloti, S. medicae | R. etli | R. leguminosarum |
Биовары, различающиеся по спектру хозяев, с которыми образуются N2-фиксирующие клубеньки | Не выявлены | Не выявлены | bv. phaseoli (Phaseolus), bv. mimosae (Phaseolus, Mimosa, Leucaena) | bv. viciae (Lathyrus, Lens, Pisum, Vavilovia, Vicia), bv. trifolii (Trifolium), bv. phaseoli (Phaseolus) |
Хозяйская специфичность отдельных штаммов (биоваров) | Широкая: разные подсемейства бобовых | Узкая: одна триба бобовых (Trifolieae) | Широкая: разные подсемейства бобовых | Узкая: одна триба бобовых (Fabeae, Phaseoleae или Trifolieae) |
Размер генома, млн. п.н. | 6.89‒7.25 | 6.45‒7.95 | 6. 53 | 6.7 0‒ 7.7 9 |
Доля хромосомы, % | 57.0‒91.2 | 49.3‒54.5 | 67.1 | 63.0‒68.4 |
Хромиды или мегаплазмиды (более 1000 т.п.н.) | Одна (у некоторых штаммов отсутствует) | Две | Одна или отсутствует | Одна или отсутствует |
Локализация sym-генов | Плазмида (550‒650 т.п.н.) | Меньшая из хромид (1000‒1600 т.п.н.) | Плазмида (200 ‒ 500 т.п.н.) | Плазмида (300 ‒ 400 т. п. н.) |
Наиболее глубокие изменения геномов, происходящие при переходе бактерий из тропиков в умеренные широты, выявлены в роде Sinorhizobium. Он включает симбиотически активные виды, обладающие либо широкой хозяйской специфичностью – способностью формировать N2-фиксирующие клубеньки у представителей разных подсемейств бобовых (тропические виды, из которых наиболее изучен S. fredii), либо узкой специфичностью (виды умеренных широт S. meliloti и S. medicae – N2-фиксирующие симбионты люцерны, донника и пажитника), а также свободноживущие виды – возможные предшественники симбиотических видов (Fagorzi et al., 2020). На примере этого рода было показано, что репликоны, входящие в состав многокомпонентных геномов ризобий, имеют разные механизмы эволюции. Так, при анализе 190 штаммов S. meliloti, выделенных из клубеньков Medicago truncatula в различных регионах Южной Европы, выявлено сходство филогений хромид М1 (содержит nod-, nif- и fix-гены) и М2 (содержит важные для симбиоза гены, участвующие в синтезе экзополисахаридов и в усвоении углеводов), которые отличаются от филогении хромосомы (Riley et al., 2022). При этом эволюция хромосомы и М2 определяется главным образом перестройками собственных геномов, а эволюция М1 и криптических плазмид – путем горизонтального переноса генов (ГПГ).
Большой интерес для изучения эволюции Sinorhizobium представляют переходные формы, к числу которых относится штамм Т173Т, выделенный из клубеньков донника в Канаде и близкий к асимбиотическому виду S. adhaerens (Bromfield et al., 2023). Этот штамм образует нормальные по структуре, но не фиксирующие N2 клубеньки у люцерны и донника. Его геном состоит из кольцевой хромосомы (4051 т.п.н.) и двух хромид (1914 и 947 т.п.н.), которые, как и хромосома, несут гены рРНК. В отличие от других симбионтов люцерны, штамм Т173Т содержит sym-гены (nod, nif, fix) на относительно небольшой (204 т.п.н.) плазмиде. Анализ этих генов показал, что они были приобретены путем горизонтального переноса генов (ГПГ) от S. medicae.
Сравнительный анализ широко- и узкоспецифичных видов Sinorhizobium позволяет предположить, что основным направлением их эволюции было увеличение внехромосомной части генома (табл. 1). Различные стадии этого процесса представлены широкоспецифичными штаммами S. fredii, у которых доля ВХЭ в геноме варьирует от 7.9 до 43.1% (Schmeisser et al., 2009; Schuldes et al., 2012; Vinardell et al., 2015). Гораздо менее изменчивы узкоспецифичные виды синоризобий S. meliloti и S. medicae, у которых ВХЭ составляют 45.5‒50.7% генома.
Род Rhizobium, как и Sinorhizobium, включает широкоспецифичные тропические виды (R. etli) и узкоспецифичные виды умеренных широт (R. leguminosarum). Эти виды сходны по организации генома, который состоит из хромосомы (около 65% генома) и 2‒6 ВХЭ, варьирующих по размеру от 100 до 1100 т.п.н. (Gonzalez et al., 2006; Reeve et al., 2010; Perry et al., 2020). Основное различие геномов R. leguminosarum и R. etli касается их рекомбинационной активности, определяемой ГПГ. У R. leguminosarum перенос sym-генов происходит свободно внутри вида, однако их перенос в бактерии других видов наблюдают редко. В то же время, для R. etli показан интенсивный обмен sym-генами с неродственными тропическими ризобиями, например, с S. fredii (Cervantes et al., 2011).
Важнейшим результатом эволюции генома ризобий является повышение его пластичности: оно выявляется уже у первичных симбионтов (Bradyrhizobium), для которых характерно накопление повторяющихся последовательностей ДНК (Sameshima et al., 2003). Определяемая ими рекомбинационная активность может быть столь велика, что приводит к неспособности поддерживать постоянную структуру генома, что показано для штамма NGR234 S. fredii, у которого повторяющиеся последовательности и мобильные элементы составляют около 20% генома (Broughton et al., 2000).
Многокомпонентные геномы выявлены и у α-протеобактерий рода Azospirillum – ассоциативных (ризосферных, эндофитных) N2-фиксаторов, которые существенно превосходят по размерам унитарные геномы своих свободноживущих родичей и возможных предков – Rhodospirillum и Magnetospirillum (Wisniewski-Dyé et al., 2012). Важно отметить, что у азоспирилл, в отличие от имеющих многокомпонентные геномы ризобий сем. Rhizobiaceae, кодирующие нитрогеназу nif-гены находятся в хромосоме, которая у Azospirillum составляет лишь 40‒45% генома. Ярко выраженный параллелизм эволюции первичных ризобий (Bradyrhizobium) и азоспирилл (табл. 2) делает последних удобной моделью для изучения механизмов возникновения бобово-ризобиального симбиоза. Так, заселение азоспириллами клубенек-подобных структур, развитие которых на корнях злаков (кукурузы, пшеницы) индуцировано аналогом ауксина 2.4-D, резко повышает нитрогеназную активность этих бактерий, превращая их из низкоактивных ризосферных N2-фиксаторов в высокоактивных эндосимбионтов (Saikia et al., 2007).
Таблица 2. Сравнительная характеристика первичных ризобий и азоспирилл
Показатели | Bradyrhizobium | Azospirillum |
Способность к диазотрофному росту ex planta | Отсутствует (большинство штаммов проявляет низкую нитрогеназную активность) | Характерна |
Растения-хозяева | Бобовые (у некоторых штаммов – также небобовое Parasponia) | Различные растения |
Локализация в растениях | В корневых, реже в стеблевых клубеньках, обычно внутриклеточная | На поверхности или в тканях корней, внеклеточная |
Инокуляция растений | Через корневые волоски, иногда через разрывы эпидермиса | Через межклеточные пространства |
Действие синтезируемых бактериями гормонов на растения | Не выявлено | Стимуляция развития корней, повышение их ассимиляционной активности |
Размер и тип генома | 7300‒10100 т.п.н., обычно унитарный (хромосома составляет более 95% генома) | 6400‒7600 т.п.н., многокомпонентный (хромосома составляет менее 40‒45% генома) |
Локализация генов N2-фиксации | Обычно в хромосоме, иногда в плазмидах | В хромосоме |
Возможные предки | Rhodopseudomonas | Rhodospirillum, Magnetospirillum |
их типы питания | Фото-диазотрофы | Фото-диазотрофы |
их геномы | Унитарные (5400‒5600 т.п.н.) | Унитарные (4600‒4900 т.п.н.) |
ЭВОЛЮЦИЯ СИМБИОЗА И ВИДООБРАЗОВАНИЕ
Использование методов сравнительной и функциональной геномики позволяет охарактеризовать механизмы симбиогенной эволюции ризобий, которая основана на возникновении и последующей диверсификации sym-генов, тесно связанной с процессами видообразования. В этой эволюции задействованы два механизма – дупликация-дивергенция генов и ГПГ. Первый механизм преобладает у первичных ризобий, которые возникли из свободноживущих N2-фиксаторов, второй механизм – у вторичных ризобий, возникших путем переноса sym-генов в различные почвенные бактерии (Provorov et al., 2022).
Одним из основных направлений эволюции sym-генов является их обособление от “не-симбиотической” части бактериального генома (кластеризация sym-генов), после чего происходит повышение компактности sym-кластеров и их переход в состав мобильных генетических элементов (хромосомные острова, плазмиды, хромиды). Интенсивный перенос sym-генов сопряжен с усложнением популяционной структуры ризобий, определяемой балансом симбиотических и не-симбиотических экотипов (Denison, Kiers, 2004). Последние наиболее приспособлены к автономному существованию и могут приобретать симбиотические свойства путем ГПГ. Такую популяционную структуру поддерживает дизруптивный отбор, который определяется циркуляцией ризобий между эндо-симбиотическими и почвенными нишами, способствуя поддержанию высоких темпов геномной эволюции (Проворов и соавт., 2017).
Данные направления эволюции наиболее изучены на примере видов Rhizobium и Sinorhizobium, обладающих многокомпонентными геномами и реализующих различные стратегии видообразования. Оно может приводить к появлению: а) политипических видов, которые состоят из биоваров, различающихся по хозяйской специфичности и по структуре контролирующих ее sym-генов, но близки по коровым генам, определяющим функции домашнего хозяйства; б) видов-двойников, которые имеют сходную хозяйскую специфичность, но дивергировали по коровой части генома.
У Rhizobium и Sinorhizobium эта эволюция тесно связана с переходом от широкоспецифичных тропических форм к узкоспецифичным формам умеренных широт (табл. 1). Наиболее резким сужение хозяйской специфичности было у бактерий рода Sinorhizobium: некоторые штаммы тропического вида S. fredii (NGR234) вступают в симбиоз с растениями из более чем 100 родов, относящихся ко всем трем подсемействам бобовых, а также с Parasponia (сем. Cannabaceae). В то же время виды умеренных широт (S. meliloti, S. medicae) образуют симбиоз с представителями трех близкородственных родов (Medicago, Melilotus и Trigonella) из трибы Trifolieae. Различия этих видов ризобий касаются взаимодействия лишь с некоторыми диплоидными видами люцерны (Medicago arabica, M. polymorpha), которые образуют N2-фиксирующие клубеньки с S. medicae, но не с S. meliloti (Rome et al., 1996).
У бактерий рода Rhizobium сужение хозяйской специфичности при переходе из тропиков в умеренные широты проявляется не столь резко, как у Sinorhizobium. Это различие может быть связано с тем, что у Rhizobium выявлена отсутствующая у Sinorhizobium политипическая структура видов: R. leguminosarum разделяется на три различающихся по хозяйской специфичности биовара, R. etli – на два биовара (табл. 1). Хотя каждый из биоваров R. leguminosarum образует N2-фиксирующий симбиоз с представителями лишь одной трибы бобовых, в рамках этого вида сохраняется способность к симбиозу с растениями из разных триб подсемейства мотыльковых, образующих контрастные типы клубеньков (bv. viciae и bv. trifolii – недетерминированные, bv. phaseoli – детерминированные клубеньки). Перекрестная инокуляция биоваров R. leguminosarum может приводить к образованию клубеньков, однако они лишены N2-фиксирующей активности и часто имеют опухолеподобную структуру (Онищук и соавт., 2023).
При изучении политипической структуры вида R. etli оказалось, что различия между его биоварами проявляются не столь контрастно, как между биоварами R. leguminosarum. Так, штаммы R. etli, относящиеся к биовару mimosae, способны формировать N2-фиксирующие клубеньки с бобовыми растениями из подсемейств мотыльковых (Phaseolus – образует детерминированные клубеньки) и мимозовых (Mimosa, Leucaena – образуют недетерминированные клубеньки), тогда как штаммы биовара phaseoli проявляют эту способность только с Phaseolus (Wang et al., 1999).
Особенностью вида R. leguminosarum является одновременно происходящая и в значительной степени независимая дивергенция симбиотически специализированной части генома (образование биоваров с различной хозяйской специфичностью) и его коровой части (образование хромосомных линий или сестринских видов, которые могут включать штаммы разных биоваров) (Kumar et al., 2015; Young et al., 2023). Данная таксономическая структура позволяет рассматривать R. leguminosarum как видовой комплекс (надвид), возникший в результате “двумерной” эволюции многокомпонентного генома. Это существенно отличает род Rhizobium от Sinorhizobium, у которого дивергенция коровой части генома привела к возникновению видов-двойников S. meliloti и S. medicae: их расхождение по sym- генам невелико и не сопровождается образованием биоваров с различной хозяйской специфичностью.
Важно отметить, что чрезвычайно широкая программа видообразования реализуется у Rhizobium несмотря на то, что диверсификация геномов (их разделение на хромосомы и хромиды) у этих ризобий менее выражена, чем у Sinorhizobium. Это различие, по-видимому, связано с повышенной восприимчивостью Rhizobium к интеграции новых sym-генов, приводящей к образованию рекомбинантов с резко измененными симбиотическими свойствами. К их числу может быть отнесен штамм Norway R. leguminosarum bv. viciae, который способен инфицировать “чужеродного” хозяина – лядвенец, однако на основном хозяине, горохе образует не фиксирующие N2 клубеньки, либо вообще не образует клубеньков (Liang et al., 2018).
Одним из результатов сужения хозяйской специфичности, происходящей при переходе ризобий сем. Rhizobiaceae из тропиков в умеренные широты, является возникновение “альтруистической” стратегии симбиоза (Provorov, 2021). Она связана с преобразованием бактерий в неспособные к размножению N2-фиксирующие бактероиды, находящиеся во временных органеллах растительной клетки – симбиосомах, которые можно рассматривать как аналоги постоянных клеточных органелл (de la Pena et al., 2017). Эволюция симбиосом связана с их переходом от мультибактериальной к монобактериальной организации, который показан при сравнении альтернативных типов (детерминированных и недетерминированных) клубеньков, образуемых различными таксономическими группами бобовых (Sprent, 2001). Наиболее глубокая дифференцировка бактероидов наблюдается в недетерминированных клубеньках, образуемых растениями галегоидного комплекса (трибы Fabeae, Galegae, Trifolieae) с ризобиями сем. Rhizobiaceae. Ключевые этапы перехода этих растений к монобактериальной организации симбиосом зарегистрированы в группе перекрестной инокуляции, образуемой R. leguminosarum bv viciae c растениями трибы Fabeae. Оказалось, что анцестральные штаммы этих ризобий, выделенные из реликтового бобового Vavilovia formosa, образуют менее дифференцированные бактероиды, сходные с клетками свободноживущих бактерий и выявляемые в мультибактериальных симбиосомах, чем эволюционно продвинутые симбионты гороха, которые образуют монобактериальные симбиосомы (Tsyganova et al., 2018).
Важно отметить, что дифференцировка бактероидов контролируется обоими партнерами симбиоза. Со стороны бактерий в ней участвует ген bac A (кодирует поверхностный белок, вовлеченный в образование внутриклеточного симбиоза не только у ризобий, но и у родственных им патогенов животных – бруцелл; Parent et al., 2007; Karunakaran et al., 2010). Со стороны растений в дифференцировке бактероидов участвуют NCR-пептиды, сходные с защитными факторами дефензинами и блокирующие деление бактерий в симбиосомах. Поэтому их образование может быть представлено как результат коэволюции партнеров, основанной на действии в микробных популяциях специфичных для симбиоза селективных и стохастических факторов, индуцируемых растениями-хозяевами (Проворов и соавт., 2017).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Симбиоз с эукариотами – один из наиболее значимых факторов эволюции бактерий. Он повышает их изменчивость, связанную с геномными перестройками и с горизонтальным переносом генов, а также вызывает действие селективных факторов, которые придают эволюции микробного генома направленный характер, определяемый его объединением с геномом хозяина в единую систему наследственности (Provorov, Tikhonovich, 2023).
Важнейшим результатом перехода свободноживущих N2-фиксаторов к факультативному симбиозу с растениями является усложнение микробного генома. Оно наиболее ярко проявляется у α-протеобактерий – одной из наиболее молодых и быстро эволюционирующих групп прокариот (Moreno, 1998). Изучение клубеньковых бактерий (ризобий) порядка Hyphomicrobiales (Rhizobiales) показало, что симбиотически обусловленные изменения генома по-разному проявляются в различающихся по происхождению группах этих бактерий.
У эволюционно первичных ризобий (Bradyrhizobiaceae), возникших из свободноживущих N2-фиксаторов, родственных Rhodopseudomonas, путем преобразования их собственных геномов, сохраняется их унитарная структура: у большинства штаммов Bradyrhizobium свыше 95% генов, включая sym-гены, находится в хромосоме. Различные стадии перехода к многокомпонентной структуре генома выявлены у вторичных ризобий сем. Phyllobacteriaceae, которые возникли путем переноса сформировавшихся ранее систем sym-генов в свободноживущие бактерии. У представителей этого семейства sym-гены находятся в мобильных хромосомных островах, а иногда и на плазмидах (Laranjo et al., 2014), что определяет высокую частоту переноса генов в популяциях и быструю эволюцию симбиоза. Наиболее высока мобильность sym-генов у бактерий сем. Rhizobiaceae, которые характеризуются ярко выраженной многокомпонентной организацией генома. Эти бактерии содержат sym-гены в составе ВХЭ – плазмид или хромид, которые у некоторых штаммов Sinorhizobium составляют более половины генома.
Интересно отметить, что у бактерий сем. Rhizobiaceae, в отличие от Bradyrhizobiaceae и Phyllobacteriaceae, переход к симбиозу не сопровождается увеличением генома, а у Sinorhizobium даже приводит к его уменьшению (табл. 3). Оно может быть связано с утратой ряда генов, интерферирующих с развитием симбиоза – его негативных регуляторов, которые выявлены у узкоспецифичных симбионтов бобовых растений галегоидного комплекса (Проворов и соавт., 2014). Важно подчеркнуть, что во всех группах ризобий приобретение способности к симбиозу сопровождается сходными изменениями пангеномов: их акцессорные части увеличиваются, а коровые части уменьшаются (табл. 3).
Таблица 3. Изменение состава пангенома в эволюции первичных (Bradyrhizobiaceae) и вторичных (Sinorhizobium) ризобий
Гены | Доля различных групп генов (%) в пангеномах ризобий | |||
Семейство Bradyrhizobiaceae * | Род Sinorhizobium ** | |||
Свободноживущие виды | Симбиотические виды | Свободноживущие виды | Симбиотические виды | |
Коровые | 45.2–49.3 | 8.0–39.8 | 28.7 | 24.7 |
Акцессорные | 50.4–54.2 | 40.2–92.0 | 71.3 | 75.3 |
Всего генов | менее 8000 | 12000‒35000 | 12225 | 10820 |
Примечание. Данные *Oda et al., 2008; Mornico et al., 2012; Tian et al., 2012; **Fargozi et al., 2020.
На примере S. meliloti показано, что репликоны, входящие в состав многокомпонентных геномов, эволюционируют посредством разных механизмов: хромосома и хромиды, представляющие в основном коровую часть генома – путем внутригеномных перестроек (дупликация-дивергенция и неофункционализация генов), а Sym-плазмиды и криптические плазмиды, представляющие акцессорную часть генома – путем ГПГ (Riley et al., 2022).
Большой интерес представляет связь между эволюцией многокомпонентных геномов и процессами видообразования, которые у Rhizobium и Sinorhizobium происходят при переходе от тропических форм, обладающих широкой хозяйской специфичностью (вступают в симбиоз с растениями из разных подсемейств бобовых, образующими как детерминированные, так и недетерминированные клубеньки), к узкоспецифичным формам умеренных широт (вступают в симбиоз с растениями определенной трибы или рода бобовых, образующими лишь один тип клубеньков). У Sinorhizobium этот переход связан с резким изменением организации генома и с сокращением разнообразия растений-хозяев от представителей всех трех подсемейств бобовых (S. fredii) до одной трибы бобовых (S. meliloti, S. medicae).
У Rhizobium переход в умеренные широты не вызывает изменений относительных размеров хромосомы и ВХЭ, а спектр растений-хозяев остается широким: у R. leguminosarum он включает представителей разных триб подсемейства мотыльковых. Важно отметить, что этот вид ризобий осуществляет два параллельных и относительно независимых направления эволюции, затрагивающих либо симбиотически специализированную часть генома (разделение на биовары, обладающие разными спектрами хозяев), либо его коровую часть (разделение на хромосомные линии или геномные виды, которые включают представителей разных биоваров и могут стабильно сосуществовать в почвенной экосистеме; Young et al., 2023). Эта “двумерная” эволюция может быть связана с высокой частотой переноса генов в популяциях R. leguminosarum, которая определяется локализацией sym-генов в мобильных плазмидах – наиболее активно эволюционирующих компонентах бактериальных геномов.
Важно отметить, что процессы образования многокомпонентных геномов, выявленные у протеобактерий α-группы, не характерны для β- и γ-групп, хотя они, как и α-протеобактерии, включают множество симбиотических форм, например, β-ризобии. Более того, β- и γ-протеобактерии имеют разнообразные системы для внутригеномных перестроек и ГПГ (конъюгативные плазмиды, трансдуцирующие фаги, транспозоны и IS-элементы), определяющих активную эволюцию генома. В этой связи важно подчеркнуть, что трансформация в клеточные органеллы произошла только у α-протеобактерий (близкими родичами митохондрий являются представители порядков Rhizobiales и Rickettsiales; Georgiades, Raoult, 2011) и не выявлена у β- и γ-протеобактерий.
Высокие темпы геномной эволюции ризобий создают предпосылки для повышения эффективности симбиотической N2-фиксации и определяемого ей влияния бактерий на продуктивность растений. Это повышение связано с переходом ризобий к “альтруистической” стратегии симбиоза, которая характеризуется образованием неспособных к размножению бактероидов, активно фиксирующих N2 в составе симбиосом – аналогов клеточных органелл (de la Pena et al., 2017). Их изучение имеет важное значение для разработки методов конструирования высокоэффективных микробно-растительных систем сельскохозяйственного назначения, одним из направлений которого может считаться создание N2-фиксирующих органелл, стабильно поддерживаемых клеткой-хозяином (Lopez-Torrejon et al., 2016). Эти органеллы, выявленные у некоторых одноклеточных эукариот (Braarudosphaera bigelowii), по своей генетической организации близки к митохондриям и пластидам (Coale et al., 2024). Поэтому перспективным направлением биотехнологии растений может считаться введение nif-генов в их постоянные клеточные органеллы, предшественники которых (α-протеобактерии и цианобактерии) были, по всей видимости, способны к фиксации молекулярного азота.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках Соглашения № 075-15-2021-1055 от 28 сентября 2021 г. о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта “Мобилизация генетических ресурсов микроорганизмов на базе Ведомственной коллекции полезных микроорганизмов сельскохозяйственного назначения (ВКСМ) при ФГБНУ ВНИИСХМ с использованием сетевого принципа организации”.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит результатов исследований с использованием животных в качестве объекта.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
Н. А. Проворов
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии
Email: eeandr@gmail.ru
Россия, Санкт-Петербург, 196608
Е. Е. Андронов
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии
Автор, ответственный за переписку.
Email: eeandr@gmail.com
Россия, Санкт-Петербург, 196608
Список литературы
- Онищук О. П., Курчак О. Н., Кимеклис А. К., Аксенова Т. С., Андронов Е. Е., Проворов Н. А. Биоразнообразие симбиозов, образуемых клубеньковыми бактериями Rhizobium leguminosarum c бобовыми растениями галегоидного комплекса // Сельскохоз. биология. 2023. Т. 58. № 1. С. 87‒99.
- Onischuk O. P., Kurchak O. N., Kimeklis A. K., Aksenova T. S., Andronov E. E., Provorov N. A., Biodiversity of the symbiotic systems formed by nodule bacteria Rhizobium leguminosarum with the leguminous plants of galegoid complex // Agricultural Biology. 2023. V. 58. № 1. P. 77‒85.
- Проворов Н. А., Андронов Е. Е., Онищук О. П. Формы естественного отбора, определяющего геномную эволюцию клубеньковых бактерий // Генетика. 2017. Т. 53. С. 401‒410.
- Provorov N. A., Andronov E. E., Onishchuk O. P. Forms of natural selection controlling the genomic evolution in nodule bacteria // Rus. J. Genetics. 2017. V. 53. P. 411‒418.
- Проворов Н. А., Онищук О. П., Юргель С. Н., Курчак О. Н., Чижевская Е. П., Воробьев Н. И., Затовская Т. В., Симаров Б. В. Конструирование высокоэффективных симбиотических штаммов бактерий: эволюционные модели и генетические подходы // Генетика. 2014. Т. 50. С. 1273‒1285.
- Provorov N. A., Onishchuk O. P., Yurgel S. N., Kurchak O. N., Chizhevskaya E. P., Vorobyov N. I., Zatovskaya T. V., Simarov B. V. Construction of highly-effective symbiotic bacteria: evolutionary models and genetic approaches // Rus. J. Genetics. 2014. V. 50. P. 1125‒1134.
- Berrada H., Fikri-Benbrahim K . Taxonomy of the rhizobia: current perspectives // British Microbiol. Res. J. 2014. V. 4. P. 616‒639.
- Bobay L. M., Ochman H . The evolution of bacterial genome architecture // Front. Genet. 2017. V. 8. Art. 72.
- Bromfield E. S.P., Cloutier S., Hynes M. F. Ensifer canadensis sp. nov. strain T173T isolated from Melilotus albus (sweet clover) in Canada possesses recombinant plasmid pT173b harboring symbiosis and type IV secretion system genes apparently acquired from Ensifer medicae // Front. Microbiol. 2023. V. 14. Art. 1195755.
- Broughton W. J., Jabbouri S., Perret X . Keys to symbiotic harmony // J. Bacteriol. 2000. V. 182. P. 5641–5652.
- Cervantes L., Bustos P., Girard L. Santamaría R. I., Dávila G., Vinuesa P., Romero D., Brom S . The conjugative plasmid of a bean-nodulating Sinorhizobium fredii strain is assembled from sequences of two Rhizobium plasmids and the chromosome of a Sinorhizobium strain // BMC Microbiol. 2011. V. 11. Art. 149.
- Coale T. H., Loconte V., Turk-Kubo K.A., Vanslembrouck B., Mak W. K.E., Cheung S., Ekman A., Chen J. H., Hagino K., Takano Y., Nishimura T., Adachi M., Le Gros M., Larabell C., Zehr J. P. Nitrogen-fixing organelle in a marine alga // Science. 2024. V. 384. P. 217–222.
- Daley D. O., Whelan J . Why genes persist in organelle genomes? // Genome Biol. 2005. V. 6. Art. 110. https://doi.org/10.1186/gb-2005-6-5-110
- de la Peña T., Fedorova E., Pueyo J. J., Lucas M. M. The symbiosome: legume and rhizobia co-evolution toward a nitrogen-fixing organelle? // Front. Plant Sci. 2017. V. 8. Art. 2229.
- Denison R. F., Kiers E. T. Lifestyle alternatives for rhizobia: mutualism, parasitism, and forgoing symbiosis // FEMS Microbiol. Lett. 2004. V. 237. P. 187‒193.
- Fagorzi C., Ilie A., Decorosi F., Cangioli L., Viti C., Mengoni A., diCenzo G.C . Symbiotic and nonsymbiotic members of the genus Ensifer (syn. Sinorhizobium ) are separated into two clades based on comparative genomics and high-throughput phenotyping // Genome Biol. Evol. 2020. V. 12. P. 2521‒2534.
- Georgiades K., Raoult D . The rhizome of Reclinomonas americana, Homo sapiens, Pediculus humanus and Saccharomyces cerevisiae mitochondria // Biology Direct. 2011. V. 6. P. 55.
- Giovannoni S. J., Tripp H. J., Givan S., Podar M., Vergin K. L., Baptista D., Bibbs L., Eads J., Richardson T. H., Noordewier M., Rappé M. S., Short J. M., Carrington J. C., Mathur E. J. Genome streamlining in a cosmopolitan oceanic bacterium // Science. 2005. V. 309. P. 1242‒1245.
- González V., Santamaría R. I., Bustos P., Hernández-González I., Medrano-Soto A., Moreno-Hagelsieb G., Janga S. C., Ramírez M. A., Jiménez-Jacinto V., Collado-Vides J., Dávila G . The partitioned Rhizobium etli genome: genetic and metabolic redundancy in seven interacting replicons // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2006. V. 103. P. 3834‒3839.
- Hacker J., Kaper J. B. Pathogenicity islands and the evolution of microbes // Annu. Rev. Microbiol. 2000. V. 54. P. 641‒679.
- Hernández-Oaxaca D., Claro-Mendoza K.L., Rogel M. A., Rosenblueth M., Velasco-Trejo J.A., Alarcón-Gutiérrez E., García-Pérez J.A., Martínez-Romero J., James E. K., Martínez-Romero E . Genomic diversity of Bradyrhizobium from the tree legumes Inga and Lysiloma (Caesalpinioideae-Mimosoid clade) // Diversity. 2022. V. 14. Art. 518.
- Karunakaran R., Haag A. F., East A. K., Ramachandran V. K., Prell J., James E. K., Scocchi M., Ferguson G. P., Poole P. S. BacA is essential for bacteroid development in nodules of galegoid, but not phaseoloid legumes // J. Bacteriol. 2010. V. 192. P. 2920‒2928.
- Koonin E. V., Wolf Y. I. Genomics of bacteria and archaea: the emerging dynamic view of the prokaryotic world // Nucl. Acids Res. 2008. V. 36. P. 6688–6719.
- Kumar N., Lad G., Giuntini E., Kaye M. E., Udomwong P., Shamsani N. J., Young J. P., Bailly X . Bacterial genospecies that are not ecologically coherent: population genomics of Rhizobium leguminosarum // Open Biol. 2015. V. 5. Art. 140133.
- Kuzmanović N., Fagorzi C., Mengoni A., Lassalle F., diCenzo G.C . Taxonomy of Rhizobiaceae revisited: proposal of a new framework for genus delimitation // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2022. V. 72. Art. 005243.
- Laranjo M., Alexandre A., Oliveira S . Legume growth-promoting rhizobia: an overview on the Mesorhizobium genus // Microbiol. Res. 2014. V. 169. P. 2‒17.
- Liang J., Hoffrichter A., Brachmann A., Marín M . Complete genome of Rhizobium leguminosarum Norway, an ineffective Lotus microsymbiont // Stand. Genomic Sci. 2018. V. 13. Art. 36.
- López-Torrejón G., Jiménez-Vicente E., Buesa J. M., Hernandez J. A., Verma H. K., Rubio L. M. Expression of a functional oxygen-labile nitrogenase component in the mitochondrial matrix of aerobically grown yeast // Nat. Commun. 2016. V. 7. Art. 11426.
- MacLean A.M., Finan T. M., Sadowsky M. J. Genomes of the symbiotic nitrogen-fixing bacteria of legumes // Plant Physiol. 2007. V. 144. P. 615‒622.
- Moreno E . Genome evolution within the alpha Proteobacteria: why do some bacteria not possess plasmids and others exhibit more than one different chromosome? // FEMS Microbiol. Rev. 1998. V. 22. P. 255‒275.
- Mornico D., Miché L., Béna G., Nouwen N., Verméglio A., Vallenet D., Smith A. T., Giraud E., Médigue C., Moulin L . Comparative genomics of Aeschynomene symbionts: insights into the ecological lifestyle of nod-independent photosynthetic bradyrhizobia // Genes. 2012. V. 3. P. 35‒61.
- Naito M., Pawlowska T. E. Defying Muller’s ratchet: ancient heritable endobacteria escape extinction through retention of recombination and genome plasticity // mBio. 2016. V. 7. Art. e02057-15.
- Oda Y., Larimer F. W., Chain P. S., Malfatti S., Shin M. V., Vergez L. M., Hauser L., Land M. L., Braatsch S., Beatty J. T., Pelletier D. A., Schaefer A. L., Harwood C. S. Multiple genome sequences reveal adaptations of a phototrophic bacterium to sediment microenvironments // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2008. V. 105. P. 18543‒18548.
- Okazaki S., Noisangiam R., Okubo T., Kaneko T., Oshima K., Hattori M . Genome analysis of a novel Bradyrhizobium sp. DOA9 carrying a symbiotic plasmid // PLoS One. 2015. V. 10. Art. e0117392.
- Ormeño-Orrillo E., Martínez-Romero E . A genomotaxonomy view of the Bradyrhizobium genus // Front. Microbiol. 2019. V. 10. Art. 1334.
- Ormeño-Orrillo E., Servín-Garcidueñas L.E., Rogel M. A., González V., Peralta H., Mora J., Martínez-Romero J., Martínez-Romero E . Taxonomy of rhizobia and agrobacteria from the Rhizobiaceae family in light of genomics // Syst. Appl. Microbiol. 2015. V. 38. P. 287‒291.
- Parent M. A., Goenka R., Murphy E., Levier K., Carreiro N., Golding B., Ferguson G., Roop R. M. , Walker G. C., Baldwin C. L. Brucella abortus bac A mutant induces greater pro-inflammatory cytokines than the wild-type parent strain // Microbes Infect. 2007. V. 9. P. 55‒62.
- Perry B. J., Sullivan J. T., Colombi E., Murphy R. J.T., Ramsay J. P., Ronson C. W. Symbiosis is-lands of Loteae-nodulating Mesorhizobium comprise three radiating lineages with concordant nod gene complements and nodulation host-range groupings // Microb. Genom. 2020. V. 6. Art. 81419.
- Provorov N. A. Genetic individuality and inter-species altruism: modelling of symbiogenesis using different types of symbiotic bacteria // Biol. Commun. 2021. V. 66. P. 65‒71.
- Provorov N. A., Andronov E. E., Kimeklis A. K., Onishchuk O. P., Igolkina A. A., Karasev E. S. Microevolution, speciation and macroevolution in rhizobia: genomic mechanisms and selective patterns // Front. Plant Sci. 2022. V. 13. Art. 1026943.
- Provorov N. A., Tikhonovich I. A. The prospects for Symbiogenetics: emergence of superorganismal genomes and reconstruction of cellular evolution (mini-review) // Biol. Commun. 2023. V. 68. P. 49–55.
- Reeve W., O’Hara G., Chain P., Ardley J., Bräu L., Nandesena K., Tiwari R., Copeland A., Nolan M., Han C., Brettin T., Land M., Ovchinikova G., Ivanova N., Mavrommatis K., KoMarkowitz V., Kyrpides N., Melino V., Denton M., Howieson J . Complete genome sequence of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii strain WSM1325, an effective microsymbiont of annual Mediterranean clovers // Stand. Genom. Sci. 2010. V. 2. P. 347‒356.
- Rey F. E., Harwood C. S. FixK, a global regulator of microaerobic growth, controls photosynthesis in Rhodopseudomonas palustris // Mol. Microbiol. 2010. V. 75. P. 1007‒1020.
- Riley A. B., Grillo M. A., Epstein B., Tiffin P., Katy D. H. Discordant population structure among Rhizobium divided genomes and their legume hosts // Mol. Ecol. 2022. V. 32. P. 2646‒2659.
- Rome S., Fernandez M. P., Brunel B., Normand P., Cleyet-Marel J.C . Sinorhizobium medicae sp. nov. isolated from annual Medicago spp. // Int. J. Syst. Bacteriol. 1996. V. 46. P. 972–980.
- Saikia S. P., Jain V., Khetarpal S., Aravind S . Dinitrogen fixation activity of Azospirillum brasilense in maize ( Zea mays ) // Curr. Sci. 2007. V. 93. P. 1296‒1300.
- Sameshima R., Isawa T., Sadowsky M. J., Hamada T., Kasai H., Shutsrirung A., Mitsui H., Minamisawa K . Phylogeny and distribution of extra-slow-growing Bradyrhizobium japonicum harboring high copy numbers of RSα, RSβ and IS1631 // FEMS Microb. Ecol. 2003. V. 44. P. 191–202.
- Schmeisser C., Liesegang H., Krysciak D., Bakkou N., Le Quere A., Wollherr A., Heinemeyer I., Morgenstern B., Pommerening-Röser A., Flores M., Palacios R., Brenner S., Gottschalk G., Schmitz R. A., Broughton W. J., Perret X., Strittmatter A. W., Streit W. R. Rhizobium sp. strain NGR234 possesses a remarkable number of secretion systems // Appl. Environ. Microbiol. 2009. V. 75. P. 4035–4045.
- Schneiker S., Perlova O., Kaiser O., Gerth K., Alici A., Altmeyer M. O., Bartels D., Bekel T., Beyer S., Bode E., Bode H. B., Bolten C. J., Choudhuri J. V., Doss S., Elnakady Y. A., Frank B., Gaigalat L., Goesmann A., Groeger C., Gross F., Jelsbak L., Jelsbak L., Kalinowski J., Kegler C., Müller R . Complete genome sequence of the myxobacterium Sorangium cellulosum // Nat. Biotechnol. 2007. V. 27. P. 1281–1289.
- Schuldes J., Rodriguez-Orbegoso M., Schmeisser C., Krishnan H. B., Daniel R., Streit W. R. Complete genome sequence of the broad-host-range strain Sinorhizobium fredii USDA257 // J. Bacteriol. 2012. V. 194. P. 4483. https://doi.org/10.1128/jb.00966-12
- Sprent J. I. Nodulation in Legumes. London: Kew, Royal Botanic Gardens, 2001. 102 p.
- Tian C. F., Zhou Y. L., Zhang Y. M., Li Q. Q., Zhang Y. Z., Li D. F., Wang S., Wang J., Gilbert L. B., Li Y. L., Chen W. X. Comparative genomics of rhizobia nodulating soybeans suggests extensive recruitment of lineage-specific genes in adaptations // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2012. V. 109. P. 8629‒8634.
- Tsyganova A. V., Seliverstova E. V., Onischuk O. P., Kurchak O. N., Kimeklis A. K. , Sazanova A. L., Kuznetsova I. G., Safronova V. I., Belimov A. A., Andronov E. E., Tsyganov V. E. Ultrastructural features of symbiotic nodules of relict legumes // Plants and microbes: the future of biotechnology / Ed. Tikhonovich I. A. Ufa: Acad. Initiative Center, 2018. P. 246.
- Vinardell J. M., Acosta-Jurado S., Zehner S., Göttfert M., Becker A., Baena I., Blom J., Crespo-Rivas J.C., Goesmann A., Jaenicke S., Krol E., McIntosh M., Margaret I., Pérez-Montaño F., Schneiker-Bekel S., Serranía J., Szczepanowski R., Buendía A. M. , Lloret J., Bonilla I., Pühler A., Ruiz-Sainz J.E., Weidner S . The Sinorhizobium fredii HH103 genome: a comparative analysis with S. fredii strains differing in their symbiotic behavior with soybean // Mol. Plant-Microbe Interact. 2015. V. 28. P. 811‒824.
- Wang E. T., Rogel M. A., García-de los Santos A., Martínez-Romero J., Cevallos M. A., Martínez-Romero E . Rhizobium etli bv. mimosae , a novel biovar isolated from Mimosa affinis // Int. J. Syst. Bacteriol. 1999. V. 49. P. 1479‒1491.
- Wang S., Hao B., Li J. Gu H., Peng J., Xie F., Zhao X., Frech C., Chen N., Ma B., Li Y . Whole-genome sequencing of Mesorhizobium huakuii 7653R provides molecular insights into host specificity and symbiosis island dynamics // BMC Genomics. 2014. V. 15. Art. 440.
- Whittle M., Barreaux A. M.G., Bonsall M. B., Ponton F., English S . Insect-host control of obligate, intracellular symbiont density // Proc. Biol. Sci. 2021. V. 288. Art. 20211993.
- Wisniewski-Dyé F., Lozano L., Acosta-Cruz E., Borland S., Drogue B., Prigent-Combaret C., Rouy Z., Barbe V., Herrera A. M., González V., Mavingui P. Genome sequence of Azospirillum brasilense CBG497 and comparative analyses of Azospirillum core and accessory genomes provide insight into niche adaptation // Genes. 2012. V. 3. P. 576‒602.
- Wongdee J., Boonkerd N., Teaumroong N., Tittabutr P., Giraud E . Regulation of nitrogen fixation in Bradyrhizobium sp. strain DOA9 involves two distinct NifA regulatory proteins that are functionally redundant during symbiosis but not during free-living growth // Front. Microbiol. 2018. V. 9. Art. 1644.
- Young J. P.W., Jorrin B., Moeskjær S., James E. K. Rhizobium brockwellii sp. nov., Rhizobium johnstonii sp. nov. and Rhizobium beringeri sp. nov., three genospecies within the Rhizobium leguminosarum species complex // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2023. V. 73. Art. 005979.
Дополнительные файлы