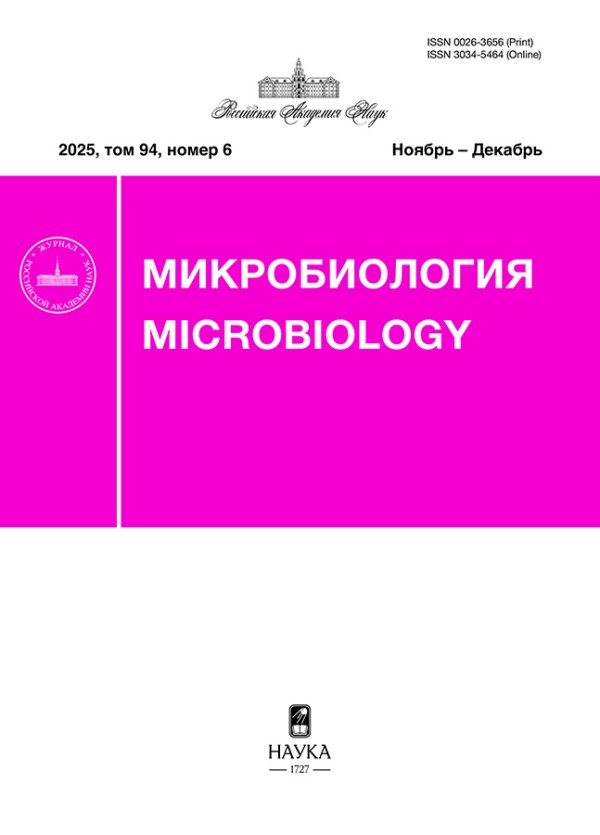Бактериальные сообщества реки Селенги, ее притоков и Селенгинского мелководья в летний период 2021 года
- Авторы: Захаренко А.С.1, Томберг И.В.1, Букин С.В.1, Блинов В.В.1, Земская Т.И.1
-
Учреждения:
- Лимнологический институт СО РАН
- Выпуск: Том 93, № 6 (2024)
- Страницы: 849-863
- Раздел: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0026-3656/article/view/276168
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0026365624060146
- ID: 276168
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Получены первые данные о разнообразии и структуре бактериальных соо бществ в реке Селенге, ее притоках и придельтовой акватории (Селенгинское мелководье) в летний многоводный период 2021 г. На российской части реки Селенги вниз по течению выявлена тенденция постепенного уменьшения химических показателей (щелочности, минерализации, концентраций сульфат- и хлорид-ионов). Как и ранее, химический состав вод реки Селенги определялся водностью и антропогенной нагрузкой, тогда как влияние вод притоков было локальным. На расстоянии 1 км от устьев в зоне смешения речной воды с озерной химический состав и таксономическая структура бактериальных сообществ были близки отмечаемым в пелагиали озера Байкал. Во всех проанализированных библиотеках гена 16S рРНК выявлено 9 общих фил бактерий с преобладанием представителей Pseudomonadota (51.71–76.83%) в речных сообществах и Actinomycetota – (17.28–66.32%) в сообществах Селенгинского мелководья. Наиболее значительные различия таксономического состава бактериальных сообществ отмечены на уровне рода. Предположено существование на всем протяжении реки Селенги устойчивого бактериального сообщества, основными представителями которого являются бактерии родов Limnohabitans, Pseudarcicella, Rhodoluna и Polynucleobacter, доминирующие и в малых реках Южного Байкала. Сравнительный анализ разнообразия сообществ притоков не выявил существенного влияния на микробиомы реки Селенги и озера Байкал: в литорали и пелагиали озера выявлены лишь некоторые речные бактериальные таксоны.
Полный текст
Бактериальные сообщества реки Селенги , ее притоков и Селенгинского мелководья в летний период 2021 года [1]
Река Селенга является самым крупным притоком озера Байкал. Она поставляет в озеро за год в среднем около 30 км3 воды, что составляет половину всего притока (Атлас Байкала, 1993). При впадении в оз. Байкал Селенга образует обширную дельту с большим количеством проток, стариц и пойменных озер площадью около 600 км2 (Иванов и соавт., 2007). Самая большая протока дельты – Харауз, через которую в зависимости от сезона проходит 30–80% водного стока реки. Протока Средняя, расположенная в центральной части дельты, характеризуется переменным водообменом: полноводна в период паводков, имеет близкий к озерному режим в летнюю межень и полностью перемерзает в верхнем течении зимой (Томберг и соавт., 2006).
Большая часть годового стока (56%) р. Селенги формируется на территории России. В российской части в Селенгу впадает около 30 притоков, основные из них (Джида, Чикой, Темник, Хилок, Уда) находятся в пределах буферной экологической зоны озера Байкал. Воды рек Чикой, Джида и Темник характеризуются преимущественно дождевым типом питания, р. Уда – снеговым, а р. Баян-Гол подпитывается стоком из озера Гусиное, испытывающего значительную антропогенную нагрузку (Иванова, 2021). В бассейне Селенги расположено большое количество промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также населенных пунктов, сточные воды которых сбрасывают в реку и ее притоки. Наибольший объем загрязняющих веществ в р. Селенгу вносится с притоками Хилок и Чикой (Зомонова и соавт., 2014), в бассейнах которых осуществляется добыча полезных ископаемых (Государственный доклад, 2018). На качество воды р. Джиды оказывают влияние с бросы шахтных и дренажных вод недействующего ОАО “Джидинский вольфрамомолибденовый комбинат”, содержащие значительное количество меди, цинка, кадмия, фтора и сульфатов. В реку Уда осуществляется сброс сточных вод с ОАО “Авиационный завод” и с очистных сооружений Улан-Удэнской ТЭЦ-1.
Качество воды в Селенге на территории России во многом определяется качеством поступающих с монгольской территории вод и водным режимом. Неблагоприятные климатические условия в бассейне реки (длительное маловодье) привели к поступлению на российскую территорию вод, обогащенных сульфатами, соединениями фосфора, азота и ПАУ (Гармаев, Христофоров, 2010; Сороковикова и соавт., 2013). В летний и осенний периоды большое влияние оказ ывают дождевые паводки, химический состав которых определяется районами их формирования (Сороковикова и соавт., 1992, 1995; Синюкович и соавт., 2011; Томберг и соавт., 2020). Таксономический состав бактериальных сообществ р. Селенги и ее притоков не был изучен.
Микробные сообщества очень чувствительны к факторам окружающей среды (Smith, 2007; Zeglin, 2015; Balmonte et al., 2016; Mai et al., 2018; O’Brien et al., 2023). При изменении экологического состояния речных экосистем отмечена смена таксономического разнообразия бактериальных сообществ (Hooper et al., 2005; Xie et al., 2021). В ряде исследований показано влияние на структуру речных сообществ аллохтонной микрофлоры, поступа ющей с водами притоков или с выпадающими осадками (Crump et al., 2004; Fortunato, 2012; Read et al., 2015; Ruiz-Gonzalez et al., 2015). Привносимые аллохтонные вещества также оказывали влияние на спектр доминирующих источников углерода, питательных субстратов и, в конечном итоге, на состав микробных сообществ (Sinsabaugh, Findlay 2003; Balmonte et al., 2016; O’Brien et al., 2023). Еще одним фактором, определяющим разнообразие бактериальных сообществ, являлось изменение стока реки и ее притоков (Doherty et al., 2017; O’Brien et al., 2023), что ранее отмечено и в малых реках южной оконечности Байкала (Zemskaya et al., 2022).
Цель наших исследований – изучение разнообразия и структуры бактериальных сообществ в реке Селенге (на расстоянии 356 км), ее притоках и Селенгинском мелководье в период дождевого паводка в июле‒августе, а также оценка влияния параметров окружающей среды на структуру бактериальных сообществ и, следовательно, на качество воды.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты исследования и отбор образцов. Пробы воды отбирали в российской части р. Селенги, на устьевых участках некоторых ее притоков (реки Джида, Темник, Баян-Гол, Чикой, Уда), в устьях двух проток дельты р. Селенги (Харауз (Kh) и Средняя (S)) и на Селенгинском мелководье, напротив этих проток (рис. 1). Исследовано 14 речных образцов, включая устья проток дельты и 28 проб, отобранных на акватории Селенгинского мелководья, в июле‒августе 2021 года. В реках, включая Kh и S, пробы отбирали из поверхностного слоя воды; на Селенгинском мелководье – на расстояниях 1, 3, 5, 7 и 10 км от проток на трех горизонтах: из поверхностного и придонного слоев и из слоя в градиенте суммы ионов.
Рис. 1. Карта-схема района исследований и мест отбора проб, построенная с использованием карт Google Earth Pro https://www.google.com/intl/ru/earth/ver-100sions/#earth-pro). 🔴 – приток.
Физико-химические характеристики водной среды. В работе использовали комплекс гидрохимических и молекулярно-биологических методов. Вертикальное распределение температуры (T), суммы ионов (Sc), насыщения растворенного кислорода (O2) в водной толще Селенгинского мелководья определяли многопараметрическим CTD-профилографом (water quality profiler) AAQ177 Rinko (“JFE Advantech”, Япония). Минерализацию рассчитывали по измеренной электропроводности воды с учетом уравнений зависимости от температуры, давления и ионного состава для условий байкальской воды (Блинов и соавт., 2006). В речных пробах температуру измеряли кондуктометром HORIBA ES-51 (Япония). Для анализа значений рН использовали рН-метр “Эксперт-001” (Россия) с комбинированным электродом и термокомпенсатором. Химический анализ проводили общепринятыми в гидрохимии пресных вод методами (Барам и соавт., 1999; Руководство …, 2009; Wetzel, Likens, 2000). Общий азот, фосфор и органическое вещество анализировали в нефильтрованных образцах, биогенные элементы и главные ионы – в образцах, отфильтрованных через мембранные фильтры с диаметром пор 0.45 мкм. Концентрацию биогенных элементов определяли на спектрофотометре “UNICO-2100” (США): нитриты – c реактивом Грисса, аммонийный азот – индофенольным методом, фосфаты – методом Дениже‒Аткин са с использованием хлорида двухвалентного олова в качестве восстановителя. Общий фосфор и азот измеряли на спектрофотометре после высокотемпературного окисления персульфатом калия, органическое вещество анализировали методами бихроматного (БО) и перманганатного окисления (ПО). Анионы (HCO3-, Cl-, SO42-, NO3-) определяли ВЖХ с непрямым УФ-детектированием (“Милихром А-О2”, Россия), ионы Са2+ и Mg2+ – методом абсорбции, Na+ и K+ – плазменной эмиссией (“ААС-30”, Германия).
Выделение ДНК и секвенирование. Пробы воды (1–2.5 л) фильтровали через мембраны (1–2 на пробу) диаметром 47 мм с размером пор 0.2 мкм (“Millipore”, Германия) с использованием вакуумного насоса. ДНК выделяли методом фенол-хлороформной экстракции (Sambrook et al., 1989). Для амплификации вариабельной области V2–V3 гена 16S рРНК использовали универсальные праймеры B_V23F (5ꞌ-AGTGGCGGACGGGTGAGTAA) и B_V23R (5ꞌ-CCGCGGCTGCTGGCAC) (Sahm et al., 2013). Библиотеки ампликонов для анализа на приборе Illumina MiSeq готовили с использованием набора NEBNext Ultra II (“New England Biolabs”). Библиотеки анализировали с помощью набора Illumina MiSeq Standard Kit v.3 (“Illumina”) в Центре коллективного пользования “Геномные технологии, протеомика и клеточная биология” Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (г. Пушкин).
Биоинформатический и статистический анализы. Первичный биоинформатический анализ библиотек генов 16S рРНК проведен, как описано ранее (Захаренко и соавт., 2024 в печати). Дальнейший анализ проводили в Mothur в соответствии с рекомендациями MiSeq SOP (Kozich et al., 2013). Последовательности группировали в операционные таксономические единицы (ОТЕ) на основе 97% сходства и классифицировали до отдельных бактериальных филотипов в соответствии с базой данных SILVA 138_1 (http://www.arb-silva.de). Чтобы свести к минимуму случайные ошибки секвенирования, ОТЕ с низким содержанием (<5 прочтений) были исключены из анализа. Все ресурсоемкие операции выполнены с использованием высокопроизводительного кластера “Академик В.М. Матросов” Центра коллективного пользования “Иркутский суперкомпьютерный центр СО РАН”. Данные секвенирования депонированы в архив GenBank, секцию SRA под номером PRJNA1114396.
Анализ факторов, влияющих на структуру бактериальных сообществ, проводили с помощью метода главных компонент (PCA). Сходство бактериальных сообществ оценивали путем расчета матрицы дистанций Брея‒Кертиса, которая использована для построения графика непараметрического многомерного шкалирования (NMDS) и тепловых карт, а также для выполнения иерархической кластеризации. Для сравнения разнообразия на уровне рода построена тепловая карта для 51 наиболее распространенного рода с относительной численностью ≥1%. Эти расчеты выполнены с использованием программных пакетов сluster, vegan и pheatmap для языка R (http://www.r-project.org/index.html) в среде Rstudio (http://www.rstudio.com/). График NMDS визуализирован с помощью веб-инструмента MicrobiomeAnalyst (Chong et al., 2020), пакеты ggplot2 и ggbiplot R использованы для визуализации графика PCA; stats использован для статистического анализа. Ближайшие гомологи для каждой последовательности 16S рРНК найдены с использованием алгоритма BLAST и базы данных NCBI nt (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Предсказание для сообществ относительной представленности генов, относимых к различным функциональным категориям из базы данных KEGG (Kanehisa, Goto, 2000), выполнено c помощью PICRUSt2 алгоритма (Douglas et al., 2020) путем поиска ближайшего гомологичного аннотированного референсного генома для каждой ОТЕ.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Физико-химические характеристики исследованных объектов приведены в таблице.
Таблица. Химические параметры исследуемых проб воды. Т – температура, Sc – сумма ионов, БО – бихроматная окисляемость, ПО – перманганатная окисляемость. Нд – нет данных
Образцы | Место отбора, расстояние от устья протоки (км), глубина отбора (м) | pH | ℃ | мг/л | мг/л | мг/л | мг N/л | мг P/л | мг C/л | ||||
Т | Sc | O2 | HCO3– | Cl– | SO42– | NH4+ | NO3– | PO43– | ПО | БО | |||
1 | р. Джида | 7.68 | 18.5 | 181 | 7.72 | 120.5 | 0.75 | 16.5 | ˂ 0.010 | 0.12 | 0.001 | 2.3 | 8.1 |
2 | р. Темник | 7.29 | 16.1 | 92 | 8.29 | 58.2 | 0.17 | 11.5 | 0.012 | 0.09 | 0.001 | 2.4 | 7.9 |
3 | р. Баян-Гол | 7.87 | 28.1 | 532 | Нд | 326.4 | 13.67 | 50.4 | ˂ 0.010 | 0.11 | 0.001 | 4.6 | 16.5 |
4 | р. Чикой | 7.3 | 18.3 | 58 | 8.47 | 38.8 | 0.23 | 4.0 | ˂ 0.010 | 0.05 | 0.005 | 1.6 | 5.0 |
5 | р. Уда | 7.19 | 19.1 | 108 | 8.17 | 75.5 | 0.65 | 5.5 | ˂ 0.010 | 0.08 | 0.020 | 2.3 | 5.5 |
6 | р. Селенга (ниже р. Баян-Гол) | 7.63 | 20.1 | 197 | 7.76 | 126.7 | 2.03 | 19.2 | ˂ 0.010 | 0.10 | 0.007 | 3.1 | 7.3 |
7 | р. Селенга (п. Новоселенгинск) | 7.67 | 21.6 | 201 | Нд | 131.5 | 1.71 | 17.5 | 0.013 | 0.12 | 0.013 | 2.7 | 6.8 |
8 | р. Селенга (с. Ганзурино) | 7.67 | 21.6 | 174 | 7.22 | 116.3 | 1.36 | 14.6 | ˂ 0.010 | 0.12 | 0.014 | 2.4 | 8.1 |
9 | р. Селенга (выше г. Улан-Удэ) | 7.72 | 21.1 | 174 | 7.27 | 115.6 | 1.38 | 14.4 | ˂ 0.010 | 0.10 | 0.016 | 2.4 | 7.2 |
10 | р. Селенга (ниже г. Улан-Удэ) | 7.72 | 20.6 | 167 | 7.14 | 112.2 | 1.35 | 13.7 | ˂ 0.010 | 0.13 | 0.016 | 1.7 | 7.5 |
11 | р. Селенга (с. Кабанск) | 7.74 | 20 | 160 | 8.34 | 107.2 | 1.32 | 12.9 | ˂ 0.010 | 0.11 | 0.020 | 2.4 | 6.8 |
12 | р. Селенга (с. Мурзино) | 7.64 | 20.1 | 154 | 7.50 | 101.1 | 1.40 | 12.8 | ˂ 0.010 | 0.11 | 0.018 | 2.3 | 6.8 |
13 | р. Селенга (устье Kh) | 8.35 | 20.3 | 109 | Нд | 71.9 | 0.97 | 8.4 | 0.025 | 0.11 | 0.021 | 2.8 | 6.4 |
14 | р. Селенга (устье S) | 8.68 | 21.7 | 120 | 7.1 | 85.2 | 0.44 | 5.4 | ˂ 0.010 | 0.09 | 0.028 | 1.7 | 10.1 |
15 | Kh 1 км 0 м | 7.74 | 16.2 | 102 | 7.7 | 68.4 | 0.71 | 6.9 | 0.017 | 0.09 | 0.017 | 2.1 | 4.7 |
16 | Kh 1 км 5 м | 8.12 | 13 | 94 | 10.4 | 64.2 | 0.47 | 6.0 | ˂ 0.010 | 0.04 | 0.007 | 1.2 | 2.9 |
17 | Kh 3 км 0 м | 8.39 | 12.1 | 97 | 10.7 | 66.3 | 0.56 | 6.3 | ˂ 0.010 | 0.03 | 0.004 | 1.0 | 3.2 |
18 | Kh 3 км 10 м | 8.3 | 11.1 | 97 | 11.5 | 67.0 | 0.43 | 5.8 | ˂ 0.010 | 0.03 | 0.002 | 0.8 | 1.7 |
19 | Kh 3 км 18 м | 8.52 | 8.9 | 96 | 12.0 | 66.3 | 0.44 | 5.6 | ˂ 0.010 | 0.02 | 0.011 | 0.6 | 1.2 |
20 | Kh 5 км 0 м | 8.49 | 11.2 | 98 | 11.2 | 67.0 | 0.41 | 5.9 | ˂ 0.010 | 0.03 | 0.004 | 0.8 | 3.0 |
21 | Kh 5 км 10 м | 8.46 | 9.8 | 98 | 11.7 | 67.7 | 0.38 | 5.8 | ˂ 0.010 | 0.02 | 0.003 | 0.7 | 1.5 |
22 | Kh 5 км 22 м | 8.08 | 5.7 | 96 | 11.9 | 66.3 | 0.34 | 5.5 | 0.010 | 0.02 | 0.002 | 0.4 | 1.4 |
23 | Kh 7 км 0 м | 8.06 | 15.8 | 108 | 10.1 | 74.2 | 0.60 | 7.4 | ˂ 0.010 | 0.04 | 0.006 | 1.7 | 5.1 |
24 | Kh 7 км 15 м | 8.16 | 8.9 | 100 | 12.1 | 70.4 | 0.44 | 6.1 | 0.010 | 0.01 | 0.003 | 0.5 | 1.3 |
25 | Kh 7 км 27 м | 7.99 | 6 | 98 | 12.9 | 68.5 | 0.43 | 6.0 | 0.010 | 0.02 | 0.001 | 0.3 | 1.3 |
26 | Kh 10 км 0 м | 8.29 | 14.7 | 102 | 10.9 | 70.4 | 0.51 | 6.8 | ˂ 0.010 | 0.03 | 0.004 | 1.2 | 2.2 |
27 | Kh 10 км 40 м | 8.03 | 6 | 100 | 13 | 69.8 | 0.46 | 6.0 | ˂ 0.010 | 0.03 | 0.002 | 0.3 | 1 |
28 | Kh 10 км 100 м | 7.92 | 5.7 | 97 | 13 | 67.2 | 0.40 | 5.9 | 0.010 | 0.05 | 0.004 | 0.2 | 1.4 |
29 | S 1 км 0 м | 8.07 | 14.8 | 104 | 10.2 | 70.6 | 0.62 | 7.0 | ˂ 0.010 | 0.04 | 0.006 | 1.6 | 4.7 |
30 | S 1 км 5 м | 8.1 | 14.1 | 103 | 10.4 | 69.9 | 0.61 | 7.1 | ˂ 0.010 | 0.04 | 0.006 | 1.3 | 4.6 |
31 | S 3 км 0 м | 8.13 | 14.8 | 104 | 10.4 | 70.6 | 0.52 | 7.1 | ˂ 0.010 | 0.04 | 0.007 | 1.5 | 4.4 |
32 | S 3 км 7 м | 8.28 | 11.3 | 96 | 11.9 | 65.8 | 0.45 | 6.2 | ˂ 0.010 | 0.02 | 0.003 | 0.8 | 2.7 |
33 | S 3 км 23 м | 7.97 | 6.3 | 95 | 12.5 | 65.1 | 0.42 | 5.8 | ˂ 0.010 | 0.03 | 0.001 | 0.3 | 1.1 |
34 | S 5 км 0 м | 7.93 | 14.3 | 97 | 10.9 | 65.1 | 0.51 | 6.8 | ˂ 0.010 | 0.04 | 0.004 | 1.4 | 3.7 |
35 | S 5 км 10 м | 8.26 | 8.9 | 96 | 12.7 | 65.8 | 0.42 | 6.0 | ˂ 0.010 | 0.01 | ˂ 0.001 | 0.5 | 1.3 |
36 | S 5 км 45 м | 7.87 | 5.8 | 96 | 12.5 | 65.4 | 0.39 | 5.9 | ˂ 0.010 | 0.04 | ˂ 0.001 | 0.2 | 1.1 |
37 | S 7 км 0 м | 8.42 | 12.8 | 96 | 11.9 | 65.8 | 0.46 | 6.0 | ˂ 0.010 | 0.01 | ˂ 0.001 | 0.6 | 2.4 |
38 | S 7 км 20 м | 7.97 | 6.6 | 94 | 12.5 | 65.1 | 0.42 | 5.7 | 0.011 | 0.03 | 0.002 | 0.3 | 2.3 |
39 | S 7 км 75 м | 7.9 | 5.1 | 94 | 12.7 | 65.1 | 0.41 | 5.6 | ˂ 0.010 | 0.04 | ˂ 0.001 | 0.2 | 1.2 |
40 | S 10 км 0 м | 8.38 | 12.2 | 96 | 12.4 | 65.8 | 0.47 | 6.0 | ˂ 0.010 | 0.01 | ˂ 0.001 | 0.5 | 2.2 |
41 | S 10 км 15 м | 8.22 | 7.7 | 106 | 12.5 | 76.9 | 0.42 | 5.7 | ˂ 0.010 | 0.02 | ˂ 0.001 | 0.3 | 1.8 |
42 | S 10 км 190 м | 7.69 | 5.2 | 97 | 10.8 | 67.2 | 0.48 | 5.5 | ˂ 0.010 | 0.01 | 0.006 | 0.2 | 2.2 |
Уровень воды в р. Селенге в период отбора проб (гидропост г. Улан-Удэ) колебался от 173 см до 233 см, по данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Эти значения превысили пороговое значение уровня воды в 230 см, что характеризовало исследуемый период как многоводный. Температура воды в реке Селенге и протоках ее дельты варьировала от 20.0 до 21.7 oС, в притоках была ниже (16.1–19.1 oС), за исключением р. Баян-Гол (28.1 oС). На Селенгинском мелководье температура воды соответствовала периоду прямой стратификации, понижаясь с глубиной с 16.2 до 5.2 oС. Воды исследуемого района охарактеризованы как нейтральные или слабощелочные (рН 7.19–8.68), наиболее низкие значения зарегистрированы в р. Селенге и ее притоках. Суммарное содержание главных ионов в отобранных образцах варьировало в широких пределах. В воде притоков Селенги наименьшие и наибольшие их значения выявлены в реках Чикой и Баян-Гол: 58 и 532 мг/л соответственно. В р. Селенге минерализация уменьшалась вниз по течению по мере разбавления водами притоков с низким содержанием солей: от 201 до 120 мг/л, а на Селенгинском мелководье снижалась с удалением от устьев проток: от 120 до 94 мг/л, что соответствует данным, полученным ранее (Сороковикова и соавт., 1995; Томберг и соавт., 2020). Концентрация растворенного кислорода в воде изменялась от 7.1 до 12.96 мг/л, наиболее низкие значения этого показателя выявлены в речных водах (ниже 8.47 мг/л). Содержание биогенных элементов в воде р. Селенги и ее притоков было достаточно высоким, что объясняется поступлением азота и фосфора с бассейна в условиях паводка (таблица). Паводок же стал основной причиной повышения содержания органического вещества в воде: значения БО и ПО в период исследования составляли 5.0–16.5 и 1.6–4.6 мг С/л соответственно, с максимальными значениями в р. Баян-Гол.
Анализ физико-химических данных с помощью метода главных компонент выявил два кластера: первый включал речные пробы и поверхностную пробу на расстоянии 1 км от устья протоки Kh; второй – 27 образцов из зоны Селенгинского мелководья (рис. 2).
Рис. 2. Диаграмма рассеяния точек в пространстве первых двух главных компонент (PCA), построенная на основе физико-химических параметров. Стрелками отображены векторы, направленные по градиентам изменения исследуемых показателей в образцах. 1 – р. Джида, 2 – р. Темник, 3 – р. Баян-Гол, 4 – р. Чикой, 5 – р. Уда, 6 – р. Селенга (ниже р. Баян-Гол), 7 – р. Селенга (п. Новоселенгинск), 8 – р. Селенга (с. Ганзурино), 9 – р. Селенга (выше г. Улан-Удэ), 10 – р. Селенга (ниже г. Улан-Удэ), 11 – р. Селенга (с. Кабанск), 12 – р. Селенга (с. Мурзино), 13 – устье Kh, 14 – устье S, 15 – Kh 1 км 0 м, 16 – Kh 1 км 5 м, 17 – Kh 3 км 0 м, 18 – Kh 3 км 10 м, 19 – Kh 3 км 18 м, 20 – Kh 5 км 0 м, 21 – Kh 5 км 10 м, 22 – Kh 5 км 22 м, 23 – Kh 7 км 0 м, 24 – Kh 7 км 15 м, 25 – Kh 7 км 27 м, 26 – Kh 10 км 0 м, 27 – Kh 10 км 40 м, 28 – Kh 10 км 100 м, 29 – S 1 км 0 м, 30 – S 1 км 5 м, 31 – S 3 км 0 м, 32 – S 3 км 7 м, 33 – S 3 км 23 м, 34 – S 5 км 0 м, 35 – S 5 км 10 м, 36 – S 5 км 45 м, 37 – S 7 км 0 м, 38 – S 7 км 20 м, 39 – S 7 км 75 м, 40 – S 10 км 0 м, 41 – S 10 км 15 м, 42 – S 10 км 190 м; ■ – приток, ■ – р. Селенга, ■ – устья проток р. Селенги; расстояние от устья: ■ – 1 км, ■ – 3 км, ■ – 5 км, ■ – 7 км, ■ – 10 км.
Наиболее отличались по анализируемым параметрам воды р. Баян-Гол, где наблюдались максимальные значения Т, Sc, Clˉ, SO42-, HCO3ˉ, БО и ПО (таблица). Значения БО и ПО в водах Селенгинского мелководья были ниже, чем таковые в речных водах, что свидетельствует об активных процессах трансформации органического вещества в озере. На Селенгинском мелководье уменьшение концентрации главных ионов и биогенных элементов до значений, характерных для байкальских вод, наблюдалось уже на расстоянии 1 км от устья проток в основном за счет разбавления речной воды озерной.
Бактериальное α- и β -разнообразие. В результате секвенирования вариабельной области V2–V3 гена 16S рРНК получено 42 библиотеки, содержащих суммарно 1176002 фрагментов генов со средней длиной 378 п.н. (после выравнивания, кластеризации, удаления химер и ОТЕ, содержащих менее 5 последовательностей), которые объединены в 3992 ОТЕ на уровне сходства 97%. Количество ОТЕ в образцах варьировало от 376 до 2022, с минимальным количеством на глубине 5 м и на расстоянии один километр от устья протоки S и максимальным – в р. Уде. Альфа-разнообразие на разных участках реки Селенги оставалось относительно постоянным (дополнительные материалы, табл. S1). Индекс Шеннона, показатель богатства и равномерности, был выше для сообществ р. Селенги (4.32–4.59), исключая устье протоки S (2.84), по сравнению с притоками (3.38–4.23). В Селенгинском мелководье индекс Шеннона варьировал в более широких пределах (3.18–4.56). Наибольшее разнообразие видов (Chao 1, 1956–2821) также отмечено в р. Селенге, исключая устье протоки S (582), минимальное – в притоках (1066–2143) и Селенгинском мелководье (663–2027). Кривые разрежения, построенные для генетического расстояния 0.03 для сообществ Селенгинского мелководья, имели более крутой наклон, по сравнению с речными, предполагая, что текущая глубина секвенирования достаточна для получения полной информации о бактериальном разнообразии (данные не показаны).
Анализ β-разнообразия с использованием матрицы дистанций Брея‒Кертиса показал разделение бактериальных сообществ на два кластера (речные и сообщества Селенгинского мелководья), что соответствовало кластеризации по химическому составу воды (рис. 3).
Рис. 3. График неметрического многомерного шкалирования (NMDS) несхожести бактериальных сообществ (бета-разнообразие для кластерного расстояния 0.03). Нумерация образцов приведена в таблице и в подписи к рис. 2.
В речном кластере наиболее схожи сообщества из р. Селенги и устья протоки Kh, тогда как сообщество устья протоки S отличалось от всех анализируемых сообществ. Достоверность различий между кластерами подтверждена статистическими тестами PERMANOVA (значение F: 15.016; R-квадрат: 0.43505; значение p: 0.001) и ANOSIM (R: 0.77954; значение p < 0.001).
Филогенетическое разнообразие бактериальных сообществ. Проанализированные библиотеки 16S рРНК содержали 9 общих фил бактерий: Acidobacteriota, Actinomycetota, Bacteroidota, Bdellovibrionota, Chloroflexota, Cyanobacteria, Patescibacteria, Pseudomonadota, Verrucomicrobiota. Представители Pseudomonadota и Actinomycetota преобладали во всех сообществах, но Pseudomonadota – преимущественно в речных сообществах (51.71–76.83%), а Actinomycetota – в сообществах Селенгинского мелководья (17.28–66.32%). Вклад Bacteroidota в речных сообществах был выше (4.71–25%), чем на мелководье (0.89–11.59%). Сообщество устья протоки S отличалось от остальных отсутствием представителей класса Alphaproteobacteria, что отмечено нами и в зимний период (Захаренко и соавт., 2024 в печати).
Минорные группы (Acidobacteriota, Bacteria _unclassified, Deinococcota, Dependentiae, Desulfobacterota, Elusimicrobiota, Fibrobacterota, Firmicutes, Fusobacteriota, Gemmatimonadota, Margulisbacteria, Myxococcota, Nitrospirot a, Planctomycetota, Proteobacteria _unclassified, SAR324_clade(Marine_group_B), Spirochaetota, WPS-2), как правило, составляли менее 1% и в сумме не превышали 2.1% от общего количества последовательностей в сообществах.
Значительные различия таксономического состава между бактериальными сообществ ами исследуемых районов выявлены на уровне рода (рис. 4).
Рис. 4. Таксономический состав на уровне рода бактериальных сообществ исследуемых проб воды по результатам анализа фрагментов гена 16S рРНК. Нумерация образцов приведена в таблице и в подписи к рис. 2.
Следует отметить, что только 17 ОТЕ являлись общими для всех 42 образцов, которые составляли 0.43% от всего количества ОТЕ и 33.18% от общего количества чтений. Они относились к таким родам как L imnohabitans, Polynucleobacter, hgcI_clade, Sporichthyaceae _unclassified, Luteolibacter, Rhodoluna, Rhodoferax, MWH-Ta3 (Microbacteriaceae), Pseudarcicella, Candidatus _Planktoluna, Methylotenera, uncultured Oxalobacteraceae.
Доминирующую позицию во всех речных сообществах занимали бактерии родов Limnohabitans до 42.5% (Gammaproteobacteria) и Rhodoluna до 15.8%. В сообществах рек Джида (15.2%), Чикой (12.2%), Уда (18.1%) и в устье протоки S (23%) в заметных количествах выявлены представители Pseudarcicella (Bacteroidota), которые используют различные вещества, обнаруженные в экссудатах водорослей (углеводы, аминокислоты, пируват), в качестве единственного источника углерода (Kämpfer et al., 2012; Shao et al., 2020).
В речных бактериальных сообществах выявлено 659 уникальных ОТЕ – это 16.51% от всего количества ОТЕ и 0.59% от общего количества чтений. Наиболее многочисленные из них принадлежали родам Comamonadaceae _unclassified, Arcobacteraceae _ge, Sulfuricurvum, Saccharimonadales _unclassified, Limnohabitans (другая ОТЕ), Rhodocyclaceae _unclassified.
Сообщества притоков различались между собой и от сообществ селенгинских вод наличием родов, вклад которых не превышал 4.5%, за исключением сообщества р. Баян-Гол. В последнем доминировали последовательности рода С39 (18%, Gammaproteobacteria), вклад которых в других сообществах был минимальным либо отсутствовал. Кроме того, в сообществе р. Баян-Гол отмечена максимальная относительная численность последовательностей Candidatus _Aquiluna (4.4%), Microbacteriaceae _unclassified (4%), Brevundimonas (3.3%), Hyphomonadaceae _unclassified (1.7%), Novosphingobium (1.5%), Comamonadaceae _unclassified (4.6%), и низкая – последовательностей Limnohabitans (7%), в сравнении с другими речными сообществами.
Анализ пространственной изменчивости не выявил существенных различий в относительной численности доминирующих родов бактериальных сообществ между различными участками реки Селенги и устьем протоки Kh, несмотря на поступление с притоками аллохтонной микрофлоры: относительная численность Limnohabitans варьировала от 19.8 до 28%, Polynucleobacter – 9.7–14.3%, Rhodoluna – 6.2–15.2%, Cyanobacteriia _unclassified – 5.6–10.1% (рис. 4).
Отчетливые изменения в составе бактериальных сообществ, сопряженные с физико-химическими условиями, отмечены в зоне смешения речных вод с озерными. Бактерии рода Limnohabitans, доминировавшие в реках, в сообществах Селенгинского мелководья составляли существенно меньшую долю (8.6–21.5%), а в пелагиали Байкала на расстоянии 10 км от устьев проток р. Селенги их вклад понижался до 2.5%. Количество последовательностей ультрамикробактерии рода Polynucleobacter (Gammaproteobacteria), составляющих значительный процент в речных сообществах, уменьшалось по мере удаления в открытый Байкал.
В сообществах Селенгинского мелководья наблюдалось возрастание относительной численности фил Actinomycetota, Cyanobacteria и Verrucomicrobiota, а также количества последовательностей бактерий родов R hodoferax (Gammaproteobacteria) и Clade _III_ge (SAR11, Alphaproteobacteria). Наиболее многочисленная ОТЕ клады SAR11 имела 100% сходство с Candidatus Fonsibacter ubiquis (KY290650), которая является типичным представителем пелагиали озера Байкал (Cabello-Yeves et al., 2020). Только в воде Селенгинского мелководья выявлены представители таких родов, как CL500-29_marine_group, Armatimonas, Lacihabitans, Cyanobacteriia _unclassified, SAR11_clade (Clade_Ia), Flavobacterium, Fluviicola, Bacteria _unclassified, env.OPS_17_ge (Sphingobacteriales), Alkanindiges. Количество ОТЕ, принадлежащих данным родам, составляло 574 – это 14.38% от всего количества ОТЕ и 2.71% от общего количества чтений.
Представители Actinomycetota в речных сообществах в значительной мере представлены бактериями рода Rhodoluna, а в сообществах мелководья – последовательностями hgcI_clade, Sporichthyaceae _unclassified и CL500-29 marine group, которые часто находят в пресноводных озерах разного трофического статуса. Аналогичная дифференциация актинобактерий выявлена в сообществах придельтовой акватории р. Селенги в зимний период (Bashenkhaeva et al., 2023; Захаренко и соавт., 2024 в печати) и в приустьевой акватории малых рек Южного Байкала в летний период (Zemskaya et al., 2022).
На тепловой карте корреляционных связей между доминирующими родами бактерий и физико-химическими параметрами (рис. S1) выявлено два кластера: один включает роды, преобладающие в сообществах Селенгинского мелководья; второй – роды, преобладающие в речных сообществах. Преобладающие в Селенгинском мелководье и открытом Байкале представители родов Clade_III_ge, Rhodoferax, CL500-29_marine_group отрицательно коррелировали с концентрациями главных ионов, биогенных элементов, значениями химического окисления органических веществ (БО и ПО) и температурой, а также положительно коррелировали с глубиной водной толщи. Доминирующие в речных образцах последовательности родов Rhodoluna, Polynucleobacter, С39 положительно взаимосвязаны с теми же физико-химическими параметрами и отрицательно – с глубиной и рН.
Предсказанные для сообществ относительные доли генов из различных функциональных “KEGG” категорий показали, что в реках и поверхностных образцах Селенгинского мелководья более распространены пути азотного и серного метаболизмов, биосинтез и метаболизм гликанов, а также метаболизм и биосинтез таких кофакторов и витаминов, как фолат и порфирин (рис. S2). Схожие пути метаболизма отмечены для сообществ четырех притоков (исключая сообщества р. Баян-Гол) и устья протоки S, где преобладали пути биосинтеза и биодеградации комплекса аминокислот; деградации бензоата; метаболизма бутаноата, глиоксилатного и дикарбоксилатного метаболизма и деградации жирных кислот. Пути предсказанного метаболизма для сообществ р. Селенги хотя и были схожи с таковыми притоков и поверхностных образцов Селенгинского мелководья, но формировали отдельную кладу.
Для бактериальных сообществ Селенгинского мелководья велика относительная доля генов путей метаболизма углеводов (цитратный цикл, метаболизм пирувата, крахмала, с ахарозы, фруктозы, маннозы и др.) и различных аминокислот. Максимальная доля генов этих путей выявлена в сообществах из глубинных слоев водной толщи на расстоянии 7 км и 10 км от проток. В этих сообществах отмечено преобладание генов, отвечающих за энергетический метаболизм (фиксация углерода у фотосинтезирующих организмов, метаболизм метана, окислительное фосфорилирование); метаболизм кофакторов и витаминов; метаболизм нуклеотидов; метаболизм лекарств и биосинтез монобактама.
ОБСУЖДЕНИЕ
Река Селенга – основной приток озера Байкал, поэтому оценка качества поступающих в нее вод и аллохтонных организмов была предметом неоднократных исследований в периоды с разной водностью (Сороковикова и соавт., 1992, 1995; Синюкович и соавт., 2010; Ковадло и соавт., 2010; Суслова и соавт., 2017; Томберг и соавт., 2020). В период летнего паводка 2021 г. на российском участке Селенги отмечены более высокие концентрации гидрокарбонат-, сульфат- и хлорид-ионов по сравнению с маловодным периодом (Синюкович и соавт, 2010; Сороковикова и соавт., 2013), что обусловлено формированием паводковой волны в засушливых районах Монголии, выходом речных вод на пойму и растворением солей, накопившихся в почве за сухой период. Подобные ситуации были отмечены и ранее, например, в августе 1993 г. (Сороковикова и соавт., 1995). На российской части реки Селенги вниз по течению выявлена тенденция постепенного уменьшения химических показателей (щелочности, минерализации, концентраций сульфат- и хлорид-ионов), что ранее отмечено и в других крупных реках (например, Дунай) (Liska et al., 2008). Воды р. Селенги отличались от большинства рек, впадающих в озеро, более высокими значениями минерализации и других химических параметров (Вотинцев и соавт., 1965). Маломинерализованные воды притоков оказывали на Селенгу локальное воздействие, разбавляя ее воды и тем самым уменьшая содержание солей в ней. Аналогичное влияние притоков на селенгинские воды было отмечено в предыдущих исследованиях (Сороковикова и соавт., 2009; Синюкович и соавт., 2010; Чебыкин и соавт., 2012; Томберг и соавт., 2020). Содержание биогенных элементов и органического вещества в речной воде в паводок было более высоким по сравнению с наблюдаемыми в межень, что обусловлено поступлением этих компонентов с бассейна. Таким образом, полученные нами данные согласуются с выводами Сороковиковой и соавторов (2013) о влиянии водности и антропогенной нагрузки на химический состав вод реки Селенги и ее притоков.
По-прежнему, мощным фильтром для селенгинских вод является дельта реки с многочисленными протоками, которые различаются по глубине, скоростям течений, водному стоку (Дельта…, 2008). Благодаря активным биохимическим процессам в дельте и разбавлению речных вод на Селенгинском мелководье, уже на расстоянии 1 км от проток вόды по химическим и микробиологическим данным в разные периоды наблюдений мало отличались от таковых в пелагиали озера Байкал (Sorokovikova et al., 2013; Томберг и соавт., 2014; Домышева и соавт., 2019; Захаренко и соавт., 2024 в печати). Наличие так называемых “барьерных зон”, защищающих пелагиаль озера Байкал от чуждых его экосистеме веществ, было подтверждено ранее в районах впадения крупных (Селенги и Верхней Ангары) и малых рек Южного Байкала (Максименко и соавт., 2008, 2012; Zemskaya et al., 2022).
Таксономический состав микробных сообществ ранее был исследован лишь в воде Селенгинского мелководья с использованием метода флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) (Максименко и соавт., 2008) и с помощью высокопроизводительного секвенирования (Bashenkhaeva et al., 2023; Захаренко и др., 2024 в печати). По нашим данным, структура бактериальных сообществ и метаболический потенциал в р. Селенге и ее притоках отличались от наблюдаемых в Селенгинском мелководье. Как и в других реках мира, в исследованных нами экотопах наиболее многочисленны бактериальные таксоны Pseudomonadota и Actinomycetota, встречающиеся во всех сообществах в разных пропорциях. Доминирование бактерий этих фил также отмечено в речном бактериопланктоне рек Миссисипи (Staley et al., 2013), Енисей (Kolmakova et al., 2014), Темза (Read et al., 2015), Дунай (Savio et al., 2015), Сена (Bagagnan et al., 2024) и малых реках Южного Байкала (Zemskaya et al., 2022). Представители данных таксонов часто доминировали в озерах (Newton et al., 2011), в том числе в пелагиали оз. Байкал (Zakharenko et al., 2019). Одним из факторов распределения клад и триб Actinomycetota является pH (Newton et al., 2011), что согласуется и с нашими данными. Относительная численность доминирующих родов и клад актинобактерий коррелировала с глубиной, температурой, БО и ПО, что свидетельствует о широком спектре факторов, влияющих на развитие этого таксона в исследуемых районах.
Различие между речными и озерными сообществами достоверно сопряжено с глубиной водной толщи. В Селенгинском мелководье преобладали представители родов Clade_III_ge, Rhodoferax, CL500-29_marine_group, положительно коррелирующие с этим параметром, тогда как в речных сообществах доминировали последовательности родов Rhodoluna, Polynucleobacter и С39, отрицательно связанные с глубиной и рН. Представители этих родов являются участниками различных метаболических процессов. Например, бактерии родов Rhodoluna и Pseudarcicella способны ассимилировать аммоний и другие биогенные элементы (Hahn, 2016; Horsley, 1979), представители CL500-29_marine_group – различные органические вещества (Gómez-Consarnau et al., 2012), а бактерии рода Rhodoferax – участвовать в круговороте углерода, денитрификации, окислении серы и широкого спектра органических доноров электронов (Finneran et al., 2003; Jin et al., 2020). Широкие метаболические возможности таксонов могут объяснить сходство предсказанного метаболического потенциала сообществ, несмотря на различие таксономического состава и доминирующих родов бактерий.
Структура бактериальных сообществ притоков и р. Селенги не была идентичной, что ранее отмечено и при исследовании сообществ притоков рек Желтой и Миссисипи (Zhao et al., 2020; Payne et al., 2017). На разных участках р. Селенги таксономический состав бактериальных сообществ мало различался, что наблюдалось и в р. Сена (Bagagnan et al., 2024). Сравнительный анализ разнообразия сообществ притоков не выявил их существенного влияния на микробиом Селенги. Это может быть обусловлено существованием на всем протяжении реки Селенги устойчивого “основного бактериального сообщества”, существование которого в реках было предложено Staley et al. (2013). К основным представителям такого сообщества в р. Селенге могут быть отнесены бактерии родов Limnohabitans, Pseudarcicella, Rhodoluna и Polynucleobacter, которые доминировали и в малых реках Южного Байкала (Zemskaya et al., 2019, 2022) и которые обладают широким метаболическим потенциалом. Polynucleobacter – космополитный род бактерий, рост которого в основном зависит от органических кислот, высвобождаемых в результате фотохимического расщепления сложного растворенного органического вещества (Watanabe et al., 2009; Jezberová et al., 2010). По данным Balmonte et al., 2016, экофизиологическая гибкость представителей Limnohabitans позволяет им выживать в мутных, насыщенных органическим углеродом и гипоксических паводковых водах. Кроме того, бактерии Limnohabitans и Pseudarcicella могут быть потенциальными индикаторами восстановления речных экосистем (Yang et al., 2019).
В бактериальных сообществах Селенгинского мелководья в летний и в зимний периоды доминирующими таксонами являлись представители Pseudomonadota, Actinomycetota, Cyanobacteria (Захаренко и соавт., 2024 в печати). Представители этих филумов хотя и были сходными на уровне рода, но различались вкладом в разных сообществах. Например, вклад представителей Gammaproteobacteria в бактериальные сообщества в зимний и летний периоды варьировал от 13.3 до 49% и от 8.2 до 25% соответственно, а представителей Campylobacterota, представленных в основном сероокисляющими родами Sulfuricurvum и Sulfurospirillum, не превышал 12.8 и 0.3% соответственно. Изменчивость в структуре сообществ, скорее всего, является следствием влияния комплекса гидрологических и физико-химических факторов, достоверно взаимосвязанных (pvalue < 0.05) с относительной численностью разных таксонов.
Как следует из наших данных, доминирующие в речных сообществах роды бактерий отсутствовали или вносили небольшой вклад в сообщества мелководья, что свидетельствует о незначительном влиянии бактериального сообщества реки Селенги на озерные. О похожей закономерности в районах впадения рек в озера сообщалось ранее (Cavaco et al., 2019; Mohiuddin et al., 2019; Nakatsu, et al., 2019; Xie et al., 2021). Как и в других экосистемах (лотических, озерных), основными факторами, влияющими на структуру и разнообразие бактериальных сообществ в исследуемых нами реках и Селенгинском мелководье, являлись температура, pH, содержание биогенных элементов, органического вещества и глубина водной толщи. Также очевидно, что микроорганизмы, поступающие с водами реки Селенги, оказывают локальное влияние на микробиом озера Байкал.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Микробиологические исследования выполнены в рамках государственного задания ЛИН СО РАН 0279-2022-0004. В рамках государственного задания ЛИН СО РАН 0279-2021-0005 выполнены гидрохимические исследования.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит результатов исследований, в которых в качестве объектов использовались люди или животные.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
1 Дополнительные материалы размещены в электронном виде по DOI статьи: https://doi.org/ 10.31857/S0026365624060146
Об авторах
А. С. Захаренко
Лимнологический институт СО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: zakharenko@lin.irk.ru
Россия, Иркутск, 664033
И. В. Томберг
Лимнологический институт СО РАН
Email: zakharenko@lin.irk.ru
Россия, Иркутск, 664033
С. В. Букин
Лимнологический институт СО РАН
Email: zakharenko@lin.irk.ru
Россия, Иркутск, 664033
В. В. Блинов
Лимнологический институт СО РАН
Email: zakharenko@lin.irk.ru
Россия, Иркутск, 664033
Т. И. Земская
Лимнологический институт СО РАН
Email: zakharenko@lin.irk.ru
Россия, Иркутск, 664033
Список литературы
- Атлас Байкала. Под ред. Галазия Г. И. М: Роскартография, 1993. 160 с.
- Барам Г. И., Верещагин А. Л., Голобокова Л. П. Применение микроколоночной высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-детектированием для определения анионов в объектах окружающей среды // Журнал аналитической химии. 1999. Т. 54. С. 962–965.
- Блинов В. В., Гранин Н. Г., Гнатовский Р. Ю., Жданов А. А., Римкус С. Определение водных масс в озере Байкал методом T,S-анализа // География и природ. ресурсы. 2006. № 2. С. 63–69.
- Вотинцев К. К., Глазунов И. В., Толмачева А. П. Гидрохимия рек бассейна озера Байкал. М.: Наука, 1965. 492 с.
- Гармаев Е. Ж., Христофоров А. В. Водные ресурсы рек бассейна озера Байкал: основы их использования и охраны. Новосибирск: Академическое изд-во “Гео”, 2010. 231 с.
- Государственный доклад “О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2017 году”. Иркутск: АНО “КЦ Эксперт”, 2018. 340 с.
- Дельта реки Селенги – естественный биофильтр и индикатор состояния озера Байкал. Под ред. Тулохонова А. К., Плюснина А. М. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. 314 с.
- Домышева В. М., Сороковикова Л. М., Синюкович В. Н., Онищук Н. А., Сакирко М. В., Томберг И. В., Жученко Н. А., Голобокова Л. П., Ходжер Т. В. Ионный состав воды озера Байкал, его притоков и истока реки Ангара в современный период // Метеорология и гидрология. 2019. № 10. С. 77–86.
- Domysheva V. M., Sorokovikova L. M., Sinyukovich V. N., Onishchuk N. A., Sakirko M. V., Tomberg I. V., Zhuchenko N. A., Golobokova L. P., Khodzher T. V. Ionic composition of water in Lake Baikal, its tributaries, and the Angara River source during the modern period // Russ. Meteorol. Hydrol. 2019. V . 44. P. 687–694.
- Захаренко А. С., Томберг И. В., Суслова М. Ю., Букин С. В., Блинов В. В., Земская Т. И. Структура бактериальных сообществ в зоне впадения реки Селенги в озеро Байкал // Водные ресурсы. 2024. В печати.
- Зомонова Э. М., Гомбоев Б. О., Зандакова А. Б. Моделирование переноса загрязняющих веществ по реке Селенге на территории Монголии и России // Водное хозяйство России. 2014. № 6. C4–21.
- Иванов В. В., Каратаев В. Н., Лабутина И. А. Морфология и динамика дельты р. Селенги // Вест. Моск. ун-та. Сер. 5: География. 2007. № 4. С. 48–54.
- Иванова О. И. Анализ составляющи х водного баланса речных бассейнов в период формирования дождевых паводков рек Селенга и Онон // Общество. Среда. Развитие. 2021. № 1. С. 127–139.
- Ковадло А. С., Дрюккер В. В. Изучение бактериопланктона реки Селенги и оценка качества вод по микробиологическим показателям // Известия ИГУ. Серия “Науки о земле”. 2010. Т. 3. № 2. С. 80–87.
- Максименко С. Ю., Земская Т. И., Павлова О. Н., Иванов В. Г., Бурюхаев С. П. Микробное сообщество водной толщи на биогеохимическом барьере “река Селенга‒озеро Байкал” // Микробиология. 2008. Т. 77. С. 660–667.
- Maksimenko S.Yu., Zemskaya T. I., Pavlova O. N., Ivanov V. G., Buryukhaev S. P. Microbial community of the water column of the Selenga River-Lake Baikal biogeochemical barrier // Microbiology (Moscow). 2008. V. 77. P. 587–594.
- Максименко С. Ю., Иванов В. Г., Бурюхаев С. П., Шимараев М. Н., Земская Т. И. Структура микробных сообществ в зоне впадения р. Верхняя Ангара в оз. Байкал // Гидробиол. журнал. 2012. Т. 48. № 2. С. 55–68.
- Maksimenko S.Yu., Ivanov V. G., Buryukhayev S. P., Shimarayev M. N., Zemskaya T. I. Structure of microbial communities in the zone of emptying the upper Angara River into Lake Baikal // Hydrobiol. J . 2012. V. 48. № 4. P. 53–65.
- Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. Боевой Л. В. Ростов-на-Дону: НОК, 2009. 1045 с.
- Синюкович В. М., Сороковикова Л. М., Томберг И. В., Тулохонов А. К. Изменение климата и химический сток реки Селенги // ДАН (Науки о земле). 2010. Т. 433. С. 817–821.
- Сороковикова Л. М., Авдеев В. В. Первичная продукция и деструкция органического вещества р. Селенги // Водные ресурсы. 1992. № 5. С. 163–165.
- Сороковикова Л. М., Поповская Г. И., Томберг И. В., Синюкович В. Н., Кравченко О. С., Маринайте И. И., Башенхаева Н. В. , Ходжер Т. В. Качество воды р. Селенга на границе с Монголией в начале XXI в // Метеорология и гидрология. 2013. № 2. С. 93–103.
- Sorokovikova L. M., Popovskaya G. I., Tomberg I. V., Sinyukovich V. N., Kravchenko O. S., Marinaite I. I., Bashenkhaeva N. V., Khodzher T. V. The Selenga River water quality on the border with Mongolia at the beginning of the 21st century // Russ. Meteorol. Hydrol. 2013. V . 38. P. 126–133.
- Сороковикова Л. М., Синюкович В. Н., Дрюккер В. В., Потемкина Т. Г., Нецветаева О. Г., Афанасьев В. А. Экологические особенности р. Селенги в условиях наводнения // География и природ. ресурсы. 1995. № 4. С. 64–71.
- Сороковикова Л. М., Синюкович В. Н., Нецветаева О. Г. , Томберг И. В., Сезько Н. П. Поступление сульфатов и азота в озеро Байкал с водами его притоков // География и природ. ресурсы. 2009. № 1. С. 61–65.
- Суслова М. Ю., Пестунова О. С., Парфенова В. В. Оценка качества вод.р. Селенги и ее дельты по санитарно-микробиологическим показателям // Гидробиол. журнал. 2017. Т. 53. № 1. С. 74–84.
- Suslova M.Yu., Pestunova O. S., Parfenova V. V. Water quality assessment in the Selenga River and its delta in terms of sanitary and microbiological indices // Hydrobiol. J. 2017. V. 53. № 3. P . 70–81.
- Томберг И. В., Синюкович В. Н., Сороковикова Л. М., Раднаева Л. Д., Павлов И. А., Ширеторова В. Г., Чернышов М. С., Тулохонов А. К. Особенности химического состава вод реки Селенги в период зимней межени 2017–2018 года // География и природ. ресурсы. 2020. Т. 41. № 3. С. 81–88.
- Томберг И. В., Сороковикова Л. М., Поповская Г. И. , Башенхаева Н. В., Синюкович В. Н., Иванов В. Г. Динамика концентраций биогенных элементов и фитопланктона в устье р. Селенги и на Селенгинском мелководье (оз. Байкал) // Водные ресурсы. 2014. Т. 41. С. 596–605.
- Tomberg I. V., Sorokovikova L. M., Popovskaya G. I., Bashenkhaeva N. V., Sinyukovich V. N., Ivanov V. G. Concentration dynamics of biogenic elements and phytoplankton at Selenga R. Mouth and in Selenga Shallows (Lake Baikal) // Water Resources. 2014. V. 41. P . 687–696.
- Томберг И. В., Сороковикова Л. М., Синюкович В. Н., Погодаева Т. В. Сток ионов в дельте р. Селенги в условиях малой водности // Метеорология и гидрология. 2006. № 12. С. 87–95.
- Чебыкин Е. П., Сороковикова Л. М., Томберг И. В., Воднева Е. Н., Рассказов С. В., Ходжер Т. В., Грачев М. А. Современное состояние вод р. Селенги на территории России по главным компонентам и следовым элементам // Химия в интересах устойчивого развития. 2012. Т. 20. С. 613–631.
- Chebykin E. P., Sorokovikova L. M., Tomberg I. V., Rasskazov S. V., Khodzher T. V., Grachev M. A. Current state of the Selenga River waters in the russian territory concerning major components and trace elements // Chem. Sustain. Develop. 2012. V. 20. P. 561–580.
- Bagagnan S., Guérin-Rechdaoui S., Rocher V., Alphonse V., Moilleron R., Jusselme M. D. Spatial and temporal characteristics of microbial communities in the Seine River in the greater Paris area under anthropogenic perturbation // Heliyon. 2024. V. 10. I. 9. Art. e30614.
- Balmonte J. P., Arnosti C., Underwood S., McKee B.A., Teske A . Riverine bacterial communities reveal environmental disturbance signatures within the Betaproteobacteria and Verrucomicrobia // Front. Microbiol. 2016. V. 7. Art. 1441.
- Bashenkhaeva M., Yeletskaya Y., Tomberg I., Marchenkov A., Titova L., Galachyants Y. Free-living and particle-associated microbial communities of Lake Baikal differ by season and nutrient intake // Diversity. 2023. V. 15. Art. 572.
- Cabello-Yeves P.J., Zemskaya T. I., Zakharenko A. S., Sakirko M. V., Ivanov V. G., Ghai R., Rodriguez-Valera F. Microbiome of the deep Lake Baikal, a unique oxic bathypelagic habitat // Limnol. Oceanogr. 2020. V. 65. P. 1471–1488.
- Cavaco M. A., St Louis V. L., Engel K., St Pierre K. A., Schiff S. L., Stibal M., Neufeld J. D. Freshwater microbial community diversity in a rapidly changing High Arctic watershed // FEMS Microbiol. Ecol. 2019. V. 95. Art. fiz161.
- Chong J., Liu P., Zhou G., Xia J. Using MicrobiomeAnalyst for comprehensive statistical, functional, and meta-analysis of microbiome data // Nat. Protoc. 2020. V. 15. P. 799–821.
- Crump B. C., Hopkinson C. S., Sogin M. L., Hobbie J. E. Microbial biogeography along an estuarine salinity gradient: combined influences of bacterial growth and residence time // Appl. Environ. Microbiol. 2004. V. 70. P. 1494–1505.
- Doherty M., Yager P. L., Moran M. A., Coles V. J., Fortunato C. S., Krusche A. V., Medeiros P. M., Payet J. P., Richey J. E., Satinsky B. M., Sawakuchi H. O. , Ward N. D., Crump B. C. Bacterial biogeography across the amazon river-ocean continuum // Front. Microbiol. 2017. V. 8. Art. 882.
- Douglas G. M., Maffei V. J., Zaneveld J. R., Yurgel S. N., Brown J. R., Taylor C. M., Huttenhower C., Morgan G. I. Lan-gillePICRUSt2 for prediction of metagenome functions // Nat. Biotechnol. 2020. V. 38. P. 685–688.
- Finneran K. T., Johnsen C. V., Lovley D. R. Rhodoferax ferrireducens sp. nov., a psychrotolerant, facultatively anaerobic bacterium that oxidizes acetate with the reduction of Fe(III) // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2003. V. 53. P. 669–673.
- Fortunato C., Herfort L., Zuber P., Baptista A. M., Crump B. C. Spatial variability overwhelms seasonal patterns in bacterioplankton communities across a river to ocean gradient // ISME J. 2012. V. 6. P. 554–563.
- Gómez-Consarnau L., Lindh M. V., Gasol J. M., Pinhassi J. Structuring of bacterioplankton communities by specific dissolved organic carbon compounds // Environ. Microbiol. 2012. V. 14. P. 2361–2378.
- Hahn M. W. Rhodoluna / / Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and Bacteria. New York: John Wiley & Sons, 2016. P. 1–9.
- Hooper D. U., Chapin F. S., Ewel J., Hector A., Inchausti P., Lavorel S., Lawton J. H., Lodge D., Loreau M., Naeem S., Schmid B., Setälä H., Symstad A. J., Vandermeer J., Wardle D. A. Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a consensus of current knowledge // Ecol. Monogr. 2005. V. 75. P 3–35.
- Horsley R. W. The Heterotrophic, Nitrate-Reducing Bacterial Flora of Grasmere, English Lake District // J. Appl. Bacteriol. 1979. V. 46. P. 507–520.
- Jezberová J., Jezbera J., Brandt U., Lindström E. S., Langenheder S., Hahn M. W. Ubiquity of Polynucleobacter necessarius ssp. asymbioticus in lentic freshwater habitats of a heterogenous 2000 km 2 area // Environ. Microbiol. 2010. V. 12. P. 658–669.
- Jin C.-Z., Zhuo Y., Wu X., Ko S.-R., Li T., Jin F.-J., Ahn C.-Y., Oh H.-M., Lee H.-G., Jin L. Genomic and metabolic insights into denitrification, sulfur oxidation, and multidrug efflux pump mechanisms in the bacterium Rhodoferax sediminis sp. nov. // Microorganisms. 2020. V. 8. Art. 262.
- Kämpfer P., Busse H. J., Longaric I., Rosselló-Móra R., Galatis H., Lodders N. Pseudarcicella hirudinis gen. nov., sp. nov., isolated from the skin of the medical leech hirudo medicinalis // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2012. V. 62. P. 2247–2251.
- Kanehisa M., Goto S. KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes // Nucleic Acids Res. 2000. V. 28. P. 27–30.
- Kolmakova O. V., Gladyshev M. I., Rozanov A. S., Peltek S. E., Trusova M. Y. Spatial biodiversity of bacteria along the largest Arctic River determined by next-generation sequencing // FEMS Microbiol. Ecol. 2014. V. 89. P. 442–450.
- Kozich J. J., Westcott S. L., Baxter N. T., Highlander S. K., Schloss P. D. Development of a dual-index sequencing strategy and curation pipeline for analyzing amplicon sequence data on the MiSeq Illumina sequencing platform // Appl. Environ. Microbiol. 2013. V. 79. P. 5112–5120.
- Liška I., Wagner F., Slobodnik J. Joint Danube Survey 2. Final Scientific Report. International Commission for the Protection of the Danube River, Vienna. 2008. 242 p.
- Mai Y.-Z., Lai Z.-N., Li X.-H., Peng S.-Y., Wang C. Structural and functional shifts of bacterioplanktonic communities associated with spatiotemporal gradients in river outlets of the subtropical Pearl River Estuary, South China // Mar. Pollut. Bull. 2018. V. 136. P. 309–321.
- Mohiuddin M. M., Botts S. R., Paschos A., Schellhorn H. E. Temporal and spatial changes in bacterial diversity in mixed use watersheds of the Great Lakes region // J. Great Lakes Res. 2019. V. 45. P. 109–118.
- Nakatsu C. H., Byappanahalli M. N., Nevers M. B. Bacterial community 16S rRNA gene sequencing characterizes riverine microbial impact on Lake Michigan // Front. Microbiol. 2019. V. 10. Art. 996.
- Newton R. J., Jones S. E., Eiler A., McMahon K.D., Bertilsson S. A guide to the natural history of freshwater lake bacteria // Microbiol. Mol. Boil. Rev. 2011. V. 75. P. 14–49.
- O’Brien L., Siboni N., Seymour J. R., Balzer M., Mitrovic S. Tributary inflows to a regulated river influence bacterial communities and increase bacterial carbon assimilation // Microb. Ecol. 2023. V. 86. P. 2642–2654.
- Payne J. T., Millar J. J., Jackson C. R., Ochs C. A. Patterns of variation in diversity of the Mississippi river microbiome over 1,300 kilometers // PLoS One. 2017. V. 12. Art. e0174890.
- R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2022. http://www.r-project.org/index.html
- Read D. S., Gweon H. S., Bowes M. J., Newbold L. K., Field D., Bailey M. J., Griffiths R. I. Catchment‐scale biogeography of riverine bacterioplankton // ISME J. 2015. V. 9. P. 516–526.
- RStudio Team. RStudio: Integrated Development for R. RStudio, PBC, Boston, MA. 2022. http://www.rstudio.com/
- Ruiz-González C., Niño-García J.P., Giorgio P. A. Terrestrial origin of bacterial communities in complex boreal freshwater networks // Ecol. Lett. 2015. V. 18. P. 1198–1206.
- Sahm K., John P., Nacke H., Wemheuer B., Grote R., Daniel R., Antranikian G. High abundance of heterotrophic prokaryotes in hydrothermal springs of the Azores as revealed by a network of 16S rRNA gene-based methods // Extremophiles. 2013. V. 17. P. 649–662.
- Sambrook J., Fritsch E. F., Maniatis T. Molecular cloning: a laboratory manual, 2 nd edn. New York: Cold Spring Harbor, 1989. 1546 p.
- Savio D., Sinclair L., Ijaz U. Z., Parajka J., Reischer G. H., Stadler P., Blaschke A. P., Blöschl G., Mach R. L., Kirschner A. K.T., Farnleitner A. H., Eiler A. River bacterioplankton diversity. Bacterial diversity along a 2600 km river continuum // Environ. Microbiol. 2015. V. 17. P. 4994–5007.
- Sinsabaugh R. L., Findlay S. E.G. Dissolved organic matter: out of the black box into the mainstream // Aquatic ecosystems: inter activity of dissolved organic matter / Eds. Findlay S. E.G., Sinsabaugh R. L. Elsevier, San Diego, CA, 2003. P. 479–498.
- Shao Q., Lin Z., Zhou C., Zhu P., Yan X. Succession of bacterioplankton communities over complete Gymnodinium -diatom bloom cycles // Sci. Total. Environ. 2020. V. 709. Art. 135951.
- Smith V. H. Microbial diversity – productivity relationships in aquatic ecosystems // FEMS Microbiol. Ecol. 2007. V. 62. P. 181–186.
- Sorokovikova L. M., Popovskaya G. I., Belykh O. I., Tomberg I. V., Maksimenko S.Yu., Bashenkhaeva N. V., Ivanov V. G., Zemskaya T. I. Plankton composition and water chemistry in the mixing zone of the Selenga River with Lake Baikal // Hydrobiologia. 2012. V. 695. P. 329–341.
- Staley C., Unno T., Gould T., Jarvis B., Phillips J., Cotner J., Sadowsky M. Application of Illumina next-generation sequencing to characterize the bacterial community of the Upper Mississippi River // J. Appl. Microbiol. 2013. V. 115. P. 1147–1158.
- Watanabe K., Komatsu N., Ishii Y., Negishi M. Effective isolation of bacterioplankton genus Polynucleobacter from freshwater environments grown on photochemically degraded dissolved organic matter // FEMS Microbiol. Ecol. 2009. V. 67. P. 57–68.
- Wetzel R. G., Likens G. E. Limnological analyses. New York: Springer-Verlag, 2000. 429 p.
- Xie G., Tang X., Shao K., Zhu G., Gao G. Bacterial diversity, community composition and metabolic function in Lake Tianmuhu and its dammed river: effects of domestic wastewater and damming // Ecotoxicol. Environ. Saf. 2021. V. 213. Art. 112069.
- Yang Y., Li S., Gao Y., Chen Y., Zhan A. Environment-driven geographical distribution of bacterial communities and identification of indicator taxa in Songhua River // Ecol. Indic. 2019. V. 101. P. 62–70.
- Zakharenko A. S., Galachyants Y. P., Morozov I. V., Shubenkova O. V., Morozov A. A., Ivanov V. G., Pimenov N. V., Krasnopeev A. Y., Zemskaya T. I. Bacterial communities in areas of oil and methane seeps in pelagic of Lake Baikal // Microb. Ecol. 2019. V. 78. P. 269–285.
- Zeglin L. H. Stream microbial diversity in response to environmental changes: review and synthesis of existing research // Front. Microbiol. 2015. V. 6. Art. 454.
- Zemskaya T. I., Bukin S. V., Bukin Y. S., Chernitsina S. M., Pogodaeva T. V., Rusanov I. I., Shubenkova O. V., Zakharenko A. S. , Pimenov N. V. Taxonomic diversity and metabolic activity of microbial communities in rivers and estuarine waters of Southern Baikal in summer // J. Great Lakes Res. 2022. V. 48. P. 125–142.
- Zemskaya T. I., Bukin S. V., Zakharenko A. S., Chernitsyna C. M., Shubenkova O. V. Microbial communities in the estuarine water areas of the rivers in the southeastern part of Lake Baikal // Limnol. Freshwat. Biol. 2019. V. 4. P. 259–265.
- Zhao M. M., Wang S.-m., Chen Y.-p., Wu J.-h., Xue L.-g., Fan T. T. Pollution status of the Yellow River tributaries in middle and lower reaches // Sci. Total Environ. 2020. V. 722. Art. 137861.
Дополнительные файлы