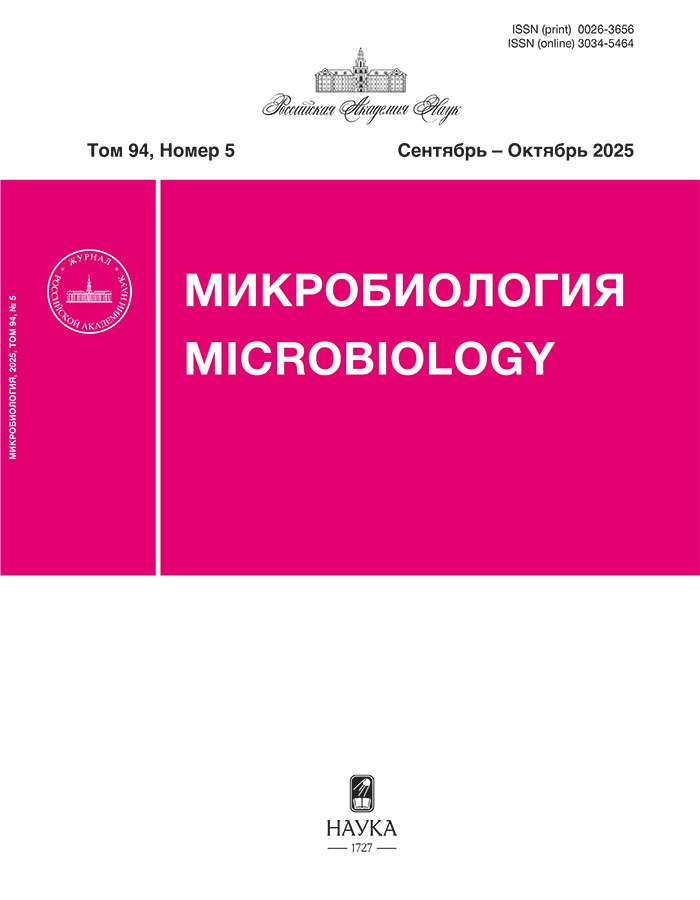Роль ионов меди в повышении грибостойкости современных полимерных композиционных материалов
- Авторы: Яковлева Г.Ю.1, Кацюруба Е.А.1, Фуфыгина Е.С.1, Данилаев М.П.2, Ильинская О.Н.1
-
Учреждения:
- Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Казанский национальный исследовательский Технический университет им. Туполева-КАИ
- Выпуск: Том 93, № 2 (2024)
- Страницы: 234-238
- Раздел: КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0026-3656/article/view/262577
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0026365624020254
- ID: 262577
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Устойчивость полимерных композиционных материалов к биоповреждениям является на сегодня одной из актуальных задач. Включение оксида меди в полимерный композит на основе эпоксидной смолы ЭД-20 улучшает его биоцидные свойства. Установлено, что в условиях минерального и органического загрязнения площадь поражения образцов полимерных композитов микромицетами уменьшалась с увеличением концентрации дисперсных частиц Сu2О в композите. Площадь поражения образцов, наполненных капсулированными полилактидом частицами, была в 1.5 раза меньше, чем у композитов, наполненных некапсулированными частицами. Сu2О оказывал токсическое действие на доминирующий штамм Aspergillus niger, снижая среднюю радиальную скорость роста на агаризованной среде Чапека‒Докса и концентрацию биомассы при росте микромицета в жидкой среде по сравнению с вариантом без Сu2О.
Ключевые слова
Полный текст
Использование изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) в экстремальных условиях повышенной температуры, влажности, наличия солей в атмосфере резко снижает эксплуатационные характеристики композитов (Omazic et al., 2019; Wu et al., 2020). Микроорганизмы-деструкторы вносят значительный вклад в этот процесс за счет разрастания по поверхности материала (механический путь), а также выделения агрессивных метаболитов (диссимиляционный путь) (Gu, 2007; Sanchez-Silva, Rosowsky, 2008). Продуцируемые микроорганизмами органические кислоты могут приводить к изменению структурных и функциональных характеристик материалов (Stroganov et al., 2009; Wei et al., 2018; Yakovleva et al., 2018).
Несмотря на то, что биокоррозия полимерных материалов достаточно хорошо изучена, проблема обеспечения биоцидного эффекта и одновременного повышения прочностных характеристик ПКМ, в частности, эпоксидных и полиэфирных смол, остается открытой. Одним из способов повышения стойкости полимерных композитов является использование токсичных для микроорганизмов дисперсных, в том числе субмикронных частиц наполнителя (например, частиц серебра, нитрата серебра, оксида меди, хромата ртути и др.) (Teper et al., 2020; Kausar, 2020). Обеспечить адгезию дисперсных частиц к матричному полимеру помогает формирование на их поверхности промежуточной оболочки из биодеградируемых полимеров, что приводит к повышению механических характеристик ПКМ за счет выбора материала и толщины оболочки (Çetkin et al., 2023; Ergün et al., 2022). Снижение подвижности макромолекул матричного полимера повышает модуль упругости, твердость и предел прочности ПКМ (Bogomolova et al., 2017; Akhmadeev et al., 2020). Полилактид, как капсулирующий частицы материал, может не только улучшить механические характеристики ПКМ (Данилаев и соавт., 2023), но и служить источником питания для микроорганизмов. Синтезируемые микроорганизмами ферменты и органические кислоты в результате взаимодействия с материалом оболочки способствуют высвобождению дисперсных частиц оксида меди (I) с образованием токсичных ионов меди (Kadammattil et al., 2018; Naz et al., 2023). Этот процесс происходит локально в местах поражения ПКМ микроорганизмами и приводит к гибели последних.
Целью настоящей работы является сравнительная оценка действия некапсулированных и капсулированных полилактидом частиц оксида меди на грибостойкость полимерных композитных материалов.
В работе использовали образцы полимерного материала (эпоксидный полимер ЭД-20) цилиндрической формы диаметром 9 ± 1 мм и высотой 50 ± 2 мм. В эпоксидный полимер вводили частицы Cu2O с концентрацией 0.05 ± 0.01, 0.16 ± 0.02, 0.33 ± 0.03, 0.50 ± 0.05, 0.67 ± 0.07, 0.83 ± 0.09 и 1.10 ± 0.10% от массы матричного полимера, как в некапсулированной, так и капсулированной полилактидом формах. В качестве контроля использовали эпоксидный полимер, не содержащий частиц Cu2O. Образцы выдерживали в течение 6 мес. на микологических стендах на станциях Хоа Лак и Дам Бау (база Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центров). Оценку грибостойкости образцов проводили в условиях, имитирующих минеральное и органическое загрязнение. Для этого полученные образцы опрыскивали стерильной средой Чапека–Докса следующего состава (г/л): NaNO3–2.0; KH2PO4 — 1.0; MgSO4 · 7H2O — 0.5; KCl — 0.5; FeSO4–0.01; сахароза — 30.0; агар-агар — 20.0. Испытание проводили в стерильных контейнерах при температуре 30C и относительной влажности воздуха более 90%. Продолжительность испытаний составляла 28 сут с промежуточным регулярным осмотром. Для притока воздуха каждые 7 сут крышку камеры приоткрывали на 3–5 мин. Площадь поражения образцов микромицетами рассчитывали по фотографиям с использованием программы ImageJ версия 1.53 и выражали в процентах от общей площади поверхности образца.
Оценку действия различных концентраций Сu2О на рост A. niger, выделенного с образцов полимерных композицитов, проводили как в жидкой, так и в агаризованной среде Чапека–Докса. Оксид меди в некапсулированной и капсулированной полилактидом форме вносили в среды в конечной концентрации 2.0, 5.5 и 9.0 г/л, что соответствовало массовой концентрации 0.16, 0.55 и 0.83% Сu2О в образцах полимерных композитов. В качестве контроля использовали среду, не содержащую оксид меди. Для оценки роста микромицета на плотную питательную среду в центр чашки Петри вносили по 0.01 мл водной суспензии спор A. niger (титр 105–106 спор/мл). Инкубирование проводили при температуре 30C в течение 14 сут. О росте микромицетов судили по увеличению диаметра колонии, измеренном в восьми взаимно перпендикулярных направлениях. Радиальную скорость роста рассчитывали по формуле: kr = (rn+1 — rn) / (tn+1 — tn), где kr — радиальная скорость роста, мм/ч; rt — радиус колоний в момент времени tn; rt+1 — радиус колоний в момент времени tn+1. Среднюю радиальную скорость роста (Kr) рассчитывали как среднее значение величин радиальной скорости роста за все время культивирования. Для оценки роста в жидкой среде A. niger в 20 мл среды вносили 0.2 мл водной суспензии спор микромицета (титр 105–106 спор/мл) и культивировали 7 сут при 30C с принудительной аэрацией на шейкере-инкубаторе BS-3011 при 200 об./мин. Концентрацию биомассы определяли по сырому весу. Математическую обработку данных проводили в стандартной компьютерной программе Excel 7.0.
При оценке влияния Cu2O на грибостойкость образцов полимерных композитов уже на 3 сут инкубирования отмечали наличие мицелия и конидиеносцев как на поверхности контрольного (без частиц Cu2O) образца, так и на образцах с концентрацией Cu2O 0.05 и 0.16%. Площадь обрастания образцов с капсулированными частицами была визуально меньше. По культуральным и морфологическим признакам, выросшие на поверхности образцов микромицеты были отнесены к A. niger. На образцах с концентрацией Cu2O 0.05‒0.33% на 7 сут инкубирования, вне зависимости от вариантов внесения частиц, наряду с A. niger был отмечен рост других микромицетов родов Aspergillus и Penicillium. Однако при дальнейшем инкубировании рост последних был полностью подавлен A. niger, что, вероятно, связано с его меньшей чувствительностью к Cu2O (рис. 1а). На 28 сут инкубирования фиксировали обрастание всех исследуемых образцов. При этом площадь обрастания образцов с концентрацией Cu2O 0.05% как капсулированными полилактидом, так и некапсулированными, достоверно не отличалась от контрольного образца (рис. 1б).
Рис. 1. Влияние некапсулированных и капсулированных частиц Cu2O на рост микромицетов на поверхности образцов полимерных композитов: а — A. niger, выделенный с поверхности композита с некапсулированными частицами в концентрации 1.10% (1 — рост на поверхности композита; 2 — рост на поверхности агаризованной среды Чапека–Докса; 3 — микроскопия, × 64); б — площадь обрастания поверхности на 28 сут инкубирования.
Внесение оксида меди в концентрации 0.16 и 0.33% привело к уменьшению площади обрастания в 1.4 раза для не заключенного в капсулу Cu2O и в 1.6 раза для капсулированного Cu2O по сравнению с контрольным вариантом. При концентрации Cu2O 1.10% площадь обрастания образцов с некапсулированным Cu2O была в 2.8 раза, а с капсулированном Cu2O ‒ в 4.7 раза меньше контроля. Таким образом, площадь поражения образцов микромицетами уменьшалась с увеличением концентрации дисперсных частиц. При этом для образцов, наполненных капсулированными частицами, такое уменьшение было более значительным.
Внесение оксида меди не привело к изменению морфологии колоний и не повлияло на процесс спороношения A. niger, а лишь замедлило рост микромицета на поверхности питательной среды. Добавление Cu2O в концентрации 2.0 и 5.5 г/л вне зависимости от формы привело к заметному снижению средней радиальной скорости роста A. niger, выделенного с образцов полимерных композицитов. Так при концентрации Сu2О 2.0 г/л скорость роста снизилась в среднем в 2.6 ± 0.1 раза, при концентрации 5.5 г/л — в 2.9 ± 0.1 раза по сравнению с вариантом без Сu2О (рис. 2а).
Рис. 2. Токсическое действие некапсулированных (1) и капсулированных (2) частиц Cu2O в отношении A. niger: а — средняя радиальная скорость роста на агаризованной среде Чапека–Докса; б — рост A. niger на агаризованной среде Чапека–Докса с различными концентрациями Cu2O; в-величина биомассы при росте микромицета в жидкой среде Чапека–Докса; г — рост A. niger в жидкой среде Чапека–Докса с различными концентрациями Cu2O.
Оксид в некапсулированной форме в концентрации 9.0 г/л привел к снижению средней скорости роста в 8.5 ± 0.1 раза, в капсулированной — в 4.8 ± 0.3 раза. При росте колоний A. niger на среде с добавлением Cu2O отмечали изменение цвета среды с красноватого на бледно-голубой (рис. 2б), что, вероятно, связано с синтезом органических кислот в процессе роста A. niger (Yakovleva et al., 2018), под действием которых оксид меди переходит в гидроксид.
Внесение Сu2О в жидкую среду Чапека‒Докса в концентрации 2.0, 5.5 и 9.0 г/л в некапсулированной полилактидом форме привело к уменьшению выхода биомассы A. niger в 10, 23 и 25 раз, в капсулированной форме — в 27, 31 и 37 раз, соответственно, по сравнению с контрольным вариантом (рис. 2в). Следует отметить, что при отсутствии оксида меди уже на 5 сут культивирования в среде начинали образовываться стромы, характерные для роста A. niger в жидкой среде, и небольшое количество конидиеносцев (рис. 2г). В средах даже с низкими концентрациями Сu2О ни стромы, ни конидиеносцы не были зафиксированы на протяжении 7 сут культивирования, хотя при концентрации оксида меди 2.0 г/л, особенно при его внесении его в некапсулированной форме, наблюдали незначительное помутнение среды. При культивировании A. niger на среде Чапека‒Докса без Сu2О рН среды снизился с 7.0 до 3.0, в то время как внесение оксида меди в концентрации 2.0 г/л снизило рН до 4.5, а более высокие концентрации — до 5.5. Это незначительное снижение рН среды отчасти также свидетельствует об угнетении роста A. niger.
Следовательно, частицы Сu2О, независимо от форм их внесения в питательную среду, оказывают токсическое действие на A. niger, проявляющееся в замедлении роста микромицета и, возможно, ингибировании синтеза органических кислот.
БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена в рамках Программы стратегического академического лидерства КФУ (Приоритет-2030)
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Исследования проведены при финансовой поддержке РНФ, грант № 23-29-00160.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит результатов исследований с использованием животных в качестве объектов.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
Г. Ю. Яковлева
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: yakovleva_galina@mail.ru
Россия, Казань, 420008
Е. А. Кацюруба
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Email: yakovleva_galina@mail.ru
Россия, Казань, 420008
Е. С. Фуфыгина
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Email: yakovleva_galina@mail.ru
Россия, Казань, 420008
М. П. Данилаев
Казанский национальный исследовательский Технический университет им. Туполева-КАИ
Email: yakovleva_galina@mail.ru
Россия, Казань, 420011
О. Н. Ильинская
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Email: yakovleva_galina@mail.ru
Россия, Казань, 420008
Список литературы
- Данилаев М.П., Дробышев С.В. Карандашов С.А., Клабуков М.А., Куклин В.А. Капсулирование дисперсных частиц оксида меди (I) полилактидом // Конденсированные среды и межфазные границы. 2023. Т. 25. № 1. С. 27–36.
- Danilaev M.P., Dorogov N.V., Drobyshev S.V., Karandashov S.A., Klabukov M.A., Kuklin V.A. Dispersed copper (I) oxide particles encapsulated by polylactide // Condensed Matter and Interphases. 2023. V. 25. P. 27–36.
- Akhmadeev A.A., Bogoslov E.A., Danilaev M.P., Klabukov M.A., Kuklin V.A. Influence of the thickness of a polymer shell applied to surfaces of submicron filler particles on the properties of polymer compositions // Mech. Compos. Mater. 2020. V. 56. P. 241–248.
- Bogomolova O.Yu., Biktagirova I.R., Danilaev M.P., Klabukov M.A., Polsky Yu.E., Pillai S., Tsentsevitsky A.A. Effect of adhesion between submicron filler particles and a polymeric matrix on the structure and mechanical properties of epoxy-resin-based compositions // Mech. Compos. Mater. 2017. V. 53. P. 117–122.
- Çetkin E., Demir M.E., Ergün R.K. The effect of different fillers, loads, and sliding distance on adhesive wear in woven e-glass fabric composites // Proc. IME E J. Process Mech. Eng. 2023. V. 237. P. 418–429.
- Ergün R.K., Adin H. Investigation of effect of nanoparticle reinforcement woven composite materials on fatigue behaviors // Iran J. Sci. Technol. Trans. Mech. Eng. 2022. V. 47. P. 729–740.
- Gu J.-D. Microbial colonization of polymeric materials for space applications and mechanisms of biodeterioration: a review // Int. Biodeterior. Biodegrad. 2007. V. 59. P. 170–179.
- Kadammattil A.V., Sajankila S.P., Prabhu S., Rao B.N., Rao B.S.S. Systemic toxicity and teratogenicity of copper oxide nanoparticles and copper sulfate // J. Nanosci. Nanotechnol. 2018. V. 18. P. 2394–2404.
- Kausar A. A review of high performance polymer nanocomposites for packaging applications in electronics and food industries // J. Plast. Film Sheeting. 2020. V. 36. P. 94–112.
- Naz S., Gul A., Zia M., Javed R. Synthesis, biomedical applications, and toxicity of CuO nanoparticles // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2023. V. 107. P. 1039–1061.
- Omazic A., Oreski G., Halwachs M., Eder G.C., Hirschl C., Neumaier L., Pinter G., Erceg M. Relation between degradation of polymeric components in crystalline silicon PV module and climatic conditions: a literature review // Sol. Energy Mater. Sol. Cell. 2019. V. 192. P. 123–133.
- Sanchez-Silva M., Rosowsky D.V. Biodeterioration of construction materials: State of the art and future challenges // J. Mater. Civil Engin. 2008. V. 20. P. 352–365.
- Stroganov V.F., Kukoleva D.A., Akhmetshin A.S., Stroganov I.V. Biodeterioration of polymers and polymer composite materials // Polym. Sci. Ser. D. 2009. V. 2. P. 164–166.
- Teper P., Sotirova A., Mitova V., Oleszko-Torbus N., Utrata-Wesołek A., Koseva N., Kowalczuk A., Mendrek B. Antimicrobial activity of hybrid nanomaterials based on star and linear polymers of N, N’-dimethylaminoethyl methacrylate with in situ produced silver nanoparticles // Materials. 2020. V. 13. Art. 3037.
- Wei S., Jiang Z., Liu H., Zhou D., Sanchez-Silva M. Microbiologically induced deterioration of concrete: a review // Braz. J. Microbiol. 2013. V. 44. P. 1001–1007.
- Wu D., Zhang D., Liu S., Jin Z., Chowwanonthapunya T., Gao J., Li X. Prediction of polycarbonate degradation in natural atmospheric environment of China based on BP-ANN model with screened environmental factors // Chem. Eng. J. 2020. V. 399. Art. 125878.
- Yakovleva G., Sagadeev E., Stroganov V., Kozlova O., Okunev R., Ilinskaya O. Metabolic activity of micromycetes affecting urban concrete constructions // Sci. World J. 2018. V. 2018. Art. 8360287.
Дополнительные файлы