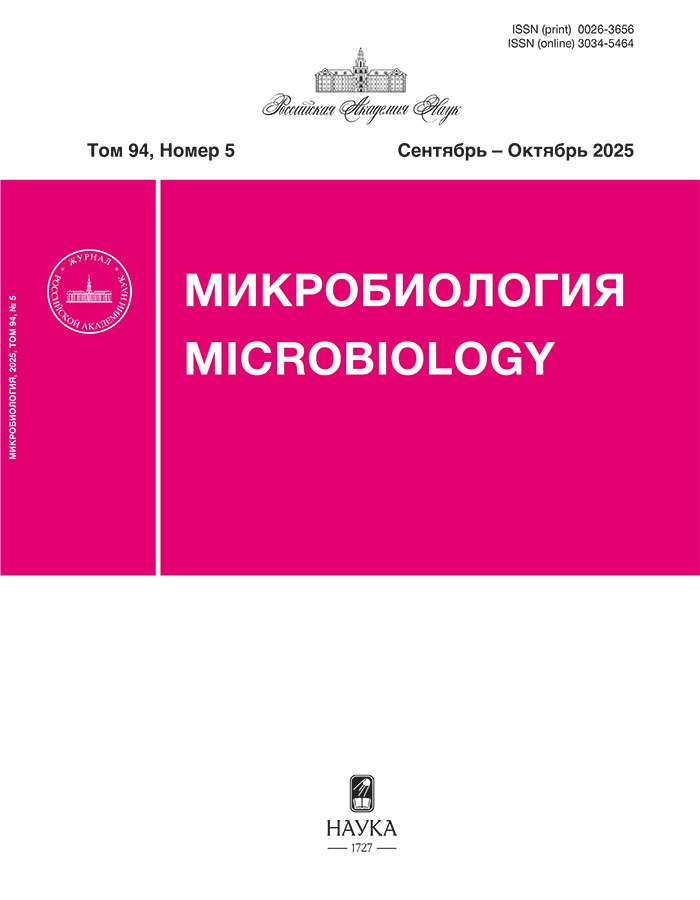Деградация коричной кислоты ризосферным штаммом Achromobacter insolitus LCu2
- Авторы: Крючкова Е.В.1, Морозова Е.С.2, Гринев В.С.1,3, Бурыгин Г.Л.1,3, Гоголева Н.Е.4,5, Гоголев Ю.В.4,6
-
Учреждения:
- ФИЦ “Саратовский научный центр РАН”
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
- Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН
- Казанский НЦ РАН
- Выпуск: Том 93, № 5 (2024)
- Страницы: 562-571
- Раздел: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0026-3656/article/view/273103
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0026365624050053
- ID: 273103
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Штамм Achromobacter insolitus LCu2, изолированный с корней люцерны посевной (Medicago sativa L.), утилизировал коричную кислоту, а также ее метокси-производные ‒ ванилиновую и феруловую кислоты – в качестве единственного источника углерода. Слабый рост был отмечен на м-кумаровой, но не на о- и п-кумаровых кислотах. Рост на коричной кислоте был медленным и диауксичным. Убыль субстрата из среды культивирования составила 53%, деструктивная эффективность – 30 мкг/мг сырой биомассы в течение 14 сут. Несмотря на бактерицидное действие коричной кислоты, культура A. insolitus LCu2 длительное время сохраняла жизнеспособность. Геномный анализ позволил выявить два генных кластера hca и mhp, отвечающих за дигидроксилирование фенильного кольца (hcaA1A2CDB) и его последующее расщепление до продуктов центрального метаболизма (mhpACDE), а также транскрипционный регулятор (hcaR) и предполагаемый транспортер (hcaT). Предположительный биохимический путь деградации коричной кислоты штаммом A. insolitus LCu2 был предсказан с использованием геномных данных.
Ключевые слова
Полный текст
Фенольные кислоты (ФК) – это соединения с химической структурой (С6‒С3), синтезируемые в основном растениями, как структурные компоненты предшественников лигнина (Croteau et al., 2000; Kefeli et al., 2003), как защитные молекулы в ответ на биотические факторы, а также как соединения, обеспечивающие сигналинг в растительно-микробных симбиозах (Siqueira et al., 1991; Mandal et al., 2010). В почву ФК попадают с корневыми экссудатами, в процессе разложения растительных остатков, в стоках винодельческих, маслоэкстракционных, целлюлозно-бумажных предприятий (Monisha et al., 2018), в качестве интермедиатов катаболизма полиароматики, например, нафталина (Анохина и соавт., 2020). Коричная кислота (КК) – основной предшественник синтеза растительных фенольных компонентов (Croteau et al., 2000). Она обладает аллелопатическими свойствами, ингибирует рост бактерий и образование биопленок, а в определенных концентрациях негативно влияет на развитие растений (Ye et al., 2006; Salvador et al., 2013; Rajkumari et al., 2018). Бактериальные штаммы, способные к деградации КК, перспективны не только с точки зрения естественного цикла разложения ароматических компонентов, оздоровления почвы и повышения ее плодородия, но также могут использоваться как модельные объекты, которые преодолевают неспецифическую защиту растений и колонизируют их.
На сегодняшний день описано несколько путей бактериальной трансформации и деградации КК: а) β-окисление трехуглеродного хвоста с образованием бензоата у Cupriavidus necator JMP134 (Perez-Pantoja et al., 2008); б) восстановление двойной связи в трехуглеродном хвосте с последующим гидроксилированием бензольного кольца монооксигеназами до протокатеховой кислоты у Stenotrophomonas sp. TRMK2 (Monisha et al., 2018); в) дигидроксилирование бензольного кольца диоксигеназой (ДО) типа Риске c дальнейшим расщеплением кольца у Escherichia coli K-12 (Diaz et al., 1998). Лишь диоксигенолитический путь деградации КК описан полностью, указаны все ферменты и биохимические реакции с соответствующими субстратами и продуктами.
Цель данного исследования – изучить возможность утилизации коричной кислоты и ее производных ризосферным штаммом Achromobacter insolitus LCu2 и с помощью геномного анализа предсказать биохимический путь деградации КК у исследуемых бактерий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объект исследования. Используемый в работе штамм A. insolitus LCu2 выделен с корней люцерны посевной (Medicago sativa L.) и депонирован в двух микробных коллекциях под номерами IBPPM 631 (http://collection.ibppm.ru/) и RCAM 04723 (http://www.arriam.spb.ru/eng/lab10/).
Рост бактерий на фенольных кислотах. Бактерии культивировали в минеральной среде MS1 (Ермакова и соавт., 2008) с некоторыми модификациями. В качестве источника фосфора использовали 0.5 г/л KH2PO4. Коричную, о-, м-, п-кумаровую, ванилиновую и феруловую кислоты добавляли в автоклавированную среду (1 атм, 30 мин) в качестве единственного источника углерода (0.5‒1.0 г/л), предварительно растворив их в небольшом объеме диметилсульфоксида (ДМСО). Стерилизованный фильтрованием 0.22 мкм раствор витаминов (мг/100 мл): тиамин – 1.0; биотин – 0.2; никотиновая кислота – 2.0; пиридоксамин – 5.0 добавляли в MS1 (2 мл/л); pH среды доводили 1М раствором NaOH до 6.8–7.0.
Для инокулята одну полную петлю бактериальной культуры засевали в MS1 с яблочной кислотой (0.5 г/л) и выращивали в течение 1 сут. Клетки осаждали при 5000 g в течение 10 мин, ресуспендировали свежей средой без источника углерода и вносили в экспериментальные варианты до начальной оптической плотности 0.02 или 0.09 при 420 нм. Бактерии культивировали в колбах, содержащих 50 мл жидкой MS1, на шейкере при 140 об./мин и температуре 35°C.
Для получения адаптированной к КК культуры LCu2 осуществляли серию многократных последовательных пересевов на среды, содержащие КК (0.5 или 1.0 г/л) в качестве единственного источника углерода.
Контроль ростовых характеристик. Рост бактерий контролировали по изменению оптической плотности (ОП) на спектрофотометре Specol 221 (Германия) при длине волны 420 нм в кювете с длиной оптического пути 0.2 см. Удельную скорость роста (μ) и время генерации (g) рассчитывали по формулам:
μ = lgXt – lgX0 × 2.303/(t – t0),
где Xt и X0 – начальная и конечная плотность культуры в моменты времени t и t0;
g = 0.693/μ.
Деструктивную активность (Q) культур определяли как отношение потребленной коричной кислоты к сырой биомассе бактерий (мг/г).
Жизнеспособность бактериальных культур. Количество живых клеток в суспензиях определяли, высевая и подсчитывая значения колониеобразующих единиц (КОЕ). 100 мкл бактериальной суспензии добавляли к 900 мкл физраствора, готовили серию разведений от 10-1 до 10-6. Из разведений 10-5 и 10-6 по 200 мкл высевали на плотные среды LB, а также на MS1 с коричной кислотой (0.5 и 1 г/л). Высевы производились в пяти повторностях. Учет КОЕ проводили после 5 сут культивирования на LB и после 14 сут на MS1 с коричной кислотой.
Аналитические методы. Возможную трансформацию ФК определяли методом УФ-спектрометрии на спектрофотометре Specord 250 (“Analytik Jena”, Германия). Бактерии осаждали центрифугированием при 5000 g в течение 10 мин. Надосадочную жидкость аккуратно отбирали, разбавляли дистиллированной водой (1 : 10) и измеряли спектры в диапазоне от 200 до 400 нм.
Остаточное содержание КК в супернатантах определяли методом ВЭЖХ на хроматографе Dionex UltiMate 3000 с колонкой С18 и УФ-детектором, при 240 нм. Элюент ацетонитрил‒H2O‒уксусная кислота (30 : 69.5 : 0.5, по объему) использовали для анализа. Скорость потока 0.6 мл/мин, объем образца 5 мкл.
Значения pH супернатантов доводили до 7 ед. раствором 0.25 М NaOH; ФК экстрагировали этилацетатом трижды из каждого варианта в пропорции 1 : 1 (200 мкл надосадочной жидкости к 200 мкл этилацетата). Полученные экстракты упаривали, осадки растворяли в ацетонитриле и объединяли. Для построения калибровочного графика 1 мг КК растворяли в 1 мл ДМСО, а затем 500 мкл этого раствора растворяли в 500 мкл дистиллированной воды, получая концентрацию 500 мкг/мл.
Фитотоксичности бактериальных супернатантов. В эксперименте использовали мягкую яровую пшеницу (Triticum aestivum L.) сорта Саратовская 29. Зерновки отбирали, калибровали по размеру, отмывали детергентом 5 мин, затем тщательно промывали проточной водой до исчезновения мыльной пены и замачивали в 0.2% растворе диацида на 15 мин. Стерилизованные семена трижды отмывали стерильной H2Od по 15 мин. Семена по 10 шт. выкладывали в чашки Петри на поверхность фильтровальной бумаги, смоченной 5 мл среды для растений Мурасиге‒Скуга с добавлением 100 мкл бактериальных супернатантов до конечного содержания коричной кислоты 1 мг на чашку. В каждом варианте было по 30 семян. Измерение длины корня и стебля у проростков производилось на 3 и 5 сут.
Геномный анализ. Геном A. insolitus LCu2 аннотирован в NCBI под номером (CP038034). Аминокислотные последовательности ферментов, по литературным данным участвующие в деградации коричной кислоты, были экстрагированы из Uniprot (The UniProt Consortium, 2023) или PDB (Berman et al., 2000) и использованы для поиска гомологов в геноме LCu2 с BLASTP алгоритмом (protein-protein BLAST) (Johnson et al., 2008). Для дальнейшей работы отбирали аминокислотные последовательности, удовлетворяющие следующим критериям: покрытие >80%; E-value <10-10; идентичность >20%, а также имеющие соответствующее геномное окружение. На основании геномного анализа был сконструирован предположительный биохимический путь деградации коричной кислоты штаммом A. insolitus LCu2. В качестве референсного использовали диоксигенолитический путь, приведенный для E. coli K-12 в KEGG (Kanehisa, Goto, 2000), подтвержденный экспериментальными данными (Diaz et al., 1998).
Статистический анализ данных. Все эксперименты проводили три раза в трех повторностях. Для полученной выборки рассчитывали значения ошибки средней и доверительного интервала, со степенью достоверности р ≤ 0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рост A. insolitus LCu2 на фенольных кислотах. На начальном этапе мы протестировали способность A. insolitus LCu2 к росту на коричной кислоте (КК) и ее гидроксилированных и метоксилированных производных. Ростовые параметры представлены в табл. 1.
Таблица 1. Ростовые параметры A. insolitus LCu2 на средах с различными фенольными кислотами
Источник углерода, г/л | Плотность засева | μ, ч-1 | g, ч |
Коричная кислота, 0.5 | 0.02 | 0.041 | 16.9 |
Коричная кислота, 1.0 | 0.02 | 0.045 | 15.4 |
Коричная кислота, 0.5 | 0.09 | 0.034 | 20.4 |
Коричная кислота, 1.0 | 0.09 | 0.035 | 19.8 |
м-Кумаровая кислота, 0.5 | 0.02 | 0.020 | 34.6 |
o-Кумаровая кислота, 0.5 | 0.02 | ‒ | ‒ |
п-Кумаровая кислота, 0.5 | 0.02 | ‒ | ‒ |
Феруловая кислота, 0.5 | 0.09 | 0.043 | 16.1 |
Ванилиновая кислота, 0.5 | 0.09 | 0.043 | 16.1 |
Примечание. μ ‒ удельная скорость роста; g ‒ время генерации; указаны для периода 48 ч.
A. insolitus LCu2 рос на КК и на ее окси-производных: феруловой и ванилиновой кислотах. Слабый рост наблюдался на м-кумаровой кислоте и полное отсутствие роста ‒ на о- и п-кумаровых кислотах в течение 96 ч культивирования. В целом, рост культур был медленным, что можно объяснить бактерицидными свойствами фенольных кислот, в частности, КК (Malheiro et al., 2019). Время генерации для растущих культур составило более 12 ч (табл. 1).
Анализ литературы показал, что бактериальные способы трансформации или деградации КК различны и не всегда сопряжены с увеличением биомассы. Отсутствие роста в анаэробных условиях отмечено для Clostridium glycolicum, который использовал молекулы КК в качестве акцептора протонов, восстанавливая их до фенилпропионовой кислоты (ФпК) (Chamkha et al., 2001). Штамм E. coli K-12, для которого выявлены hca и mhp генные кластеры диоксигенолитического пути, не мог расти на КК. Для индукции роста E. coli K-12 на КК необходимо было предварительное культивирование бактерий на ФпК. Примечательно, что клонирование hca генов К-12 в Salmonella typhimurium LT2 индуцировало рост на КК и образование 2,3-дигидроксикоричной кислоты, в то время как у дикого типа сальмонелл эти признаки отсутствовали (Diaz et al., 1998). Способность использовать КК в качестве источника углерода показана для нескольких видов Pseudomonas, но ростовые характеристики не приводятся (Andreoni, Bestetti, 1986). Единственный штамм, который достигал стационарной фазы роста на КК уже через 19 ч, ‒ Stenotrophomonas sp. TRMK2 (Monisha et al., 2018).
На следующем этапе мы попытались получить адаптированную к КК культуру LCu2, осуществив серию последовательных пересевов. Кривая роста такой культуры представлена на рис. 1.
Рис. 1. Двухфазная кривая роста A. insolitus LCu2 на 0.5 г/л коричной кислоты. Каждая точка является средней из трех повторностей; погрешности показывают доверительный интервал для р ≤ 0.05.
Рост не был сбалансированным: кривая имела два пика. Как правило, диауксический рост свидетельствует о наличии в среде двух разных источников углерода и энергии. В этом случае бактерии утилизируют сначала один субстрат, а когда он исчерпан, происходит синтез ферментов, позволяющих утилизировать другой. В нашей работе подобный рост может быть связан с образованием нескольких интермедиатов КК, последовательно используемых бактериями для роста.
Первая стационарная фаза роста зарегистрирована через 96 ч, вторая – через 307 ч. Скорость роста для обоих пиков была одинаковой и составила 0.017–0.018 ч-1, а время генерации 38.5‒41.0 ч соответственно (рис. 1). Максимальное значение ОП420 было в 2.3 раза выше, чем у исходной культуры LCu2. Прирост сырой биомассы за 307 ч составил 9 мг/мл.
Жизнеспособность бактерий, культивируемых длительное время на коричной кислоте. Чтобы проверить устойчивость A. insolitus LCu2 к биоцидному действию КК, бактерии в течение 1 мес. культивировали на КК, добавленной в среду в качестве единственного источника углерода и энергии (0.5–1.0 г/л). Затем бактериальные суспензии высевали на два типа сред – богатую LB без добавления КК и синтетическую MS1 с КК (0.5 г/л). Жизнеспособность культур сохранялась. На обоих типах сред значения колониеобразующих единиц (КОЕ) статистически достоверно не отличались друг от друга, но КОЕ культур, высеянных из среды с КК (0.5 г/л), было на один порядок выше, чем у культур из среды с концентрацией КК (1 г/л) (рис. 2). Внешний вид колоний на разных средах значительно отличался. Колонии на MS1 с КК были мелкими и прозрачными. На богатой среде LB без КК вырастали крупные слизистые колонии.
Рис. 2. Жизнеспособность бактерий, культивируемых в течение месяца на коричной кислоте: 1, 2 – культуры, выращенные на 0.5 г/л; 3, 4 – на 1.0 г/л коричной кислоты, высеянные на минерально-синтетическую (MS1) и LB среды; доверительный интервал для р ≤ 0.05.
Убыль и трансформация коричной кислоты. Чтобы оценить возможную трансформацию КК в процессе бактериального роста, были измерены УФ-спектры супернатантов (рис. 3а). УФ-спектр КК в химическом контроле имел два диапазона поглощения: первый от 200 до 230 нм, содержавший несколько максимумов абсорбции λmax1 205, 209, 215, 222 нм; и второй с λmax2 270 (269) нм. После роста бактерий существенное снижение интенсивности абсорбции в 3 и более раза (примерно на 69%) наблюдалось в районе обоих диапазонов поглощения, что свидетельствует о пропорциональном снижении концентрации КК в среде.
Рис. 3. УФ спектры (а) и ВЭЖХ анализ (б) коричной кислоты до и после культивирования A. insolitus LCu2. Синяя кривая – химический контроль, красная – после культивирования бактерий.
Для количественного определения остаточного содержания в среде КК использовали ВЭЖХ анализ. Убыль КК после культивирования LCu2 составила 266 мг или 53% по сравнению с химическим контролем (рис. 3б). С учетом результатов ВЭЖХ анализа и прироста биомассы рассчитывали эффективность деградации (Q) для адаптированной культуры, которая составила 30 мкг/мг.
Фитотоксичность бактериальных супернатантов. Влияние остаточного содержания КК в супернатантах до и после культивирования LCu2 на морфометрические параметры растений мягкой яровой пшеницы Саратовская 29 показано на рис. 4.
Рис. 4. Фитотоксичность супернатантов с коричной кислотой по отношению к проросткам пшеницы сорта Саратовская 29: а – средняя длина корня; б – средняя длина стебля; 1 – биологический контроль; 2 – химический контроль; 3 – культуральная жидкость LCu2. Погрешности показывают доверительный интервал для р ≤ 0.05; в каждом варианте n = 25; возраст растений 5 сут; содержание коричной кислоты 1 мг.
У проростков, выращенных на чашках с добавлением химического контроля, на 46% ингибировалась длина корня L(к) и на 43% длина стебля L(с) (рис. 4). После культивирования бактерий фитотоксичность среды значительно снижалась. Процент ингибирования морфометрических показателей составил всего 20% для корней и 22% для стеблей по отношению к биологическому контролю. По сравнению с химическим контролем L(к) была больше на 33%, а L(c) на 27%. Кроме того, у проростков, выращенных с добавлением культуральной жидкости LCu2, наблюдался активный рост корневых волосков, который отсутствовал в биологическом контроле.
Биоинформатический поиск генов катаболизма коричной кислоты. Поскольку диоксигенолитический путь – единственный полностью описанный путь деградации КК (Diaz et al., 1998), а ферменты, кодирующие биохимические реакции, аннотированы в Uniprot, мы использовали его в качестве референсного. Диоксигенолитический путь описан для двух субстратов: фенилпропионовой и коричной кислот. Начинается он с дигидроксилирования ароматического кольца в положениях 2, 3 ферментным комплексом, состоящим из четырех белков: α- и β-субъединиц 3-фенилпропионат/циннамат диоксигеназы (HcaA1A2) [ЕС 1.14.12.19] и соответствующих ферредоксина (HcaC) и ферредоксин редуктазы (HcaD) [ЕС 1.18.1.3]. В геноме LCu2 найдены все четыре гена, кодирующие ферментный комплекс, отвечающий за дигидроксилирование кольца ФпК и КК (табл. 2). Гены hcaA1A2CDB расположены рядом и транскрибируются с одной цепи (рис. 5а).
Таблица 2. Гены, кодирующие ферменты диоксигенолитического пути катаболизма коричной кислоты, в геноме A. insolitus LCu2
Белок запроса ID в Uniprot | Ген | ID белка в геноме штамма LCu2 в GenBank | Покрытие, % | E-value | Id, % |
Гидроксилирование субстрата | |||||
P0ABR53 фенилпропионат/циннамат ДО субъединица α | hcaA1 | QEK92585 фенилпропионат/циннамат ДО субъединица α | 90 | 4e-33 | 26.62 |
Q47140 фенилпропионат/циннамат ДО субъединица β | hcaA2 | QEK92584 фенилпропионат/циннамат ДО субъединица β | 84 | 1e-13 | 23.01 |
P0ABW0 субъединица ферредоксина 3-фенилпропионат/циннамат ДО | hcaС | QEK92586 железосодержащий ферредоксин | 68 | 8e-26 | 48.65 |
P77650 NAD+ ферредоксин редуктаза 3-фенилпропионат/циннамат ДО | hcaD | QEK95941 ферредоксин редуктаза | 95 | 5e-61 | 34.24 |
P0CI31 фенидпропионат/циннамат дигидродиол дегидрогеназа | hcaB | QEK92582 дегидрогеназа | − | − | − |
Разрыв фенильного кольца | |||||
2PHD_A салицилат 1,2-ДО | sdoA | QEK92583 гипотетический протеин | 30 | 1e-10 | 31.58 |
AAQ91293.1 салицилат 1,2-ДО | 30 | 1e-11 | 32.46 | ||
2D40_A гентизат 1,2-ДО | gdoA | 35 | 2e-10 | 34.34 | |
Q330M9.1 гентизат 1,2-ДО | 50 | 6e-09 | 29.66 | ||
AFC47847 1-гидрокси-2-нафтоат ДО | phdI | 88 | 1е-12 | 26.21 | |
BAA31235 1-гидрокси-2-нафтоат ДО | 77 | 8e-12 | 23.87 | ||
ARB18233 5-аминосалицилат-1,2 ДО | mabB | 75 | 1е-11 | 24.36 | |
P0ABR9 2,3-дигидроксифенилпропионат/ 2,3-дигидроксициннамат 1,2-ДО | mhpB | − | − | − | |
Образование центральных метаболитов ЦТК | |||||
B7N8Q6 2-гидрокси-6-оксононадиендиоат/ 2-гидрокси-6-оксононатриендиоат гидроксилаза | mhpC | QEK92296.1 альфа/бета складчатая гидролаза | 86 | 2e-14 | 26.17 |
P77608 2-кето-4-пентаноат гидратаза | mhpD | QEK92581 2-кето-4-пентаноат гидратаза | 13 | 0,003 | 36.36 |
P51020 4-гидрокси-2-оксовалериат альдолаза | mhpE | QEK93369 | 80 | 4e-08 | 25.57 |
Регуляция транскрипции и транспорт | |||||
Q47141 траснкрипционный активатор LysR | hcaR | QEK94968.1 транскрипционный регулятор LysR | 92 | 7e-39 | 34.78 |
Q47142.2 транспортер 3-фенилпропионовой кислоты | hcaT | QEK93400 MFS транспортер | 94 | 2е-25 | 26.45 |
Примечание. ID – идентификационный номер в базах данных; Id ‒ идентичность между двумя аминокислотными последовательностями.
Рис. 5. Структурная организация генного кластера, содержащего hca- и mhp-гены, и предполагаемый биохимический путь деградации коричной кислоты штаммом A. insolitus LCu2. а: R – gntR (транскрипционный регулятор); D – mhpD; hB – hcaB; hp – QEK92583; A2 – hcaA2; A1 – hcaA1; hС – hcaC; hD – hcaD; б: HcaA1A2 – α- и β-субъединицы транс/циннамат диоксигеназы; HcaC – ферредоксин; HcaD – ферредоксинредуктаза; HcaB – 2,3-дигидрокси-2,3-дигидрофенилпропионат дегидрогеназа; QEK92583 – гипотетический белок – предположительно, экстрадиольная диоксигеназа; MhpC – 2-гидрокси-6-оксононадиендиоат/2-гидрокси-6-оксононатриендиоат гидроксилаза; MhpD – 2-кето-4-пентоноат гидратаза; MhpE – 4-гидрокси-2-оксовалериат альдолаза. Овалами обозначены центральные метаболиты.
За дальнейшее расщепление кольца образовавшихся дигидродиолов у E. coli K-12 отвечает MhpB диоксигеназа [ЕС 1.13.11.16] семейства LigB/MhpB экстрадиольных диоксигеназ, катализирующая негемовое Fe(II)-зависимое расщепление кольца в молекулах 2,3-дигидроксикоричной и 2,3-дигидроксифенилпропионовой кислот (Bugg, 1993; Mendel et al., 2004).
В геноме A. insolitus LCu2 не обнаружено гомологичных MhpB последовательностей. Однако рядом с дегидрогеназой (QEK92582) штамма LCu2 расположен гипотетический белок (QEK92583), демонстрирующий родство с белковым суперсемейством бикупиновых экстрадиольных диоксигеназ III класса, расщепляющих химическую связь в бензольном кольце между карбоксилированным и гидроксилированным углеродами (табл. 2). Представителями семейства являются: гентизат 1,2-ДО [EC 1.13.11.4]; салицилат 1,2-ДО [EC 1.13.11.-]; 1-гидрокси-2-нафтоат ДО [EC 1.13.11.38]; гомогентизат ДО [EC 1.13.11.5] (Chen et al., 2008; Ferraroni et al., 2012). BLASTP анализ гипотетического белка (QEK92583) с представителями купинового суперсемейства показал слабую гомологию в каталитической области (табл. 2). На филогенетическом дереве (рис. 6б) QEK92583 располагался ближе к кластеру с 1-гидрокси-2-нафтоат ДО, но не к гентизат 1,2-ДО. Также белок LCu2 продемонстрировал эволюционное родство с последовательностью Q330M9, для которой показана экспрессия, индуцируемая коричной и фенилпропионовой кислотами, а также 3-гидроксибензоатом (Fairley et al., 2006).
Рис. 6. Биоинформатический анализ аминокислотной последовательности (QEK92583) из A. insolitus LCu2: а ‒ сравнение фрагментов аминокислотных последовательностей салицилат 1,2-диоксигеназы из P. salicylatoxidans BN12 (AAQ91293.1) и гипотетического белка A. insolitus LCu2 (QEK92583). Купиновый домен с тремя остатками гистидина (His119; His121 и His160), координирующими Fe2+ в каталитическом центре (Matera et al., 2008), отмечен голубыми прямоугольниками и звездами, и обозначен как Мотив I и Мотив II; б ‒ филогенетический анализ белков с купиновыми доменами методом Maximum-Likelihood в Mega X (Kumar et al., 2018), бутстрэп 1000, последовательности выровнены в ClustalOmega W с настройками по умолчанию; корень – гомогентизат 1,2-диоксигеназа.
Попарное выравнивание QEK92583 c наиболее изученным представителем семейства-салицилат 1,2-ДО (AAQ91293.1) выявило наличие трех остатков гистидина, которые координируют Fe(II) в каталитическом центре (рис. 6а). Таким образом, биоинформатический анализ позволяет предположить, что гипотетический протеин (QEK92583) имеет потенциал к разрыву химической связи между 1 и 2 атомами углерода фенильного кольца. Безусловно, данное предположение требует дальнейших исследований.
Гены кластера mhpCDE, отвечающие за последующий катаболизм образовавшихся интермедиатов до продуктов ЦТК, и транскрипционный регулятор hcaR и транспортер hcaT также найдены в геноме LCu2 (табл. 2; рис. 5). На основании геномного анализа предсказан предположительный биохимический путь катаболизма КК штаммом A. insolitus LCu2, который сходен с описанным для E. coli K-12 (Diaz et al., 1998), кроме ключевого белка, расщепляющего связь в фенильном кольце (рис. 5б).
Полученные результаты отражают метаболический потенциал бактерий рода Achromobacter, а также важны для подбора условий биохимических экспериментов и оптимизации деструктивной активности бактерий по отношению к фенилпропаноидам.
БЛАГОДАРНОСТИ
Хроматографический анализ проводили на оборудовании ЦКП “Симбиоз” Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, г. Саратов.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Работа выполнена в рамках государственного задания 1022040700974-4. Работа поддержана Российским научным фондом (полное геномное секвенирование, проект № 22-14-00317).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Статья не содержит результатов исследований с использованием животных в качестве объектов.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
Е. В. Крючкова
ФИЦ “Саратовский научный центр РАН”
Автор, ответственный за переписку.
Email: kryu-lena@yandex.ru
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов
Россия, 410049, СаратовЕ. С. Морозова
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: kryu-lena@yandex.ru
Россия, 199034, Санкт-Петербург
В. С. Гринев
ФИЦ “Саратовский научный центр РАН”; Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Email: kryu-lena@yandex.ru
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов
Россия, 410049, Саратов; 410012, СаратовГ. Л. Бурыгин
ФИЦ “Саратовский научный центр РАН”; Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Email: kryu-lena@yandex.ru
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов
Россия, 410049, Саратов; 410012, СаратовН. Е. Гоголева
Казанский (Приволжский) федеральный университет; Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН
Email: kryu-lena@yandex.ru
Россия, 420008, Казань; 460000, Оренбург
Ю. В. Гоголев
Казанский (Приволжский) федеральный университет; Казанский НЦ РАН
Email: kryu-lena@yandex.ru
Казанский институт биохимии и биофизики
Россия, 420008, Казань; 420008, КазаньСписок литературы
- Анохина Т. О., Есикова Т. З., Гафаров А. Б., Поливцева В. Н., Баскунов Б. П., Соляникова И. П. Альтернативный путь метаболизма нафталина у штамма Rhodococcus opacus 3D, включающий образование орто-фталевой и производных коричной кислоты // Биохимия. 2020. T. 85. P. 412‒427.
- Anokhina T. O., Esikova T. Z., Gafarov A. B., Polivtseva V. N., Baskunov B. P., Solyanikova I. P. Alternative naphthalene metabolic pathway includes formation of ortho-phthalic acid and cinnamic acid derivatives in the Rhodococcus opacus strain 3D // Biochemistry (Moscow). 2020. V. 85. P. 355‒368.
- Ермакова И. Т., Шушкова Т. В., Леонтьевский А. А. Микробная деструкция органофосфонатов почвенными бактериями // Микробиология. 2008. Т. 77. С. 689‒695.
- Ermakova I. T., Shushkova T. V., Leont’evskii A. A. Microbial degradation of organophosphonates by soil bacteria // Microbiology (Moscow). 2008. V. 77. P. 615‒620.
- Andreoni V., Bestetti G. Comparative analysis of different Pseudomonas strains that degrade cinnamic acid // Appl. Environ. Microbiol. 1986. V. 52. P. 930‒934.
- Berman H. M., Westbrook J., Feng Z., Gilliland G., Bhat T. N., Weissig H., Shindyalov I. N., Bourne P. E. The Protein Data Bank // Nucl. Acids Res. 2000. V. 28. P. 235‒242. https://doi.org/10.1093/nar/28.1.235
- Bugg T. D.H. Overproduction, purification and properties of 2,3-dihydroxyphenylpropionate 1,2-dioxygenase from Escherichia coli // Biochim. Biophys. Acta. Protein Struct. Mol. Enzymol. 1993. V. 1202. P. 258‒264.
- Chamkha M., Labat M., Patel B. K., Garcia J. L. Isolation of a cinnamic acid-metabolizing Clostridium glycolicum strain from oil mill wastewaters and emendation of the species description // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2001. V. 51. P. 2049‒2054.
- Chen J., Li W., Wang M., Zhu G., Liu D., Sun F., Zhang X. C. Crystal structure and mutagenic analysis of GDOsp, a gentisate 1, 2-dioxygenase from Silicibacter pomeroyi // Protein Sci. 2008. V. 17. P. 1362‒1373.
- Croteau R., Kutchan T. M., Lewis N. G. Natural products (secondary metabolites) // Biochemistry and molecular biology of plants / Eds. B. Buchanan, W. Gruissem, R. Jones. Ch. 24. 2000. P. 1250‒1319.
- Díaz E., Ferrández A., García J.L. Characterization of the hca cluster encoding the dioxygenolytic pathway for initial catabolism of 3-phenylpropionic acid in Escherichia coli K-12 // J. Bacteriol. 1998. V. 180. P. 2915‒2923.
- Fairley D. J., Wang G., Rensing C., Pepper I. L., Larkin M. J. Expression of gentisate 1,2-dioxygenase (gdoA) genes involved in aromatic degradation in two haloarchaeal genera // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2006. V. 73. P. 691‒695.
- Ferraroni M., Matera I., Steimer L., Bürger S., Scozzafava A., Stolz A., Briganti F. Crystal structures of salicylate 1,2-dioxygenase-substrates adducts: a step towards the comprehension of the structural basis for substrate selection in class III ring cleaving dioxygenases // J. Struct. Biol. 2012. V. 177. P. 431‒438.
- Johnson M., Zaretskaya I., Raytselis Y., Merezhuk Y., McGinnis S., Madden T. L. NCBI BLAST: a better web interface // Nucl. Acids Res. 2008. V. 36. Suppl. 2. P. W5‒W9.
- Kanehisa M., Goto S. KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes // Nucl. Acids Res. 2000. V. 28. P. 27‒30.
- Kefeli V. I., Kalevitch M. V., Borsari B. Phenolic cycle in plants and environment // J. Cell Mol. Biol. 2003. V. 2. P. 13‒18.
- Kumar S., Stecher G., Li M., Knyaz C., Tamura K. MEGA X: molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms // Mol. Biol. Evol. 2018. V. 35. P. 1547‒1549.
- Malheiro J. F., Maillard J. Y., Borges F., Simões M. Evaluation of cinnamaldehyde and cinnamic acid derivatives in microbial growth control // Int. Biodeterior. Biodegrad. 2019. V. 141. P. 71‒78.
- Mandal S. M., Chakraborty D., Dey S. Phenolic acids act as signaling molecules in plant-microbe symbioses // Plant Signal. Behav. 2010. V. 5. P. 359‒368.
- Mendel S., Arndt A., Bugg T. D.H. Acid-base catalysis in the extradiol catechol dioxygenase reaction mechanism: site-directed mutagenesis of His-115 and His-179 in Escherichia coli 2,3-dihydroxyphenylpropionate 1,2-dioxygenase (MhpB) // Biochem. 2004. V. 43. P. 13390‒13396.
- Monisha T. R., Ismailsab M., Masarbo R., Nayak A. S., Karegoudar T. B. Degradation of cinnamic acid by a newly isolated bacterium Stenotrophomonas sp. TRMK2 // 3 Biotech. 2018. V. 8. P. 1‒8.
- Perez-Pantoja D., De la Iglesia R., Pieper D. H., González B. Metabolic reconstruction of aromatic compounds degradation from the genome of the amazing pollutant-degrading bacterium Cupriavidus necator JMP134 // FEMS Microbiol. Rev. 2008. V. 32. P. 736‒794.
- Rajkumari J., Borkotoky S., Murali A., Suchiang K., Mohanty S. K., Busi S. Cinnamic acid attenuates quorum sensing associated virulence factors and biofilm formation in Pseudomonas aeruginosa PAO1 // Biotechnol. Lett. 2018. V. 40. P. 1087‒1100.
- Salvador V. H., Lima R. B., dos Santos W. D., Soares A. R., Böhm P. A.F., Marchiosi R., Ferrarese-Filho O. Cinnamic acid increases lignin production and inhibits soybean root growth // PLoS One. 2013. V. 8. Art. e69105.
- Siqueira J. O., Nair M. G., Hammerschmidt R., Safir G. R., Putnam A. R. Significance of phenolic compounds in plant-soil-microbial systems // Crit. Rev. Plant Sci. 1991. V. 10. P. 63‒121.
- The UniProt Consortium. UniProt: the Universal Protein Knowledgebase in 2023 // Nucl. Acids Res. 2023. V. 51. Iss. D1. P. D523–D531.
- Ye S. F., Zhou Y. H., Sun Y., Zou L. Y., Yu J. Q. Cinnamic acid causes oxidative stress in cucumber roots, and promotes incidence of Fusarium wilt // Environ. Exp. Bot. 2006. V. 56. P. 255‒262.
Дополнительные файлы