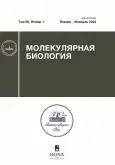Analysis of the relationship between Cxcl12, Tweak, Notch1 and Yap1 mRNA expression in the molecular mechanisms of liver fibrogenesis
- Authors: Lebedeva E.I.1, Shchastniy A.T.1, Babenka A.S.2, Zinovkin D.А.3
-
Affiliations:
- Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University
- Belarussian State Medical University
- Gomel State Medical University
- Issue: Vol 58, No 1 (2024)
- Pages: 130-140
- Section: МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0026-8984/article/view/259796
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0026898424010126
- EDN: https://elibrary.ru/NXGUNP
- ID: 259796
Cite item
Full Text
Abstract
Currently, data on the molecular mechanisms of fibrosis and cirrhosis of the liver do not allow us to fully understand all the stages in the development of these pathological processes. It is known that individual genes and signaling pathways do not function independently. Relations between them play a huge role in the implementation of their functions. Due to the complexity of studying this factor, information about their relationship is insufficient and often contradictory. In the present work, for the first time at different stages of thioacetamide-induced fibrosis in the liver of Wistar rats, mRNA expression of Notch1, Notch2, Yap1, Tweak (Tnfsf12), Fn14 (Tnfrsf12a), Ang, Vegfa, Cxcl12 (Sdf), Nos2, and Mmp-9 genes was studied in detail. Using factor analysis, three factors were obtained that combined highly correlated target genes with each other. The first factor includes four genes: Cxcl12 (r = 0.829, p < 0.05), Tweak (r = 0.841, p < 0.05), Notch1 (r = 0.848, p < 0.05), Yap1 (r = 0.921, p < 0.05). The second factor describes the correlations between the Mmp-9 (r = 0.791, p < 0.05) and Notch2 (r = 0.836, p < 0.05) genes. The third factor included genes Ang (r = 0.748, p < 0.05) and Vegfa (r = 0.679, p < 0.05). The Nos2 and Fn14 genes were not included in any of the factors. The selected genes classified on the basis of mRNA expression levels suggest that their products have a pathogenetic relationship in the processes of fibrotic changes in the liver of toxic etiology. Undoubtedly, the results obtained are of fundamental interest and require further expansion in the study of fibrosis and cirrhosis of the liver.
Keywords
Full Text
Введение
В развитии хронических заболеваний печени различной этиологии принимают участие сложные сети молекулярных каскадов как сигнальных путей (Notch, Hedgehog, WNT/β-катенин, TWEAK/Fn14, Hippo и др.), так и отдельных генов [1, 2].
Во время эмбрионального развития организма и физиологически нормально протекающего постнатального периода сигнальный путь Notch принимает участие в регуляции пролиферации и дифференцировки клеток, апоптозе, ангиогенезе и других процессах [3–6]. Путь Notch связан с развитием ряда заболеваний человека, а гены Notch вовлечены в процессы активации и трансдифференцировки клеток в миофибробластный фенотип при фиброзе легких, почек, сердца и печени [3, 4, 6, 7]. В экспериментальных работах на животных показано, что экспрессия генов сигнального пути Notch коррелирует с экспрессией генов других сигнальных путей, таких как Hippo, Hedgehog, Wnt/β-катенин, TGFβ [8, 9]. Предполагается, что ген Yap1 (входит в сигнальный путь Hippo) является Notch-зависимым геном, он запускает активацию клеток, накапливающих жиры (липоциты, перисинусоидные клетки, клетки Ито, перициты, стеллатные клетки) [10–12]. Однако данный механизм и взаимодействие Yap1 с другими генами до конца не исследованы [13, 14].
Гены сигнального пути TWEAK/Fn14 способны индуцировать поляризацию макрофагов, секрецию профибротических медиаторов, деление фибробластов и эпителиальных клеток желчных протоков и проточков, ангиогенез и прочие процессы в печени [15–17]. Данные о связи генов Notch и сигнальных путей TWEAK/Fn14 при фиброзе и циррозе печени практически отсутствуют.
Патологический ангиогенез и капилляризация синусоидов связаны с фиброгенезом и могут выступать в качестве его инициаторов. У животных с патологиями печени наблюдается аномальная экспрессия различных проангиогенных факторов, включая фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и ангиопоэтин (ANG). Противоречивые результаты доклинических исследований свидетельствуют о сложностях в терапии фиброза с помощью сосудистой молекулярно-таргетной терапии и необходимости дальнейших исследований в этом направлении [18–20].
Хемокин CXCL12 связывается с рецептором (CXCR4) и активирует ряд сигнальных путей, которые отвечают за пролиферацию, миграцию клеток и их адгезию [21]. Показано, что одной из функций CXCL12 в опухолях человека и животных является стимуляция миграции клеток. К сожалению, к настоящему времени не удалось детально изучить функционирование CXCL12 [22]. Роли хемокина в инициации и развитии фиброза различных органов посвящено незначительное количество работ. Считается, что CXCL12 можно рассматривать как терапевтическую мишень при данном патологическом процессе, поскольку, по аналогии с опухолями, CXCL12 способен стимулировать миграцию ряда клеток при фиброзе, способствуя его инициации и прогрессированию [23, 24].
Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что ген Nos2 играет определенную роль в фиброгенезе печени. Молекулярный механизм, с помощью которого Nos2 способствует прогрессированию фиброза, понятен не до конца. Известно, что индукция экспрессии Nos2, активация фермента и последующая продукция оксида азота представляют собой сложный многостадийный процесс [25–27].
Высокие уровни матриксной металлопротеиназы 9 (ММР-9) связывают со стимуляцией фиброза и ремоделированием внеклеточного матрикса. Несмотря на значительное количество публикаций, представленных в поисковой системе PubMed, связь между ростом мРНК Мmp-9 и прогрессированием фиброза печени изучена не до конца [28, 29].
В настоящей работе в поисковых системах по биомедицинским исследованиям был проведен поиск генов, связанных с фиброгенезом печени. Однако в проанализированных нами публикациях практически отсутствовали данные о связи между уровнями экспрессии выбранных нами генов Notch1, Notch2, Yap1, Tweak (Tnfsf12), Fn14 (Tnfrsf12a), Ang, Vegfa, Cxcl12 (Sdf), Nos2 и Mmp-9. Кроме того, на существующих экспериментальных моделях изучают либо конкретные, далеко отстоящие друг от друга ключевые позиции (норма, фиброз и цирроз), либо фиброгенез, но не на всем протяжении времени. Эти ограничения могут скрывать важные детали и ограничивают возможность соответствующих выводов. По-видимому, выбранные нами гены-мишени связаны с процессами, отвечающими за инициацию и развитие фиброза печени у человека и животных, что показано в ряде исследований [8, 9, 11, 15, 17, 23, 24, 28, 29].
Цель настоящего исследования состояла в определении уровней экспрессии мРНК генов Notch1, Notch2, Yap1, Tweak (Tnfsf12), Fn14 (Tnfrsf12a), Ang, Vegfa, Cxcl12 (Sdf), Nos2 и Mmp-9 на разных стадиях тиоацетамид-индуцированного фиброза печени крыс Wistar и в анализе их взаимосвязи с помощью факторного анализа.
Экспериментальная часть
В рамках настоящей работы при описании генов применяли названия, принятые в правилах и рекомендациях по номенклатуре генов [30].
Экспериментальная модель. Фиброз и цирроз печени у крыс-самцов Wistar индуцировали свежеприготовленным раствором тиоацетамида (ТАА; “Acros Organics”, Бельгия), который вводили интрагастрально через зонд в дозе 200 мг/кг массы тела 2 раза в неделю в течение 17 нед. Животных разделили на восемь групп (12 особей в каждой) в зависимости от длительности воздействия ТАА: 3 нед. (группа 1), 5 нед. (2), 7 нед. (3), 9 нед. (4), 11 нед. (5), 13 нед. (6), 15 нед. (7), 17 нед. (8). Крысы контрольной группы (n = 12) получали воду без ТАА в аналогичном объеме.
Гистологическое и морфометрическое исследование. После декапитации под кратковременным эфирным наркозом с применением гильотины из большой левой доли печени крыс забирали образцы диаметром 5–10 мм, которые помещали в 10%-ный раствор нейтрального формалина (“Биовитрум”, Россия) на фосфатном буфере и фиксировали в течение 24 ч. Затем обрабатывали фиксированный материал с последующей заливкой в парафин с использованием автомата для гистологической обработки ткани STP-120 (“Thermo Fisher Scientific”, США) и станции для заливки ткани парафином EC350 (“Thermo Fisher Scientific”). От каждого животного получали по одному блоку для каждого метода окрашивания, с помощью микротома НМ340Е (“MICROM, Laborgerate GmbH”, Германия) готовили в среднем по 3–4 среза толщиной 4 мкм и помещали их на предметные стекла. Для получения обзорных гистологических препаратов срезы печени окрашивали гематоксилином и эозином, а для выявления соединительной ткани – по Маллори с помощью автомата для окраски HMS70 (“Thermo Fisher Scientific”).
Гистологические препараты исследовали с использованием компьютерных программ ImageScope Color и cellSens Standard на базе микроскопа Olympus BX51 (Япония). Степень фиброза определяли с использованием полуколичественной шкалы K.G. Ishak [31].
Оценка уровня мРНК Notch1, Notch2, Yap1, Tweak, Fn14, Ang, Vegfa, Cxcl12, Nos2 и Mmp-9. Фрагменты печени диаметром не более 5 мм помещали в криопробирки и далее в жидкий азот для хранения до начала процедуры выделения суммарной РНК. Общую фракцию РНК выделяли согласно инструкции производителя набора АртРНК MiniSpin (“АртБиоТех”, Беларусь). Качественные характеристики образцов контролировали с помощью электрофореза в агарозном геле (выборочно) в неденатурирующих условиях (однократный Трис-ацетатный буфер, 2%-ный агарозный гель). Количество суммарной РНК после выделения определяли спектрофотометрически (длина волны – 260 нм, спектрофотометр Specord 250 (“Analytic Jena”, Германия)). Выборочно снимали спектр поглощения при 220–340 нм.
кДНК синтезировали с использованием олиго-(dТ)-праймеров и набора реагентов ArtMMLV Total (“АртБиоТех”, Беларусь) в соответствии с инструкцией производителя. В каждой реакции использовали 200 нг общей фракции РНК. Олигонуклеотидные праймеры и зонды для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) выбирали с помощью онлайн-приложения Primer3 v. 0.4.0 (http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/). Перечень выбранных молекулярных мишеней, референсный ген и последовательности олигонуклеотидных праймеров представлены в табл. 1 и табл. 2.
Таблица 1. Характеристика генов-мишеней и референсного гена, использованных в работе
Ген | Статус | Идентификатор гена в базе NCBI Gene ID | Референсная последовате- льность мРНК | Кодируемый белок |
Notch1 | Мишень | 25496 | NM_001105721.1 | Рецептор Notch типа 1 |
Notch2 | Мишень | 29492 | NM_024358.2 | Рецептор Notch типа 2 |
Yap1 | Мишень | 363014 | NM_001034002.2 | Yes-связанный белок типа 1 |
Tweak | Мишень | 360548 | NM_001001513.2 | Член суперсемейства фактора некроза опухоли 12 |
Fn14 | Мишень | 302965 | NM_181086.3 | Член суперсемейства рецепторов фактора некроза опухолей 12А, |
Ang | Мишень | 305843 | NM_001006992.1 | Ангиогенин |
Vegfa | Мишень | 83785 | NM_031836.3 | Фактор роста эндотелия сосудов A |
Nos2 | Мишень | 24599 | NM_012611.3 | Синтаза оксида азота 2 |
Cxcl12 | Мишень | 24772 | NM_001033883.1 | Хемокин подсемейства CXC |
Mmp-9 | Мишень | 81687 | NM_031055.2 | Матриксная металлопротеиназа 9 |
Hes1* | Кандидат в референсные гены | 29577 | NM_024360.4 | Фактор транскрипции 1 семейства Нes факторов с доменом bHLH |
* Ген Hes1, первоначально рассматриваемый как ген-мишень, использовали в качестве референсного, поскольку в предварительных экспериментах этот ген экспрессировался на стабильно высоком уровне [32].
Таблица 2. Нуклеотидные последовательности специфических праймеров и флуоресцентно меченных зондов генов-мишеней и референсного гена
Праймер | Нуклеотидная последовательность, 5’ → 3’ | Модификация 5’/3’ |
Notch1 прямой | GTGTCCCAAAGGCTTCAGC | |
Notch1 обратный | CGTTCTTGCATGGTGTGCT | |
Notch1 зонд | GGGCACCTGTGCCAGTATGA | FAM/BHQ1 |
Notch2 прямой | CCCTGGTTTCACAGGACCA | |
Notch2 обратный | TTCAGGCAGGGAGTACTGGA | |
Notch2 зонд | GTGCCAGATCGACATTGACGAC | FAM/BHQ1 |
Yap1 прямой | CTGCCTCAGGGCCTCTT | |
Yap1 обратный | TGTGGTCTTGTTCTTATGGTTTATG | |
Yap1 зонд | GGATGGGAGCAAGCCATGAC | FAM/BHQ1 |
Tweak прямой | CCCATTATGAGGTTCATCCAC | |
Tweak обратный | TCTCTTCCCAGCCACTCACT | |
Tweak зонд | GACAGGATGGAGCACAGGCA | FAM/BHQ1 |
Fn14 прямой | GGATGCGCAGCAGCAC | |
Fn14 обратный | CAAAACCAGGGCCAGACTAA | |
Fn14 зонд | CCTGCCCACTTCAGGATGCT | FAM/BHQ1 |
Ang прямой | TGCGAAAGTATGATGAGGAGAA | |
Ang обратный | TGTTGCCATGGATAAAGGTG | |
Ang зонд | ACCTCGCCCTGCAAAGAGGT | FAM/BHQ1 |
Vegfa прямой | GCAGATCATGCGGATCAAA | |
Vegfa обратный | ATGCTGCAGGAAGCTCATCT | |
Vegfa зонд | CCTCACCAAAGCCAGCACAT | FAM/BHQ1 |
Nos2 прямой | TCACCCAGTTGTGCATCG | |
Nos2 обратный | AGGACCAGAGGCAGCACAT | |
Nos2 зонд | GGCTGGAAGCCCCGCTAT | FAM/BHQ1 |
Cxcl12 прямой | CAGATTGTTGCAAGGCTGAA | |
Cxcl12 обратный | TCCACTTTAATTTCGGGTCAA | |
Cxcl112 зонд | AAGCAACAACAGACAAGTGTGCA | FAM/BHQ1 |
Mmp-9 прямой | CTACTCGAGCCGACGTCAC | |
Mmp-9 обратный | AGAGTACTGCTTGCCCAGGA | |
Mmp-9 зонд | GATGTGCGTCTTCCCCTTCG | FAM/BHQ1 |
Hes1 прямой | GAAAGATAGCTCCCGGCATT | |
Hes1 обратный | CGGAGGTGCTTCACTGTCAT | |
Hes1 зонд | CCAAGCTGGAGAAGGCAGACA | FAM/BHQ1 |
ПЦР-РВ проводили с использованием реагентов производства компании “Праймтех” (Беларусь). Конечный объем реакционной смеси составлял 25 мкл и содержал все необходимые компоненты: 2 мМ хлорида магния, 0.1 мМ смеси dNTP, 500 нМ олигонуклеотида, включая зонд для ПЦР-РВ, 1.25 ед. термостабильной Taq-ДНК-полимеразы в соответствующем буферном растворе. Режим термоциклирования: 95°С 2 мин, затем 40 циклов 95°С 5 с и 60°С 45 с. Детекция по каналу FAM после каждого цикла. В работе использовали прибор CFX96touch (“BioRad”, США). Эффективность реакций определяли с помощью метода стандартной кривой и серий разведений концентрированных образцов кДНК. ПЦР-РВ каждого образца биологического материала проводили в трех повторах. В каждой экспериментальной и контрольной группах все 12 образцов анализировали отдельно для получения наибольшей статистической значимости и учета внутригрупповой вариации, фенотипической гетерогенности уровня экспрессии генов.
Эффективность реакций, а также абсолютное число копий соответствующих мРНК оценивали методом стандартной кривой. Относительный уровень экспрессии мРНК определяли с помощью метода 2-∆∆Ct. Эффективность реакций варьировала менее чем на 5% и составила 94–97%.
Статистический анализ. Результаты количественных измерений оценивали с использованием программ Statistica 10.0 (“StatSoft Inc.”, США), IBM SPSS Statistics 23.0 (“An IBM Company”, 28.0.1, США), Microsoft Office Excel (“Microsoft Corp.”, США).
В выборках по каждой неделе эксперимента определяли нормальность частотного распределения признака по критерию Лиллиефорса. Получали описательные статистики и описывали количественные данные в виде средних и соответствующих доверительных интервалов (М (95% ДИ: j–q)), медианы и значения 15–85 процентилей (Ме (15%; 85%)). Об уровне статистической значимости различий изучаемых признаков (уровень экспрессии мРНК генов) в группах с нормальным частотным распределением данных судили по t-критерию Стьюдента; в случае отличия от нормального частотного распределения использовали U-критерий Манна–Уитни. Взаимосвязи между исследуемыми переменными изучали с применением факторного анализа – многомерного метода, который позволяет получить факторы из коррелирующих переменных.
Результаты и обсуждение
Одно из препятствий при разработке новых методов лечения фиброза печени – значительный недостаток данных о молекулярных механизмах этого патологического процесса у человека. Это связано с ограниченным доступом к ткани на различных стадиях заболевания. Существует проблема экстраполяции на человека результатов, получаемых на животных. Экспериментальные модели фиброза часто отражают только определенные аспекты патогенеза (воспаление или фиброгенез) не на протяжении всего заболевания [33–35]. Более того, у животных болезни развиваются быстрее, чем у человека. Необходимо помнить, что выборки пациентов значительно более гетерогенны, чем инбредные линии мышей, по внутренним (возраст, пол, сопутствующие заболевания) и внешним (диета, инфекции) факторам, которые могут влиять на уровень экспрессии генов.
В нашей работе для изучения молекулярных механизмов фиброгенеза печени у крыс был выбран ТАА. У лабораторных животных ТАА вызывает поражение печени с морфологическими характеристиками, аналогичными поражениям при фиброзе и циррозе печени у человека, поэтому он признан идеальным для оценки антиоксидантных, цитопротекторных и антифибротических соединений у экспериментальных животных [36, 37]. Нами изучено плавное нарастание прогрессирования фиброза и отслежены все стадии развития цирроза печени у крыс.
У животных контрольной группы отмечено незначительное количество соединительной ткани вокруг междольковых сосудов и желчных протоков портальных зон, центральных и собирательных вен F0 (рис. 1а).
На раннем сроке эксперимента (3 нед.) выявили умеренное формирование фиброзной соединительной ткани в портальных зонах F1 (рис. 1б). По истечении 5 и 7 нед. в паренхиме печени сформировался портальный, мостовидный, местами центролобулярный и диффузный перицеллюлярный фиброз со степенью F2/F3 и F3/F4 соответственно (рис. 1в). Через 9 нед. в области отдельных портальных зон наблюдали единичные ложные печеночные дольки, формирование которых отражает начало процесса трансформации фиброза печени в цирроз F4/F5 (рис. 1г). При дальнейшей интоксикации (11 нед.) определили диффузную перестройку паренхимы печени крыс с формированием ложных печеночных долек – неполный цирроз F5 (рис. 1д). Последующие исследования (13 нед.) показали тотальное поражение печени – достоверный цирроз F6. К концу эксперимента (15 и 17 нед., рис. 1е) отмечено выраженное диффузное разрастание фиброзных соединительно-тканных септ; формирование новых ложных печеночных долек за счет разделения крупных долек тонкими патологическими септами; диффузный портальный, перипортальный и перицеллюлярный фиброз.
Рис. 1. Фрагменты печени крыс контрольной группы (а) и крыс с индуцированным циррозом через 3 (б), 5 (в), 9 (г), 11 (д) и 17 нед. (е) после начала эксперимента. Окраска по Маллори. ×40 (а, б, д, е); ×20 (в, г). а – Центральная вена (стрелка); б – фиброзная соединительная ткань (стрелки); в – фиброзные септы между портальными зонами (стрелки); г – ложная печеночная долька (выделена овальной рамкой); д – ложные печеночные дольки (стрелки); е – выраженная деструкция печени.
Известно, что процессы инициации и прогрессирования фиброза печени регулируются сотнями генов. Морфологически фиброз и цирроз печени проявляются нарушением пластинчатого строения паренхимы, активацией и трансдифференцировкой (изменение фенотипического профиля) ряда клеток, развитием воспаления, патологическим ангиогенезом и разрастанием фиброзной соединительной ткани. Логичным представляется выбор тех генов-мишеней, которые отвечают за эти патологические процессы. Для выявления и направленного влияния этих генов на данные процессы возникает необходимость в поиске взаимосвязи между генами и определении их как факторов. Факторный анализ – это многомерный метод, который позволяет получить факторы из коррелирующих переменных [38]. С помощью данного статистического метода мы вычисляли корреляционную матрицу уровней экспрессии мРНК выбранных нами генов (Notch1, Notch2, Yap1, Tweak, Fn14, Ang, Vegfa, Cxcl12, Nos2 и Mmp-9). Затем матрицу анализировали методом главных компонент и извлекали факторы. Фактор – это скрытая переменная, вводимая для объяснения взаимосвязи между исследуемыми генами. Каждый фактор влияет на определенную совокупность генов. В результате получены три фактора, которые объединили высоко коррелирующие гены-мишени между собой (табл. 3). Определяли долю вклада факторов в общую дисперсию. Данные представлены в табл. 3.
Таблица 3. Факторные нагрузки (коэффициенты корреляции) по трем извлеченным факторам (р < 0.05)
Ген-мишень | Фактор 1 | Фактор 2 | Фактор 3 |
Ang | 0.445 | –0.024 | 0.748 |
Vegfa | 0.417 | 0.138 | 0.679 |
Cxcl12 | 0.829 | –0.024 | 0.423 |
Fn14 | 0.147 | 0.499 | –0.603 |
Tweak | 0.841 | 0.095 | 0.313 |
Mmp9 | –0.116 | 0.791 | 0.108 |
Nos2 | 0.062 | 0.578 | 0.007 |
Notch2 | 0.135 | 0.836 | –0.175 |
Notch1 | 0.848 | 0.147 | 0.125 |
Yap1 | 0.921 | –0.033 | 0.003 |
Доля общей дисперсии | 0.339 | 0.196 | 0.185 |
Для построения графика полученные факторы вращали по методу “Варимакс”, ортогональному варианту вращения, при котором оси сохраняют взаимное расположение под прямым углом. На рис. 2 представлен график факторов в трехмерных координатах.
Рис. 2. График извлеченных факторов в трехмерных координатах.
Первый фактор объединяет наибольшую долю дисперсии признаков (33.95%, табл. 3 и рис. 2) и включает четыре гена-мишени: Cxcl12 (r = 0.829), Tweak (r = 0.841), Notch1 (r = 0.848), Yap1 (r = 0.921). Этот фактор отражает взаимосвязь исследуемых генов трех сигнальных путей (Notch, TWEAK/Fn14 и Hippo) при фиброгенезе печени в рамках использованной нами экспериментальной модели. При этом следует отметить, что не все изученные гены пути Notch и TWEAK/Fn14 связаны в один фактор. Можно предположить, что гены одного и того же сигнального пути вовлечены в разные молекулярные механизмы. Уровень мРНК Cxcl12 (р = 0.0000) и Tweak (р = 0.0000) был ниже контрольного уровня на всех этапах эксперимента (рис. 3).
Рис. 3. Изменение уровней экспрессии мРНК генов первого фактора при моделировании фиброза и цирроза печени крыс.
Максимальное снижение экспрессии этих генов выявлено при достоверном циррозе F6. Гены Notch1 и Yap1 на прогрессирование фиброза печени “реагировали” несколько иначе. Максимальные падения уровня мРНК Notch1 (p < 0.00001) и Yap1 (p < 0.00001) выявлены на стадии неполного цирроза F5 по сравнению с контрольной группой (рис. 3). При этом на стадии F1 экспрессия мРНК Notch1 (р = 0.0773) и Yap1 на F1 (р = 0.3181) и F2/F3 (р = 0.5960) не отличалась от контроля. Ген Yap1 является Notch-зависимым геном, что согласуется с опубликованными данными [10–12].
Второй фактор описывает корреляции между генами Mmp-9 (r = 0.791) и Notch2 (r = 0.836) и отражает 19.62% общей дисперсии исследуемых признаков (табл. 3, рис. 2). На стадии F1 экспрессия мРНК Mmp-9 несколько снизилась. При трансформации фиброза печени в цирроз F4/F5 отмечено повышение уровня мРНК как Mmp-9, так и Notch2 (p < 0.00001) по сравнению с контрольной группой (рис. 4).
Рис. 4. Изменение уровней экспрессии мРНК генов второго фактора при моделировании фиброза и цирроза печени крыс.
В третий фактор вошли гены Ang (r = 0.748) и Vegfa (r = 0.679). Этот фактор описывает 18.51% общей дисперсии (табл. 3, рис. 2). Уровни экспрессии этих генов были снижены на протяжении всего эксперимента по сравнению с контрольной группой. На стадии достоверного цирроза F6 отмечено максимальное падение уровня мРНК Ang (p < 0.00001), а мРНК Vegfa – в 6.62 раза (p < 0.00001, рис. 5).
Рис. 5. Изменение уровней экспрессии мРНК генов третьего фактора при моделировании фиброза и цирроза печени крыс.
Ранее нами были описаны структурно-функциональные нарушения сосудистого русла печени крыс и, в частности, установленный венозный ангиогенез [39]. Согласно опубликованным данным, Ang и Vegfa кодируют проангиогенные факторы [18–20], но в настоящем исследовании их экспрессия снизилась.
Гены Nos2 и Fn14 не вошли ни в один из факторов. Судя по факторным нагрузкам, ген Fn14 нельзя присоединять ни к одному из факторов. Согласно графику нагрузок в трехмерных координатах (рис. 2), ген Nos2 можно включить во второй фактор.
Заключение
Таким образом, с помощью факторного анализа получены три фактора, которые объединили между собой гены-мишени, имеющие сильную корреляционную связь. Первый фактор включает четыре гена: Cxcl12 (r = 0.829, р < 0.05), Tweak (r = 0.841, р < 0.05), Notch1 (r = 0.848, р < 0.05), Yap1 (r = 0.921, р < 0.05). Второй фактор описывает корреляции между генами Mmp-9 (r = 0.791, р < 0.05) и Notch2 (r = 0.836, р < 0.05). В третий фактор вошли гены Ang (r = 0.748, р < 0.05) и Vegfa (r = 0.679, р < 0.05). Гены Nos2 и Fn14 не вошли ни в один из факторов. Анализ генов, классифицированных по уровню экспрессии мРНК, позволяет предположить существование патогенетической взаимосвязи продуктов этих генов в процессах фиброзных изменений печени токсической этиологии. Несомненно, полученные результаты представляют фундаментальный интерес для изучения патогенетических механизмов развития фиброза и цирроза печени.
Работа выполнена в рамках Государственной программы научных исследований “Фундаментальные и прикладные науки – медицине” Министерства Здравоохранения Республики Беларусь, задание 2.89 “Изучить роль экспрессии генов NOTCH- и TWEAK-сигнальных путей, участвующих в процессах пролиферации и дифференцировки клеток печени в норме и при ее токсическом поражении” (регистрационный номер 20190107).
Протокол эксперимента одобрен на заседании Комиссии по биоэтике и гуманному обращению с лабораторными животными при учреждении образования “Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет” (протокол № 6 от 03.01.2019 г). Все манипуляции с животными проводили в соответствии с рекомендациями Конвенции Совета Европы по охране позвоночных животных, используемых в экспериментальных и других научных целях от 18.03.1986, Директиве Совета ЕЭС от 24.11.1986 и рекомендациям FELASA Working Group Report (1994‒1996).
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
E. I. Lebedeva
Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University
Email: lebedeva.ya-elenale2013@yandex.ru
Belarus, Vitebsk, 210009
A. T. Shchastniy
Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University
Author for correspondence.
Email: lebedeva.ya-elenale2013@yandex.ru
Belarus, Vitebsk, 210009
A. S. Babenka
Belarussian State Medical University
Email: lebedeva.ya-elenale2013@yandex.ru
Belarus, Minsk, 220116
D. А. Zinovkin
Gomel State Medical University
Email: lebedeva.ya-elenale2013@yandex.ru
Belarus, Gomel, 246050
References
- Zhang D., Zhang Y., Sun B. (2022) The molecular mechanisms of liver fibrosis and its potential therapy in application. Int. J. Mol. Sci. 23(20), 12572. doi: 10.3390/ijms232012572
- Graupera I., Isus L., Coll M., Pose E., Díaz A., Vallverdú J., Rubio-Tomás T., Martínez-Sánchez C., Huelin P., Llopis M., Solé C., Fondevila C., Lozano J.J., Sancho-Bru P., Ginès P., Aloy P. (2022) Molecular characterization of chronic liver disease dynamics: from liver fibrosis to acute-on-chronic liver failure. JHEP Rep. 4(6), 100482. doi: 10.1016/j.jhepr.2022.100482
- Kachanova O., Lobov A., Malashicheva A. (2022) The role of the Notch signaling pathway in recovery of cardiac function after myocardial infarction. Int. J. Mol. Sci. 23(20), 12509. doi: 10.3390/ijms232012509
- Yuan C., Ni L., Zhang C., Wu X. (2020) The role of Notch3 signaling in kidney disease. Oxid. Med. Cell Longev. 2020, 1809408. doi: 10.1155/2020/1809408
- Salazar J.L., Yang S.A., Yamamoto S. (2020) Post-developmental roles of notch signaling in the nervous system. Biomolecules. 10(7), 985. doi: 10.3390/biom10070985
- Hosseini-Alghaderi S., Baron M. (2020) Notch3 in development, health and disease. Biomolecules. 10(3), 485. doi: 10.3390/biom10030485
- Chen Y., Gao W.K., Shu Y.Y., Ye J. (2022) Mechanisms of ductular reaction in non-alcoholic steatohepatitis. World J. Gastroenterol. 28(19), 2088‒2099. doi: 10.3748/wjg.v28.i19.2088
- Vera L., Garcia-Olloqui P., Petri E., Viñado A.C., Valera P.S., Blasco-Iturri Z., Calvo I.A., Cenzano I., Ruppert C., Zulueta J.J., Prosper F., Saez B., Pardo-Saganta A. (2021) Notch3 deficiency attenuates pulmonary fibrosis and impedes lung-function decline. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 64(4), 465‒476. doi: 10.1165/rcmb.2020-0516OC
- Adams J.M., Jafar-Nejad H. (2019) The roles of notch signaling in liver development and disease. Biomolecules. 9(10), 608. doi: 10.3390/biom9100608
- Pelullo M., Zema S., Nardozza F., Checquolo S., Screpanti I., Bellavia D. (2019) Wnt, Notch, and TGF-β pathways impinge on hedgehog signaling complexity: an open window on cancer. Front. Genet. 10, 711. doi: 10.3389/fgene.2019.00711
- Dai Y., Hao P., Sun Z., Guo Z., Xu H., Xue L., Song H., Li Y., Li S., Gao M., Si T., Zhang Y., Qi Y. (2021) Liver knockout YAP gene improved insulin resistance-induced hepatic fibrosis. J. Endocrinol. 249(2), 149‒161. doi: 10.1530/JOE-20-0561
- Yu H.X., Yao Y., Bu F.T., Chen Y., Wu Y.T., Yang Y., Chen X., Zhu Y., Wang Q., Pan X.Y., Meng X.M., Huang C., Li J. (2019) Blockade of YAP alleviates hepatic fibrosis through accelerating apoptosis and reversion of activated hepatic stellate cells. Mol. Immunol. 107, 29‒40. doi: 10.1016/j.molimm.2019.01.004
- Zheng C., Luo J., Yang Y., Dong R., Yu F.X., Zheng S. (2021) YAP activation and implications in patients and a mouse model of biliary atresia. Front. Pediatr. 8, 618226. doi: 10.3389/fped.2020.618226
- He X., Tolosa M.F., Zhang T., Goru S.K., Ulloa Severino L., Misra P.S., McEvoy C.M., Caldwell L., Szeto S.G., Gao F., Chen X., Atin C., Ki V., Vukosa N., Hu C., Zhang J., Yip C., Krizova A., Wrana J.L., Yuen D.A. (2022) Myofibroblast YAP/TAZ activation is a key step in organ fibrogenesis. JCI Insight. 7(4), e146243. doi: 10.1172/jci.insight.146243
- Wang M., Xie Z., Xu J., Feng Z. (2020) TWEAK/Fn14 axis in respiratory diseases. Clin. Chim. Acta. 509, 139‒148. doi: 10.1016/j.cca.2020.06.007
- Dwyer B.J., Jarman E.J., Gogoi-Tiwari J., Ferreira-Gonzalez S., Boulter L., Guest R.V., Kendall T.J., Kurian D., Kilpatrick A.M., Robson A.J., O’Duibhir E., Man T.Y., Campana L., Starkey Lewis P.J., Wigmore S.J., Olynyk J.K., Ramm G.A., Tirnitz-Parker J.E.E., Forbes S.J. (2021) TWEAK/Fn14 signalling promotes cholangiocarcinoma niche formation and progression. J. Hepatol. 74(4), 860‒872. doi: 10.1016/j.jhep.2020.11.018
- Zhang Y., Zeng W., Xia Y. (2021) TWEAK/Fn14 axis is an important player in fibrosis. J. Cell. Physiol. 236(5), 3304‒3316. doi: 10.1002/jcp.30089
- Lin Y., Dong M.Q., Liu Z.M., Xu M., Huang Z.H., Liu H.J., Gao Y., Zhou W. (2022) A strategy of vascular-targeted therapy for liver fibrosis. J. Hepatology. 76(3), 660‒675. doi: 10.1002/hep.32299
- Lefere S., Devisscher L., Geerts A. (2020) Angiogenesis in the progression of non-alcoholic fatty liver disease. Acta Gastroenterol. Belg. 83(2), 301‒307.
- Yang L., Yue W., Zhang H., Zhang Z., Xue R., Dong C., Liu F., Chang N., Yang L., Li L. (2022) Dual targeting of angipoietin-1 and von Willebrand factor by microRNA-671-5p attenuates liver angiogenesis and fibrosis. Hepatol. Commun. 6(6), 1425‒1442. doi: 10.1002/hep4.1888
- Friedman S.L., Pinzani M. (2022) Hepatic fibrosis 2022: unmet needs and a blueprint for the future. Hepatology. 75(2), 473‒488. doi: 10.1002/hep.32285
- Ray P., Stacer A.C., Fenner J., Cavnar S.P., Meguiar K., Brown M., Luker K.E., Luker G.D. (2015) CXCL12-γ in primary tumors drives breast cancer metastasis. Oncogene. 34(16), 2043‒2051. doi: 10.1038/onc.2014.157
- Cui L.N., Zheng X.H., Yu J.H., Han Y. (2021) Role of CXCL12-CXCR4/CXCR7 signal axis in liver regeneration and liver fibrosis. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 29(9), 900‒903. doi: 10.3760/cma.j.cn501113-20200721-00403
- Chiraunyanann T., Changsri K., Sretapunya W., Yuenyongchaiwat K., Akekawatchai C. (2019) CXCL12 G801A polymorphism is associated with significant liver fibrosis in HIV-infected Thais: a cross-sectional study. Asian Pac. J. Allergy Immunol. 37(3), 162‒170. doi: 10.12932/AP-160917-0162
- Zhang J., Li Y., Liu Q., Li R., Pu S., Yang L., Feng Y., Ma L. (2018) SKLB023 as an iNOS inhibitor alleviated liver fibrosis by inhibiting the TGF-beta/Smad signaling pathway. RSC Adv. 8(54), 30919‒30924. doi: 10.1039/c8ra04955f
- Ahmad N., Ansari M.Y., Haqqi T.M. (2020) Role of iNOS in osteoarthritis: рathological and therapeutic aspects. J. Cell Physiol. 235(10), 6366‒6376. doi: 10.1002/jcp.29607
- Kashfi K., Kannikal J., Nath N. (2021) Macrophage reprogramming and cancer therapeutics: role of iNOS-derived NO. Cells. 10(11), 3194. doi: 10.3390/cells10113194
- Tsomidis I., Notas G., Xidakis C., Voumvouraki A., Samonakis D.N., Koulentaki M., Kouroumalis E. (2022) Enzymes of fibrosis in chronic liver disease. Biomedicines. 10(12), 3179. doi: 10.3390/biomedicines10123179
- Lachowski D., Cortes E., Rice A., Pinato D., Rombouts K., Hernandez A.D.R. (2019) Matrix stiffness modulates the activity of MMP-9 and TIMP-1 in hepatic stellate cells to perpetuate fibrosis. Sci. Rep. 9(1), 7299. doi: 10.1038/s41598-019-43759-6
- Maltais L.J., Blake J.A., Chu T., Lutz C.M., Eppig J.T., Jackson I. (2002) Rules and guidelines for mouse gene, allele, and mutation nomenclature: a condensed version. Genomics. 79(4), 471‒474. doi: 10.1006/geno.2002.6747
- Everhart J.E., Wright E.C., Goodman Z.D., Dienstag J.L., Hoefs J.C., Kleiner D.E., Ghany M.G., Mills A.S., Nash S.R., Govindarajan S., Rogers T.E., Greenson J.K., Brunt E.M., Bonkovsky H.L., Morishima C., Litman H.J. (2010) HALT-C Trial Group. Prognostic value of Ishak fibrosis stage: findings from the hepatitis C antiviral long-term treatment against cirrhosis trial. Hepatology. 51(2), 585‒594. doi: 10.1002/hep.23315
- Лебедева Е.И., Щастный А.Т., Бабенко А.С. (2022) Динамика стабильности экспрессии генов sdha, hprt, prl3d1 и hes1 в рамках моделирования фиброза печени крыс. Молекуляр. медицина. 20(2), 53–62. doi: 10.29296/24999490-2022-02-08
- Sharma N., Shaikh T.B., Eedara A., Kuncha M., Sistla R., Andugulapati S.B. (2022) Dehydrozingerone ameliorates thioacetamide-induced liver fibrosis via inhibition of hepatic stellate cells activation through modulation of the MAPK pathway. Eur. J. Pharmacol. 937, 175366. doi: 10.1016/j.ejphar.2022.175366
- Chandrashekar D.V., DuBois B.N., Rashid M., Mehvar R. (2023) Effects of chronic cirrhosis induced by intraperitoneal thioacetamide injection on the protein content and Michaelis-Menten kinetics of cytochrome P450 enzymes in the rat liver microsomes. Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 132(2), 197‒210. doi: 10.1111/bcpt.13813
- Shareef S.H., Al-Medhtiy M.H., Al Rashdi A.S., Aziz P.Y., Abdulla M.A. (2023) Hepatoprotective effect of pinostrobin against thioacetamide-induced liver cirrhosis in rats. Saudi J. Biol. Sci. 30(1), 103506. doi: 10.1016/j.sjbs.2022.103506
- Walther C.P., Benoit J.S. (2021) Tubular kidney biomarker insights through factor analysis. Am. J. Kidney Dis. 78(3), 335‒337. doi: 10.1053/j.ajkd.2021.03.016
- Muthiah M.D., Huang D.Q., Zhou L., Jumat N.H., Choolani M., Chan J.K.Y., Wee A., Lim S.G., Dan Y.Y. (2019) A murine model demonstrating reversal of structural and functional correlates of cirrhosis with progenitor cell transplantation. Sci. Rep. 9(1), 15446. doi: 10.1038/s41598-019-51189-7
- Ezhilarasan D. (2023) Molecular mechanisms in thioacetamide-induced acute and chronic liver injury models. Environ. Toxicol. Pharmacol. 104093. doi: 10.1016/j.etap.2023.104093
- Лебедева Е.И., Щастный А.Т., Бабенко А.С. (2022) Взаимное снижение уровня мРНК ANG и VEGF при прогрессирующем ангиогенезе венозной системы печени крыс Wistar в экспериментальном циррозе. Молекуляр. медицина. 20(2), 53‒61.
Supplementary files