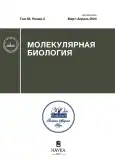Uveal melanoma: molecular-genetic mechanisms of arising and the therapeutic approaches
- Authors: Zhilnikova M.V.1,2, Troitskaya O.S.1, Novak D.D.1, Atamanov V.V.1,3, Koval O.A.1,2
-
Affiliations:
- Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch Russian Academy of Sciences
- Novosibirsk State University
- Novosibirsk Branch of S.N. Fedorov National Medical Research Center “Interindustry Scientific and Technical Complex Eye Microsurgery”
- Issue: Vol 58, No 2 (2024)
- Pages: 189-203
- Section: ОБЗОРЫ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0026-8984/article/view/265693
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0026898424020017
- EDN: https://elibrary.ru/NQWJSC
- ID: 265693
Cite item
Full Text
Abstract
Uveal melanoma (UM) is a tumor of neuroectodermal origin, which results from malignant transformation of melanocytes of the eye vasculature: iris, ciliary body and chorioidea. UM represents up to 5% of all melanoma cases, but it is extremely aggressive, since half of patients with UM develop metastases within the first 1‒2 years after the tumor appearance. Molecular mechanisms of uveal melanoma carcinogenesis are poorly understood, and have already been shown to be different from those of skin melanoma. Activating mutations in the GNAQ and GNA11 genes, encoding the large G protein subunits Gq and G11, respectively, are found in 90% of UM patients. The main signaling cascade leading to the transformation of melanocytes of the uveal tract is the signaling pathway Gaq/PKC/MAPK, and the major regulators of this cascade are targets for the development of drugs. The development of the metastatic form of UM is most often associated with mutations in the genes BAP1, EIF1AX, GNA11, GNAQ, and SF3B1. A combination of a commercial expression test panel of 15 genes and a mutation panel of 7 genes, supplemented with data on the size of the primary tumor, has been shown to be highly effective prognostic signature in prediction the risk of metastases. The risk of metastases determines the choice of therapy and patient follow-up regimen. At the same time, no systemic therapy for the treatment of metastatic UM has been developed to date; new drugs undergoing clinical trials mostly refer to either targeted therapy aimed at inhibiting the protein products of mutant genes, or immunotherapy designed to stimulate an immune response against specific antigens. In addition to these approaches, the review also considers potential therapeutic targets of epigenetic regulation of UM development.
Keywords
Full Text
Сокращения: α-МСГ – α-меланоцитстимулирующий гормон; УМ – увеальная меланома; УФ – ультрафиолетовое излучение; BAP1 – BRCA-ассоциированный белок 1; c-Met – рецептор фактора роста гепатоцитов; CAR – химерный антигенный рецептор; CYSTLR2 – цистеиниллейкотриеновый рецептор 2; DAG – диацилглицерин; EGF – эпидермальный фактор роста; EIF1AX – эукариотический фактор инициации трансляции 1А, сцепленный с Х-хромосомой; FDA ‒ Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США; FGF – фактор роста фибробластов; GNAQ, GNA11 – гены, кодирующие α-субъединицы G-белка (Gaq); HER2,3 – рецептор эпидермального фактора роста человека 2,3; HGF – фактор роста гепатоцитов; HLA –лейкоцитарный антиген человека; IP3 – инозитол-1,4,5-трифосфат; MAPK – активируемая митогенами протеинкиназа; MC1R – рецептор меланокортина-1; Mel-CAM – поверхностный гликопротеин, молекула клеточной адгезии меланомы; MITF – фактор транскрипции, ассоциированный с микрофтальмией; PD-1 – белок программируемой клеточной гибели; PDGF-B – тромбоцитарный фактор роста B; PKC – протеинкиназа С; PLCB4 – фосфолипаза С бета 4; SF3B1 – субъединица фактора сплайсинга 3b; TCR ‒ Т-клеточный рецептор; VEGF-A – фактор роста эндотелия сосудов А.
УВЕАЛЬНАЯ МЕЛАНОМА
Увеальная меланома (УМ) развивается из меланоцитов сосудистой оболочки глаза. Источником меланоцитарной опухоли могут служить пигментные клетки радужки, цилиарного тела и собственно сосудистой оболочки глаза ‒ хориоидеи, на которую приходится до 90% случаев заболевания [1]. УМ обычно является односторонним заболеванием и обнаруживается у пациентов в возрасте 50‒70 лет, хотя меланома радужки может встречаться и у более молодых людей. Меланома хориоидеи, как правило, более злокачественна, позже диагностируется, чаще метастазирует и в целом имеет наиболее неблагоприятные прогнозы [2].
Частота УМ варьирует от 1 до 9 случаев на 106 человек в год. При этом мужчины болеют чаще, чем женщины (5.8 против 4.4 случаев на 1 млн человек), у них чаще образуются метастазы (26 против 12.96% через 1 г. после постановки диагноза), а смертность в 2 раза выше [3].
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФУНКЦИИ МЕЛАНОЦИТОВ
Меланоциты – клетки нейроэктодермального происхождения, содержащие пигмент меланин. Меланоциты локализуются во многих тканях и органах человека: в базальном слое эпидермиса, волосяных фолликулах, радужной оболочке, пигментном слое сетчатки и сосудистой оболочке глаза, сосудистой полоске внутреннего уха, а также в некоторых ядрах головного мозга, например, в голубом пятне и черной субстанции [4].
Меланоциты происходят из клеток нервного гребня – структуры, образующейся между поверхностной эктодермой и нервной трубкой после замыкания последней. Клетки нервного гребня способны дифференцироваться в меланобласты, которые мигрируют в различные участки и дифференцируются в меланоциты и меланоцитарные стволовые клетки. Зрелые меланоциты с помощью многочисленных дендритов формируют контакты с окружающими клетками [5]. Мутации в генах транскрипционных факторов и сигнальных молекул, регулирующих миграцию меланобластов, приводят к гипопигментации, обусловленной недостатком меланоцитов [4].
В меланоцитах синтезируются две основные формы меланина – черный/коричневый эумеланин и красный/желтый феомеланин. Синтез меланина происходит в лизосомоподобных структурах меланоцитов – меланосомах, проходящих по мере накопления в них меланина четыре стадии зрелости (рис. 1) [6].
Рис. 1. Стадии созревания меланосом. АГ – аппарат Гольджи.
Главным регулятором пигментации у многих видов позвоночных, в том числе у человека, является α-меланоцитстимулирующий гормон (α-МСГ), который синтезируется в кератиноцитах и фибробластах, окружающих меланоциты. Недостаточная продукция паракринных факторов кератиноцитами и фибробластами вызывает нарушения пигментации. α-МСГ действует как агонист рецептора меланокортина-1 (MC1R) на меланоцитах. Сигнальный каскад MC1R приводит к активации фактора транскрипции, ассоциированного с микрофтальмией (MITF), который регулирует экспрессию генов ряда ферментов, участвующих в синтезе меланина (например, тирозингидроксилазы или тирозиназы). Мутации в гене MC1R приводят к появлению на поверхности меланоцитов нефункциональных рецепторов к α-МСГ и, как следствие, снижают меланогенез в ответ на УФ, что повышает их уязвимость для злокачественной трансформации в меланому [7].
Субстратом для синтеза эумеланина и феомеланина служит тирозин. Тирозингидроксилаза последовательно катализирует гидроксилирование L-тирозина в L-дофу и ее окисление до дофахинона. Далее пути биосинтеза эумеланина и феомеланина расходятся. Образовавшийся из дофахинона дофахром спонтанно или под воздействием таутомеразы TYRP2 превращается в индольные, а затем под воздействием белка 1, связанного с тирозиназой (TYRP1), в хиноновые соединения, которые полимеризуются и формируют эумеланин. Феомеланин получается из спонтанно образовавшейся из дофахинона циклодофы, которая конъюгирует с тиолсодержащими молекулами – L-цистеином или глутатионом. Активные формы кислорода ускоряют полимеризацию звеньев меланина. В отдельных меланоцитах обычно синтезируются как эумеланины, так и феомеланины, причем соотношение этих двух форм определяется балансом ферментов [9].
Транспорт зрелых меланосом из перинуклеарной зоны к периферии меланоцита и затем к окончанию дендрита опосредуется микротрубочками и актиновыми филаментами. Секреция кератиноцитами эндотелина и ацетилхолина приводит к Са2+-зависимому экзоцитозу меланосом, накопленных в окончаниях меланоцитарных дендритов, которые захватываются кератиноцитами [10]. Нарушение транспорта меланосом приводит к гипопигментации кожи и волос [4]. Оказавшись в кератиноцитах, меланосомы распределяются над ядром, образуя колпачковидные структуры. Меланин служит физическим барьером, рассеивающим и поглощающим УФ-излучение [7].
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ
Молекулярные механизмы канцерогенеза УМ отличаются от механизмов, определяющих возникновение меланомы кожи, хотя факторами риска обеих разновидностей меланомы считаются определенные фенотипические особенности: светлая кожа, глаза и волосы, повышенная чувствительность к солнцу, большое число невусов – доброкачественных скоплений меланоцитов. Кроме того, в развитии увеальной и особенно хориоидальной меланомы УФ отводится незначительная роль; в геноме лишь примерно у трети детектируемых УМ обнаруживают нуклеотидные замены, ассоциированные с УФ-повреждениями. Воздействие УФ рассматривают как одну из возможных причин возникновения только меланомы радужки, более доступной для излучения. Так, в клетках меланомы радужки обнаружены драйверные мутации в генах BRAF, NRAS и KIT, как и в кожной меланоме [11].
Драйверными мутациями, необходимыми для опухолевой трансформации меланоцитов сосудистой оболочки, являются мутации в гене GNAQ, кодирующем субъединицу α-q белка G (гуанинсвязывающий белок), или в его паралоге – гене GNA11, кодирующем субъединицу α-11 белка G. Более 90% всех случаев УМ несут мутации в этих генах в позициях Q209 и R183, усиливающие GTPазную активность белка G [12, 13]. Сигнальный путь Gα11/Q ассоциирован с геном CYSTLR2, кодирующим цистеиниллейкотриеновый рецептор 2, который участвует в регуляции пролиферации и клеточного роста. Сигнальный каскад запускается связыванием лейкотриенов с CYSTLR2, однако мутации в GNAQ и GNA11 ведут к конститутивной CYSTLR2-независимой активации белка G. Также мутация Leu129Gln в самом гене CYSTLR2, которая встречается в 10% случаев УМ, ведет к потере чувствительности рецептора к стимуляции лейкотриеном и постоянной лиганднезависимой активации рецептора [14]. Это приводит к активации сигнальных путей, способствующих росту и пролиферации клеток, основные из которых MAPK и FAK/YAP [15]. Мутации в гене GNAQ относятся к ранним событиям онкогенеза, их наличие не позволяет дифференцировать риск метастазирования [16]. Клетки, не несущие мутаций в генах GNAQ и GNA11, часто содержат мутации в гене фосфолипазы С β4 (PLCB4), с которой взаимодействует GNAQ/11 и гидролизует мембранный фосфолипид PIP2 (фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат) до диацилглицерина (DAG) и инозитол-1,4,5-трифосфата (IP3). DAG и IP3 как вторичные посредники регулируют множество клеточных процессов, основной из которых ‒ активация протеинкиназы С (PKC). РКС фосфорилирует фактор RasGRP3 в положении Т133 и активирует путь MAPK. Ранее считали, что неканоническая активация пути FAK/YAP через GNAQ/11 в УМ не зависит от PLCβ [17, 18], но недавно было показано, что PKC, активированная PLCβ-зависимым путем, может также фосфорилировать белки из каскада FAK (киназа фокальной адгезии), что ведет к активации онкогенного пути YAP [19]. Тем не менее этот путь реализуется значительно реже, чем пути MAPK.
Схематически онкогенный каскад в клетках УМ представлен на рис. 2. Наиболее исчерпывающее исследование потенциальных механизмов трансформации меланоцитов с развитием УМ было проведено на клеточных моделях УМ с применением методов геномного редактирования и фармакологических ингибиторов всех стадий передачи сигнала, расположенных ниже рецептора CYSTLR2 [19]. Оказалось, что все онкогенные пути в УМ проходят через PLCβ, а путь CYSTLR2→GNAQ/11→PLCβ является линейным сигнальным модулем. В подавляющем большинстве образцов УМ, но не меланомы кожи, выявлен высокий уровень активности PLCβ и большое количество RasGRP3.
Рис. 2. Сигнальный каскад цистеиниллейкотриенового рецептора 2. ЭПР ‒ эндоплазматический ретикулум. Объяснения в тексте.
Второе важное мутационное событие ‒ потеря одной копии хромосомы 3 и соматические мутации в гене ВАР1 на сохранившейся гомологичной хромосоме 3p21.1, инактивирующие этот белок с функцией опухолевого супрессора. Мутации в гене ВАР1 обычно встречаются у пациентов, возраст которых (30‒59 лет) меньше среднего возраста (62 года) пациентов с УМ [16]. По статистике такие пациенты имеют высокий риск метастазирования. Белок BAP1 (BRCA-ассоциированный белок 1) ‒ это С-концевая убиквитингидролаза, которая локализуется в ядре и удаляет убиквитиновые метки с белкового субстрата, преимущественно с гистона H2A. ВАР1 является многофункциональным белком, он регулирует клеточный цикл и рост клеток, репарацию повреждений ДНК, процессы клеточной гибели и перестройку хроматина [20]. Потеря функции ВАР1 ингибирует гомологичную репарацию ДНК, в результате чего двухцепочечные разрывы ДНК в клетке начинают чаще репарироваться с негомологичным соединением концов [1]. Кроме того, инактивация ВАР1 ведет к потере способности клеток дифференцироваться в меланоциты и усиливает метастазирование. Применение ингибиторов деацетилазы гистонов (HDAC) компенсирует отсутствие BAP1 и возвращает клеткам способность дифференцироваться в меланоциты в экспериментах in vitro [21]. Таким образом, препараты, стимулирующие дифференцировку меланоцитов, могут иметь терапевтический потенциал при УМ. В некоторых УМ обнаруживаются мутации в кодоне R625 гена SF3B1 (фактор сплайсинга 3В субъединицы 1), что ведет к появлению альтернативных форм некоторых мРНК и некодирующих регуляторных РНК, а также в гене EIF1AX (эукариотический фактор инициации трансляции 1А, сцепленный с Х-хромосомой) [22].
К распространенными хромосомными аномалиями при УМ относятся также делеции 1p, 6q и 8p и увеличение числа фрагментов 1q, 6p и 8q. Кроме того, наблюдается нарушение регуляции экспрессии генов, участвующих в дифференцировке и функционировании меланоцитов, что ведет к возвращению меланоцитов в недифференцированное состояние [23].
МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ
Благодаря высокой степени васкуляризации сосудистой оболочки глаза клетки УМ распространяются в отдаленные органы через кровоток. Метастазы УМ обнаруживают более чем у половины пациентов, наиболее часто в печени (свыше 90% метастазов), легких, костях, коже и лимфоузлах. Отмечено, что УМ образует метастазы еще до того, как появляется клиническая возможность диагностировать саму опухоль, – это так называемые микрометастазы или отдельные опухолевые меланоциты. Среднее время жизни пациентов с обнаруженными метастазами – от 6 до 12 мес. [24].
Для того, чтобы покинуть первичную опухоль и закрепиться в новом органе, клетки УМ должны приобрести дополнительные мутации. В метастазах, как и в первичных опухолях, обнаруживают мутации в генах GNAQ (или GNA11), ВАР1 и SF3B1, что указывает на их более раннее появление и позволяет считать драйверными [1]. К более поздним мутационным событиям, ассоциированным с метастазированием, относятся мутации в генах факторов перестройки хроматина (PBRM1 и EZH2), а также в генах CDKN2A, TP53, однако не установлено точно, какой вклад каждая из этих мутаций вносит в процесс метастазирования [25]. Ретроспективное изучение изменений в транскриптоме клеток меланомы с неблагоприятным прогнозом показало, что в метастазирующих опухолях существенно изменена экспрессия генов, связанных с процессами программируемой клеточной гибели – пироптозом и аутофагией. Нарушения в экспрессии пяти генов, связанных с пироптозом ‒ GSDMC, GSDMD, IL6, NLRP6 и PLCG1, положительно коррелировали с формированием неблагоприятного микроокружения опухоли, что позволяло меланоцитам пролиферировать, инвазировать и быстро мигрировать по мере развития опухоли [26]. В образцах УМ с высоким риском развития метастазов увеличена экспрессия генов, связанных с ангиогенезом, сигнальным путем IL6-JAK-STAT3, окислительным фосфорилированием и метаболизмом активных форм кислорода. Отмечена также высокая экспрессия гена DLC-1, кодирующего Rho-зависимую GTPазу (RhoGAP), связанную с инвазией и метастазированием меланомы кожи через активацию пути FOXK1/MMP9 [27].
Из первичной опухоли метастазирующие клетки проникают сначала через кровеносную систему в кроветворные органы – костный мозг и селезенку, а затем в печень. Преимущественное метастазирование клеток УМ в печень связывают с синтезом в ней различных факторов роста, рецепторы которых, часто в повышенном количестве, присутствуют на поверхности опухолевых меланоцитов. Так, меланоциты экспрессируют рецептор c-Met, лигандом которого является фактор роста гепатоцитов (HGF), синтезируемый звездчатыми клетками печени [25]. Активированные звездчатые клетки секретируют также большой репертуар факторов роста фибробластов (FGF). Присутствие на поверхности опухолевых меланоцитов большого количества рецепторов FGF (FGFR) связано с низкой выживаемостью пациентов с УМ. Применение ингибиторов FGFR снижало FGF-зависимую пролиферацию опухолевых меланоцитов in vitro [28]. В печени клетки УМ могут располагаться либо вблизи портальных вен, либо в перисинусоидальных пространствах. В ответ на гипоксию меланоциты начинают активно продуцировать фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), стимулируя ангиогенез [25].
В некоторых клеточных линиях УМ выявлена экспрессия рецепторов семейства эпидермального фактора роста (EGFR/HER1, HER2, HER3), что также может быть одной из причин преобладающего развития метастазов именно в печени [29, 30]. Кроме того, прогрессированию и метастазированию УМ способствуют молекулы клеточный адгезии Mel-CAM, представленные на клетках первичной опухоли [31]. Mel-CAM является рецептором факторов роста и различных компонентов внеклеточного матрикса (ламинин, галектин-3), а также корецептором VEGFR2 (лиганд VEGF-A) и PDGFR-β (лиганд PDGF-B), что определяет его роль в опухолевом ангиогенезе [32]. Также отмечено участие Mel-CAM в васкулогенной мимикрии опухолевых клеток, что выражается в формировании капилляроподобных структур и стимуляции эпителиально-мезенхимального перехода опухолевых меланоцитов. Показано, что таргетное ингибирование Mel-CAM с помощью малых интерферирующих РНК или моноклональных антител снижает метастазирование и рост опухоли [33].
Поскольку клетки УМ распространяются по организму гематогенным путем, основными малоинвазивными методами оценки риска метастазирования и поиска новых маркеров метастазирования могут быть жидкостная биопсия крови и анализ образцов костного мозга. Показано, что активация звездчатых клеток печени и последующие изменения внеклеточного матрикса могут регулироваться секретомом из экзосом опухолевых меланоцитов. Такие экзосомы содержат белки, нуклеиновые кислоты и метаболиты, которые доставляют в преметастатические ниши, подготавливая микроокружение к инвазии опухолевых клеток [34]. С целью ранней диагностики изучено присутствие клеток метастатической УМ (МУМ) с антигенами MCSP (протеохондроитинсульфат, ассоциированный с меланомой) и HMB45 в образцах костного мозга пациентов [35]. Показано, что на ранних стадиях развития МУМ опухолевые клетки присутствуют в костном мозге и представляют собой “дремлющую” опухолевую нишу. Спустя 8.5 лет у 43% пациентов с диагностированными опухолевым меланоцитами в костном мозге было зафиксировано развитие метастазов, что подтвердило концепцию опухолевой ниши из отдельных клеток меланомы, дремлющих в отдаленных органах на ранних этапах развития первичной опухоли [36]. Подобные дремлющие клетки меланомы детектированы и в печени на самых ранних стадиях УМ [37]. Традиционные методы терапии, направленные на быстро делящиеся клетки, будут неэффективны в отношении дремлющих клеток меланомы. Предполагается, что дремлющий режим диссеминированных опухолевых клеток является результатом баланса между анти- и протуморогенными иммунными и воспалительными реакциями, сбоя в активации ангиогенного переключателя, генетической модуляции метастазирования генами-супрессорами и связанными с ними сигнальными путями.
В качестве метода предсказания метастазов опробован также поиск клеток меланомы, циркулирующих в крови пациентов [38, 39]. Как правило, циркулирующие клетки меланомы определяют методом ПЦР по экспрессии в них мРНК тирозиназы или иммуноокрашиванием антигена MCSP [39]. Тем не менее прогностическая значимость детекции циркулирующих опухолевых клеток для оценки риска развития МУМ до сих пор не подтверждена. Можно надеяться, что усовершенствование методов детекции циркулирующих клеток меланомы, позволяющее одновременно определять присутствие нескольких специфических маркеров клетки, позволит снизить неспецифические эффекты и повысить прогностическую значимость жидкостной биопсии при УМ.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ И ОЦЕНКА РИСКА МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ
Риск метастазирования УМ во многом зависит от гистологического типа клеток меланомы. Выделяют веретенообразные клетки с мелким ядром без видимых ядрышек, веретенообразные с крупным ядром и отчетливыми ядрышками, эпителиоидные полигональной формы с одним или несколькими ядрышками и клетки промежуточного типа, более мелкие, чем эпителиоидные. Опухоли с преобладанием эпителиоидных клеток обладают повышенной способностью к формированию метастазов по сравнению с опухолями, состоящими из веретенообразных клеток или имеющими смешанный клеточный состав [40]. На основании профиля экспрессии генов, способности к метастазированию, а также метаболических и иммунологических характеристик можно выделить молекулярные подтипы УМ. Robertson A. G. и соавт. впервые выделили четыре молекулярных подтипа УМ [13]. Молекулярные классификации УМ, предложенные Оrtega M. и соавт. [41] и Jager M. G. и соавт. [25], во многом схожи, поэтому далее будет рассмотрен их обобщенный вариант.
УМ по благоприятности прогнозов можно разделить на два класса (табл. 1): прогностически благоприятный класс 1 и прогностически неблагоприятный класс 2. Между этими классами существуют цитогенетические различия, основное из которых – моносомия хромосомы 3, характерная для опухолей класса 2.
Таблица 1. Молекулярная классификация увеальной меланомы*
Класс УМ | Подкласс | Клинико-патологические факторы | Хромосома 3, число копий | Хромосома 8q | Хромосома 6р | Ключевая мутация в гене | Риск метастазирования | Воспаление |
1 | А | - | 2 | Две копии | Увеличение числа копий части/целой хромосомы | EIF1AX | < 2% | - |
B | Возраст < 50 лет | 2 | Увеличение числа копий части хромосомы | Увеличение числа копий | SF3B1 | < 21% | - | |
2 | C | Большой диаметр опухоли, хорошая васкуляризация, высокая митотическая активность | 1 | Три копии и более | Две копии | BAP1 | 74% | - |
D | 1 | Три копии и более; изохромосома 8q | Две копии | BAP1 | 74% | + |
*Адаптировано по [25].
Кроме того, в каждом из классов выделяют по два подкласса: А и В в классе 1, C и D в классе 2. Подклассу А класса 1 в меньшей степени свойственны геномные мутации, он характеризуется низким риском метастазирования и имеет мутации в гене EIF1AX. В подклассе В увеличено число копий хромосомы 6р и иногда части хромосомы 8q, повышен риск метастазирования и представлены мутации в гене SF3B1. Наиболее высокий риск метастазирования характерен для подклассов C и D с потерей или инактивирующей мутацией в гене BAP1 и увеличением числа копий хромосомы 8q до трех и более. Мутации в генах EIF1AX, SF3B1 и BAP1 являются взаимоисключающими и служат ключевыми прогностическими маркерами в определении дальнейших преобразований каждого подкласса УМ.
На основе работ Onken M.D. и соавт. [43] компанией “Castle Biosciences” (США) разработан тест DecisionDx-UM транскрипционного анализа 15 генов в образцах первичной УМ для предсказания риска метастазирования в течение 5 лет [44, 45]. В образцах определяют уровень экспрессии генов CDH1, ECM1, EIF1B, FXR1, HTR2B, ID2, LMCD1, LTA4H, MTUS1, RAB31, ROBO1, SATB1 и трех контрольных генов. Показано, что DecisionDx-UM-тестирование обеспечивает значительное повышение прогностической точности у пациентов с УМ по сравнению с клинической классификацией TNM, учитывающей наличие метастазов в лимфоузлах и результаты анализа статуса хромосомы 3. Статус хромосомы 3 не обеспечивает прогностической информации, которая не зависит от результатов DecisionDx-UM-теста (GEP-тест). Для более точного прогнозирования позже была разработана дополнительная панель DecisionDx-UMSeq, в которой методом секвенирования оценивают мутации в семи генах, значимых для метастазирования УМ (GNAQ, GNA11, CYSLTR2, PLCB4 и SF3B1), и определяют в них “горячие” точечные мутации. В гене EIF1AX выявляют мутации в первом и втором экзонах, в гене BAP1 анализируют мутации во всех экзонах. В ретроспективных исследованиях показано, что мутации в генах EIF1AX и SF3B1 ассоциированы с лучшим прогнозом по сравнению с мутациями в гене BAP1 [22, 46]. УМ с мутацией в гене EIF1AX относятся к опухолям с наименьшим риском метастазов. К первому классу относятся УМ с низким риском метастазирования в течение 5 лет – в классе 1А риск развития метастазов составляет до 2%, в классе 1В до 21%; ко второму классу – УМ с высоким риском метастазирования – до 72% [44]. На основании данных классификации УМ принимают решение о выборе терапии и частоте наблюдений пациентов в течение года и далее [47]. Кроме того, опубликованы работы, ставящие под сомнение однозначность выводов на основании только DecisionDx-UM-теста. Показано, что прогностический риск может быть оценен более точно, если учитывать результаты дискриминационного теста DecisionDx-UM и размеры опухоли у пациентов с УМ хориоидеи или цилиарного тела. Учет размера опухоли улучшал прогнозирование на основе DecisionDx-UM-теста [48]. Тем не менее нужно учитывать и другие показатели, кроме размера, например, стадию заболевания и гистологический тип клеток УМ [49, 50].
ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ
Терапия первичной опухоли
Выбор терапевтического подхода к лечению первичной УМ зависит от многих факторов, в числе которых размер и локализация опухоли, а также возраст и состояние здоровья пациента. Большие (> 8 мм) опухоли преимущественно удаляют путем энуклеации, при этом частота повторного развития опухоли достаточно низкая [51]. Однако в последнее время наблюдаются тенденции к выбору способов терапии первичной УМ, позволяющих сохранить глаз и зрение. Так, применяют два хирургических подхода – трансретинальную и транссклеральную эндорезекцию, которые обеспечивают высокие шансы сохранения зрения, однако повышают риск рецидива опухоли по сравнению с энуклеацией. Также распространена лучевая терапия, в частности, брахитерапия радиоизотопами 125I и 106Ru, при которой излучение воздействует непосредственно на глазную опухоль. Этот подход позволяет минимизировать возможные негативные воздействия на другие ткани, а частота рецидива остается низкой [52].
Терапия метастатической увеальной меланомы
Применение таких химиопрепаратов, как дакарбазин, темозоломид, цисплатин, треосульфан, фотемустин, винкристин, а также их различных комбинаций оказалось неэффективным при МУМ [53]. УМ имеет ряд особенностей, которые делают ее менее восприимчивой к современным иммунотерапевтическим подходам, чем меланома кожи. Показано, что адоптивный перенос аутологичных опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов (TIL) не способствует регрессии метастатической УМ [54].
Схемы системной терапии МУМ в настоящее время не разработаны. В 2022 году FDA одобрило первый лекарственный препарат против метастатической УМ – KIMMTRAK® (общее название тебентафусп) (URL: https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2022). Тебентафусп – это химерный белок, состоящий из эффекторной анти-CD3-части и вариабельного фрагмента Т-клеточного рецептора (TCR), специфичного к фрагменту антигена gp100 [55]. Такая химерная молекула двойной специфичности формирует “синапс”, сближающий CD3+ Т-клетки с клетками УМ. Мембранный гликопротеин gp100 экспрессируется на высоком уровне в трансформированных меланоцитах, на среднем уровне в нормальных меланоцитах и участвует в созревании меланосом, поэтому его рассматривают как потенциальную терапевтическую мишень. Однако антиген gp100 узнается в комплексе с HLA-A*0201, найденным только примерно у половины представителей европеоидной расы, что ограничивает применение препарата [56]. Согласно недавно опубликованным результатам международного клинического исследования III фазы, медиана общей выживаемости у получавших тебентафусп пациентов с УМ была значительно увеличена по сравнению с пациентами контрольной группы – c 16 до 21.7 мес. соответственно [57]. Поскольку одобрено применение тебентафуспа пациентами с подтипом HLA-A2*02:0, встает необходимость в разработке подобного препарата для других подтипов HLA. Таким препаратом может стать RO7293583, биспецифическое антитело к CD3 и TYRP1, испытания которого проходят на пациентах с TYRP1-положительной меланомой вне зависимости от подтипа HLA (NCT04551352) [58]. TYRP1, связанный c тирозиназой белок 1, поддерживает стабильность тирозиназы и участвует в синтезе эумеланина и поддержании структур меланосом.
Избежать ограничений в виде различных вариантов HLA для Т-клеточной терапии у пациентов можно благодаря применению Т-клеток с химерным антигенным рецептором (CAR-T-клеток). В доклинических испытаниях показано, что препараты CAR-T, нацеленные на HER2, эффективно уничтожают клетки УМ [59]. В настоящий момент в фазе I клинических испытаний проходит препарат на основе CAR-T-клеток к антигену GD2 (NCT03635632). Этот антиген широко экспрессируется в опухолях нейроэктодермального происхождения, в том числе в клетках УМ, и усиливает пролиферацию, миграцию и адгезию опухолевых клеток [60].
Комбинация таргетной терапии и радиотерапии помогла добиться устойчивого ответа на лечение пациентов с МУМ. Так, эффективные при кожной меланоме препараты на основе антител ‒ ниволумаб и ипилимумаб использовали в сочетании с радиоэмболизацией с препаратом иттрия (Y-90) [61]. Ниволумаб представляет собой антитело к белку программируемой клеточной гибели PD-1, который экспрессируется на Т-клетках. При канцерогенезе PD-1 взаимодействует со своим лигандом PD-L1, в избытке представленном на поверхности опухолевых клеток, что приводит к снижению пролиферации Т-клеток и их гибели. Применение ниволумаба позволяет блокировать это взаимодействие и запустить иммунный ответ против опухолевых меланоцитов. Ипилимумаб – антитело к рецептору CTLA-4 Т-лимфоцитов, взаимодействие которого с CD80 и CD86 на поверхности меланоцитов предотвращает активацию иммунных клеток. Соответственно, применение ипилимумаба стимулирует активацию Т-клеток, специфичных к опухолевым антигенам [62]. В настоящий момент проходят клинические испытания (NCT02913417, NCT03472586) комбинированной терапии ниволумабом и ипилимумабом при УМ.
Как уже отмечено, в клетках УМ постоянно активирован сигнальный путь, в который вовлечена PKC и нижестоящий сигнальный каскад Ras/Raf/MEK/ERK. Соответственно, белки этого сигнального каскада могут служить молекулярными мишенями для противоопухолевых средств. Одним из первых исследованных веществ, воздействующих на данный сигнальный путь, был ингибитор киназы МЕК – селуметиниб, который проходит фазу I клинических испытаний (NCT02768766). Тем не менее ингибирование MEK часто активирует аутофагию, способствующую выживанию опухолевых клеток. Описано успешное применение комбинации ингибитора MEK и ингибитора аутофагии гидроксихлорохина [63]. В качестве потенциальной мишени рассматривается и РКС, для которой разработаны ингибиторы, такие как сотрастаурин (первого поколения) и препарат LXS196, или даровасертиб, проходящий в настоящее время клинические испытания (I/II фазы по ускоренному протоколу для орфанных препаратов) на когорте из 68 пациентов с метастатической формой УМ [64–68]. Даровасертиб представляет собой малую молекулу с молекулярной массой 472.48, способную ингибировать классические изоформы РКС (α, β), а также ее новые изоформы δ, ϵ, η, θ.
Клетки УМ несут рецепторы половых гормонов, в частности, эстрогенов. Высокая экспрессия рецепторов эстрогенов ассоциирована с преимущественно эпителиоидной морфологией клеток, моносомией хромосомы 3 и мутацией в ВАР1, которые часто ассоциированы с последующим метастазированием [69]. Поэтому рецепторы эстрогенов рассматриваются как возможные мишени для гормональной терапии УМ с использованием их селективных модуляторов. Так, in vitro показано, что использование тамоксифена, антагониста рецептора эстрогена, снижает взаимодействие клеток УМ с матриксом, предотвращая инвазию и метастазирование опухоли [70].
В развитии УМ участвуют нарушения эпигенетической регуляции экспрессии генов, в частности, аберрантное метилирование ДНК и модификации гистонов, а также некодирующие РНК, такие как микроРНК и длинные некодирующие РНК [71]. Экспрессия генов микроРНК регулируется уровнем метилирования их промоторов, поэтому гипометилирующие агенты, такие как 5-аза-2’-дезоксицитидин, способствуют повышению экспрессии микроРНК, что показано для микроРНК-137 [72]. В клетках УМ микроРНК-137 действует как опухолевый супрессор, поэтому активация ее экспрессии может подавлять опухолевую прогрессию. Показано, что микроРНК 181a-5p ингибирует развитие УМ посредством взаимодействия с белками GNAQ и AKT3 [73], поэтому активация экспрессии микроРНК 181a-5p может подавлять опухолевую прогрессию.
В доклинических испытаниях успешными оказались ингибиторы деацетилазы гистонов (HDAC) и ДНК-метилтрансферазы, вызывающие остановку роста и инвазии клеток УМ [52]. Показано, что ингибирование HDAC способствует переходу УМ из класса высокого риска метастазирования в класс низкого риска метастазирования [74]. Ингибиторы HDAC, такие как вориностат (SAHA) и панобиностат (LBH589), могут использоваться в адъювантной терапии пациентов с УМ из подкласса высокого риска метастазирования, участвуя в предотвращении разрастания микрометастазов [21]. При скрининге хинолиновых производных в качестве потенциальных ингибиторов HDAC показано, что ингибирование HDAC-6 наиболее эффективно подавляет жизнеспособность клеток УМ в культуре [75]. Поэтому HDAC-6 рассматривается как многообещающая терапевтическая мишень при УМ. Селективный ингибитор HDAC-6, ACY-1215 (риколиностат) подавлял рост клеток УМ in vitro и in vivo [76]. Также предложен универсальный пан-HDAC ингибитор энтиностат, который, в том числе в комбинации с пембролизумабом, уже испытывается на пациентах [77].
В табл. 2 представлены основные таргетные препараты, проходящие доклинические и клинические исследования, в качестве средств для лечения УМ. На настоящий момент в базу данных ClinicalTrials.gov депонированы данные более чем о 70 продолжающихся клинических испытаниях препаратов и их комбинаций для противоопухолевой терапии УМ, значительная часть из которых предназначена для иммунотерапии и таргетной терапии, что подтверждает приоритетность этих направлений.
Таблица 2. Таргетные препараты, одобренные для лечения УМ и МУМ и проходящие испытания
Молекулярная мишень | Агент | Препарат | Показания | Стадия испытаний | Ссылка |
gp100 | Химерное антитело с двойной специфичностью | Тебентафусп | УМ, МУМ, генотип CD3+-T клеток HLA-A*0201 | Фаза II | [55–57] |
TYRP1 | Химерное антитело с двойной специфичностью | RO7293583 | TYRP-положительные УМ, меланома кожи, меланома слизистых оболочек, не зависит от типа HLA Т-клеток | Фаза I | [58] |
PD-1 | Антитело | Ниволумаб Пембролизумаб | МУМ | Фаза II | |
CTLA-4 | Антитело | Ипилимумаб | МУМ | Фаза II | [61] |
GD2 | CAR-T-клетки | - | GD2-положительные УМ и меланома кожи | Фаза I | |
HER2 | CAR-T-клетки | - | HER2-положительные УМ и меланома кожи, резистентные к анти-PD-1 терапии | Иссл | [59] |
Gaq | Ингибитор GTPазной активности | Имидазопиперазин (GQ262) | УМ с мутациями в GNAQ/11 | Иссл | [80] |
FR900359 (циклический диксипептид) | УМ, МУМ | Иссл | |||
YM-254890 (циклический диксипептид) | УМ, МУМ с активирующими мутациями в GNAQ/11 и дикого типа | Иссл | [82–84] | ||
PKC | Ингибитор изоформы PKC β | Сотрастаурин (AEB071) | Солидные опухоли, в том числе УМ | Фаза II прекращена | |
Ингибитор изоформ PKC (α, β, δ, ϵ, η, θ) | Даровасертиб (LXS196) | МУМ | Фаза I/ II | ||
MEK | Специфический ингибитор киназной активности MEK1/2 | Селуметиниб (AZD6244, ARRY-142886) | МУМ с активирующими мутациями в GNAQ/11 | Фаза III | [86] |
Аллостерический ингибитор тирозинкиназ второго поколения | Траметиниб | МУМ | Фаза II | ||
Ингибитор тирозинкиназ с широкой специфичностью | Кабозантиниб | МУМ | Фаза II | [88] | |
FAK | Обратимый селективный ингибитор киназной активности | VS-4718 | МУМ | Фаза I | [85] |
С-Met | Ингибитор MET и фактора роста гепатоцитов HGFR | Кризотиниб | МУМ | Фаза II | |
VEGF | Рекомбинантное гуманизированное антитело | Бевацизумаб (авастин) | МУМ | Фаза II | [90] |
Фрагмент гуманизированного антитела | Ранибизумаб | МУМ | Иссл | [91] | |
HDAC | Ингибитор гистондеацетилаз | Вориностат (SAHA) | МУМ | Фаза II | |
Ингибитор HDAC6 | Риколиностат (ACY-1215) | МУМ | Фаза Ib | [75] |
Примечание. МУМ – метастатическая увеальная меланома; Иссл – фаза доклинических исследований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метастатические формы УМ плохо отвечают как на стандартные методы химиотерапии, так и на большинство новых иммунотерапевтических подходов. Редкая встречаемость МУМ не позволяет проводить широкомасштабные клинические испытания новых методов и препаратов, что ограничивает прогресс в лечении. Тем не менее нельзя не отметить успех, связанный с созданием биспецифических рекомбинантных антител, таких, например, как gp100-таргетированный препарат тебентафусп, одобренный FDA в 2022 году. Очевидно, что в ближайшее время подобные препараты будут разработаны и для других специфических мишеней УМ. Более глубокое понимание активации молекулярных каскадов, расположенных как ниже, так и выше GNAQ/11, также может стать источником потенциальных мишеней УМ для создания терапевтических ингибиторов.
Среди других потенциальных мишеней можно выделить эпигенетические маркеры клеток УМ, такие как деацетилазы гистонов, ингибиторы, которые уже проходят клинические испытания, и микроРНК, положительные эффекты регуляции которых пока оцениваются только в фундаментальных исследованиях и требуют более детального изучения.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№ 23-14-00285) (разделы “Молекулярные механизмы развития увеальной меланомы”, “Метастазирование увеальной меланомы”, “Молекулярно-генетическая классификация увеальной меланомы и оценка риска метастазирования” и “Противоопухолевая терапия увеальной меланомы”) и выполнено в рамках государственного задания ИХБФМ СО РАН (№ 121030200173-6) (разделы “Увеальная меланома” и “Происхождение и функции меланоцитов”).
Настоящая работа выполнена без привлечения людей и животных в качестве объектов исследования.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
M. V. Zhilnikova
Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch Russian Academy of Sciences; Novosibirsk State University
Email: o.koval@ngs.ru
Russian Federation, Novosibirsk, 630090; Novosibirsk, 630090
O. S. Troitskaya
Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch Russian Academy of Sciences
Email: o.koval@ngs.ru
Russian Federation, Novosibirsk, 630090
D. D. Novak
Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch Russian Academy of Sciences
Email: o.koval@ngs.ru
Russian Federation, Novosibirsk, 630090
V. V. Atamanov
Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch Russian Academy of Sciences; Novosibirsk Branch of S.N. Fedorov National Medical Research Center “Interindustry Scientific and Technical Complex Eye Microsurgery”
Email: o.koval@ngs.ru
Russian Federation, Novosibirsk, 630090; Novosibirsk, 630096
O. A. Koval
Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch Russian Academy of Sciences; Novosibirsk State University
Author for correspondence.
Email: o.koval@ngs.ru
Russian Federation, Novosibirsk, 630090; Novosibirsk, 630090
References
- Smit K.N., Jager M.J., De Klein A., Kiliҫ E. (2020) Uveal melanoma: towards a molecular understanding. Prog. Retin. Eye Res. 75, 100800.
- Shields C.L., Manalac J., Das C., Ferguson K., Shields J.A. (2014) Choroidal melanoma: clinical features, classification, and top 10 pseudomelanomas. Curr. Opin. Ophthalmol. 25(3), 177–185.
- Singh A.D., Turell M.E., Topham A.K. (2011) Uveal melanoma: trends in incidence, treatment, and survival. Ophthalmology. 118(9), 1881–1885.
- Lin J.Y., Fisher D.E. (2007) Melanocyte biology and skin pigmentation. Nature. 445(7130), 843–850.
- Bertrand J., Steingrimsson E., Jouenne F., Paillerets B., Larue L. (2020) Melanoma risk and melanocyte biology. Acta Derm. Venereol. 100(11), 272–283.
- D’Alba L., Shawkey M.D. (2019) Melanosomes: biogenesis, properties, and evolution of an ancient organelle. Physiol. Rev. 99(1), 1–19.
- Upadhyay P.R., Ho T., Abdel‐Malek Z.A. (2021) Participation of keratinocyte‐ and fibroblast‐derived factors in melanocyte homeostasis, the response to UV, and pigmentary disorders. Pigment. Cell Melanoma Res. 34(4), 762–776.
- Ohbayashi N., Fukuda M. (2020) Recent advances in understanding the molecular basis of melanogenesis in melanocytes. F1000Res. 9, 608.
- Solano F. (2020) Photoprotection and skin pigmentation: melanin-related molecules and some other new agents obtained from natural sources. Molecules. 25(7), 1537.
- Li M., Knapp S.K., Iden S. (2020) Mechanisms of melanocyte polarity and differentiation: What can we learn from other neuroectoderm-derived lineages? Curr. Opin. Cell Biol. 67, 99–108.
- Van Der Kooij M.K., Speetjens F.M., Van Der Burg S.H., Kapiteijn E. (2019) Uveal versus cutaneous melanoma; same origin, very distinct tumor types. Cancers. 11(6), 845.
- Van Raamsdonk C.D., Griewank K.G., Crosby M.B., Garrido M.C., Vemula S., Wiesner T., Obenauf A.C., Wackernagel W., Green G., Bouvier N., Sozen M.M., Baimukanova G., Roy R., Heguy A., Dolgalev I., Khanin R., Busam K., Speicher M.R., O’Brien J., Bastian B.C. (2010) Mutations in GNA11 in uveal melanoma. N. Engl. J. Med. 363(23), 2191–2199.
- Robertson A.G., Shih J., Yau C., Gibb E.A., Oba J., Mungall K.L., Hess J.M., Uzunangelov V., Walter V., Danilova L., Lichtenberg T.M., Kucherlapati M., Kimes P.K., Tang M., Penson A., Babur O., Akbani R., Bristow C.A., Hoadley K.A., Iype L., Chang M.T., Cherniack A.D., Benz C., Mills G.B., Verhaak R.G.W., Griewank K.G., Felau I., Zenklusen J.C., Gershenwald J.E., Schoenfield L., Lazar A.J., Abdel-Rahman M.H., Roman-Roman S., Stern M.-H., Cebulla C.M., Williams M.D., Jager M.J., Coupland S.E., Esmaeli B., Kandoth C., Woodman S.E., (2017) Integrative analysis identifies four molecular and clinical subsets in uveal melanoma. Cancer Cell. 32(2), 204‒220.e15.
- Moore A.R., Ceraudo E., Sher J.J., Guan Y., Shoushtari A.N., Chang M.T., Zhang J.Q., Walczak E.G., Kazmi M.A., Taylor B.S., Huber T., Chi P., Sakmar T.P., Chen Y. (2016) Recurrent activating mutations of G-protein-coupled receptor CYSLTR2 in uveal melanoma. Nat. Genet. 48(6), 675–680.
- Park J.J., Diefenbach R.J., Joshua A.M., Kefford R.F., Carlino M.S., Rizos H. (2018) Oncogenic signaling in uveal melanoma. Pigment. Cell Melanoma Res. 31(6), 661–672.
- Harbour J.W., Onken M.D., Roberson E.D.O., Duan S., Cao L., Worley L.A., Council M.L., Matatall K.A., Helms C., Bowcock A.M. (2010) Frequent mutation of BAP1 in metastasizing uveal melanomas. Science. 330(6009), 1410–1413.
- Feng X., Arang N., Rigiracciolo D.C., Lee J.S., Yeerna H., Wang Z., Lubrano S., Kishore A., Pachter J.A., König G.M., Maggiolini M., Kostenis E., Schlaepfer D.D., Tamayo P., Chen Q., Ruppin E., Gutkind J.S. (2019) A platform of synthetic lethal gene interaction networks reveals that the GNAQ uveal melanoma oncogene controls the hippo pathway through FAK. Cancer Cell. 35(3), 457–472.e5.
- Paradis J.S., Acosta M., Saddawi-Konefka R., Kishore A., Lubrano S., Gomes F., Arang N., Tiago M., Coma S., Wu X., Ford K., Day C.-P., Merlino G., Mali P., Pachter J.A., Sato T., Aplin A.E., Gutkind J.S. (2021) Synthetic lethal screens reveal cotargeting FAK and MEK as a multimodal precision therapy for GNAQ-driven uveal melanoma. Clin. Cancer Res. 27(11), 3190–3200.
- Ma J., Weng L., Bastian B.C., Chen X. (2021) Functional characterization of uveal melanoma oncogenes. Oncogene. 40(4), 806–820.
- Louie B.H., Kurzrock R. (2020) BAP1: not just a BRCA1-associated protein. Cancer Treat. Rev. 90, 102091.
- Landreville S., Agapova O.A., Matatall K.A., Kneass Z.T., Onken M.D., Lee R.S., Bowcock A.M., Harbour J.W. (2012) Histone deacetylase inhibitors induce growth arrest and differentiation in uveal melanoma. Clin. Cancer Res. 18(2), 408–416.
- Furney S.J., Pedersen M., Gentien D., Dumont A.G., Rapinat A., Desjardins L., Turajlic S., Piperno-Neumann S., De La Grange P., Roman-Roman S., Stern M.-H., Marais R. (2013) SF3B1 mutations are associated with alternative splicing in uveal melanoma. Cancer Discov. 3(10), 1122–1129.
- Souto E.B., Zielinska A., Luis M., Carbone C., Martins-Gomes C., Souto S.B., Silva A.M. (2019) Uveal melanoma: physiopathology and new in situ-specific therapies. Cancer Chemother. Pharmacol. 84(1), 15–32.
- Seedor R.S., Eschelman D.J., Gonsalves C.F., Adamo R.D., Orloff M., Amjad A., Sharpe-Mills E., Chervoneva I., Shields C.L., Shields J.A., Mastrangelo M.J., Sato T. (2020) An outcome assessment of a single institution’s longitudinal experience with uveal melanoma patients with liver metastasis. Cancers. 12(1), 117.
- Jager M.J., Shields C.L., Cebulla C.M., Abdel-Rahman M.H., Grossniklaus H.E., Stern M.-H., Carvajal R.D., Belfort R.N., Jia R., Shields J.A., Damato B.E. (2020) Uveal melanoma. Nat. Rev. Dis. Primers. 6(1), 24.
- Zhang F., Deng Y., Wang D., Wang S. (2022) Construction and validation of a pyroptosis-related gene signature associated with the tumor microenvironment in uveal melanoma. Sci. Rep. 12(1), 1640.
- Yang X., Hu F., Liu J.A., Yu S., Cheung M.P.L., Liu X., Ng I.O.-L., Guan X.-Y., Wong K.K.W., Sharma R., Lung H.L., Jiao Y., Lee L.T.O., Cheung M. (2020) Nuclear DLC1 exerts oncogenic function through association with FOXK1 for cooperative activation of MMP9 expression in melanoma. Oncogene. 39(20), 4061–4076.
- Seitz T., John N., Sommer J., Dietrich P., Thasler W.E., Hartmann A., Evert K., Lang S.A., Bosserhoff A., Hellerbrand C. (2022) Role of fibroblast growth factors in the crosstalk of hepatic stellate cells and uveal melanoma cells in the liver metastatic niche. Int. J. Mol. Sci. 23(19), 11524.
- Trocmé E., Mougiakakos D., Johansson C.C., All-Eriksson C., Economou M.A., Larsson O., Seregard S., Kiessling R., Lin Y. (2012) Nuclear HER3 is associated with favorable overall survival in uveal melanoma. Int. J. Cancer. 130(5), 1120–1127.
- Amaro A., Mirisola V., Angelini G., Musso A., Tosetti F., Esposito A.I., Perri P., Lanza F., Nasciuti F., Mosci C., Puzone R., Salvi S., Truini M., Poggi A., Pfeffer U. (2013) Evidence of epidermal growth factor receptor expression in uveal melanoma: inhibition of epidermal growth factor-mediated signalling by Gefitinib and Cetuximab triggered antibody-dependent cellular cytotoxicity. Eur. J. Cancer. 49(15), 3353–3365.
- Lai K., Sharma V., Jager M.J., Conway R.M., Madigan M.C. (2007) Expression and distribution of MUC18 in human uveal melanoma. Virchows Arch. 451(5), 967–976.
- Wang Z., Xu Q., Zhang N., Du X., Xu G., Yan X. (2020) CD146, from a melanoma cell adhesion molecule to a signaling receptor. Sig. Transduct. Target Ther. 5(1), 148.
- Zhang R., Chen X., Chen S., Tang J., Chen F., Lin Y., Reinach P.S., Yan X., Tu L., Duan H., Qu J., Hou Q. (2022) Inhibition of CD146 lessens uveal melanoma progression through reducing angiogenesis and vasculogenic mimicry. Cell Oncol. 45(4), 557–572.
- Piquet L., Coutant K., Mitchell A., Ben Anes A., Bollmann E., Schoonjans N., Bérubé J., Bordelea F., Brisson A., Landreville S. (2022) Extracellular vesicles from ocular melanoma have pro-fibrotic and pro-angiogenic properties on the tumor microenvironment. Cells. 11(23), 3828.
- Eide N., Hoifødt H.K., Nesland J.M., Faye R.S., Qvale G.A., Faber R.T., Jebsen P., Kvalheim G., Fodstad Ø. (2013) Disseminated tumour cells in bone marrow of patients with uveal melanoma. Acta Ophthalmol. 91(4), 343–348.
- Eide N., Faye R.S., Høifødt H.K., Sandvik L., Qvale G.A., Faber R., Jebsen P., Kvalheim G., Fodstad Ø. (2019) The results of stricter inclusion criteria in an immunomagnetic detection study of micrometastatic cells in bone marrow of uveal melanoma patients – relevance for dormancy. Pathol. Oncol. Res. 25(1), 255–262.
- Mallone F., Sacchetti M., Lambiase A., Moramarco A. (2020) Molecular insights and emerging strategies for treatment of metastatic uveal melanoma. Cancers. 12(10), 2761.
- Torres V., Triozzi P., Eng C., Tubbs R., Schoenfiled L., Crabb J.W., Saunthararajah Y., Singh A.D. (2011) Circulating tumor cells in uveal melanoma. Future Oncol. 7 (1), 101–109.
- Jin E., Burnier J.V. (2021) Liquid biopsy in uveal melanoma: are we there yet? Ocul. Oncol. Pathol. 7(1), 1–16.
- Amaro A., Gangemi R., Piaggio F., Angelini G., Barisione G., Ferrini S., Pfeffer U. (2017) The biology of uveal melanoma. Cancer Metastasis Rev. 36(1), 109–140.
- Ortega M., Fraile-Martínez O., García-Honduvilla N., Coca S., Álvarez-Mon M., Buján J., Teus M. (2020) Update on uveal melanoma: translational research from biology to clinical practice (Review). Int. J. Oncol. 57(6), 1262–1279.
- Smolková B., Demková L. (2020) Epigenetic changes in malignant uveal melanoma and possibilities of their therapeutic targeting. Cesk. Slov. Oftalmol. 76(2), 103–110.
- Onken M.D., Worley L.A., Char D.H., Augsburger J.J., Correa Z.M., Nudleman E., Aaberg T.M., Altaweel M.M., Bardenstein D.S., Finger P.T., Gallie B.L., Harocopos G.J., Hovland P.G., McGowan H.D., Milman T., Mruthyunjaya P., Simpson E.R., Smith M.E., Wilson D.J., Wirostko W.J., Harbour J.W. (2012) Collaborative ocular oncology group report number 1: prospective validation of a multi-gene prognostic assay in uveal melanoma. Ophthalmology. 119(8), 1596–1603.
- Aaberg T.M., Covington K.R., Tsai T., Shildkrot Y., Plasseraud K.M., Alsina K.M., Oelschlager K.M., Monzon F.A. (2020) Gene expression profiling in uveal melanoma: five-year prospective outcomes and meta-analysis. Ocul. Oncol. Pathol. 6(5), 360–367.
- Williams B.K., Siegel J.J., Alsina K.M., Johnston L., Sisco A., LiPira K., Selig S.M., Hovland P.G. (2022) Uveal melanoma patient attitudes towards prognostic testing using gene expression profiling. Melanoma Manag. 9(3), 2867.
- Decatur C.L., Ong E., Garg N., Anbunathan H., Bowcock A.M., Field M.G., Harbour J.W. (2016) Driver mutations in uveal melanoma: associations with gene expression profile and patient outcomes. JAMA Ophthalmol. 134(7), 728.
- Plasseraud K.M., Cook R.W., Tsai T., Shildkrot Y., Middlebrook B., Maetzold D., Wilkinson J., Stone J., Johnson C., Oelschlager K., Aaberg T.M. (2016) Clinical performance and management outcomes with the DecisionDx-UM gene expression profile test in a prospective multicenter study. J. Oncol. 2016, 1–9.
- Binkley E.M., Bena J.F., Davanzo J.M., Hinz C., Boldt H.C., Singh A.D. (2020) Gene expression profiling prognostication of posterior uveal melanoma. Ophthalmol. Retina. 4(6), 620–629.
- Ballhausen A., Urias E., Gruschkus S.K., Williams M., Glover M.S., Qin Y., Gombos D.S., Patel S.P. (2021) Metastatic risk factors associated with class 1A uveal melanoma patients. Cancers. 13(13), 3292.
- Augsburger J.J., Skinner C.C., Correa Z.M. (2022) Comparative metastatic rates in GEP class 1A versus 1B posterior uveal melanoma: results contrary to expectations. Ocul. Oncol. Pathol. 8(4–6), 242–249.
- Slater K., Hoo P.S., Buckley A.M., Piulats J.M., Villanueva A., Portela A., Kennedy B.N. (2018) Evaluation of oncogenic cysteinyl leukotriene receptor 2 as a therapeutic target for uveal melanoma. Cancer Metastasis Rev. 37(2–3), 335–345.
- Chokhachi Baradaran P., Kozovska Z., Furdova A., Smolkova B. (2020) Targeting epigenetic modifications in uveal melanoma. Int. J. Mol. Sci. 21(15), 5314.
- Gupta A., Gomes F., Lorigan P. (2017) The role for chemotherapy in the modern management of melanoma. Melanoma Manag. 4(2), 125–136.
- Chandran S.S., Somerville R.P.T., Yang J.C., Sherry R.M., Klebanoff C.A., Goff S.L., Wunderlich J.R., Danforth D.N., Zlott D., Paria B.C., Sabesan A.C., Srivastava A.K., Xi L., Pham T.H., Raffeld M., White D.E., Toomey M.A., Rosenberg S.A., Kammula U.S. (2017) Treatment of metastatic uveal melanoma with adoptive transfer of tumour-infiltrating lymphocytes: a single-centre, two-stage, single-arm, phase 2 study. Lancet Oncol. 18(6), 792–802.
- Damato B.E., Dukes J., Goodall H., Carvajal R.D. (2019) Tebentafusp: T cell redirection for the treatment of metastatic uveal melanoma. Cancers. 11(7), 971.
- Middleton M.R., McAlpine C., Woodcock V.K., Corrie P., Infante J.R., Steven N.M., Evans T.R.J., Anthoney A., Shoushtari A.N., Hamid O., Gupta A., Vardeu A., Leach E., Naidoo R., Stanhope S., Lewis S., Hurst J., O’Kelly I., Sznol M. (2020) Tebentafusp, a TCR/anti-CD3 bispecific fusion protein targeting gp100, potently activated antitumor immune responses in patients with metastatic melanoma. Clin. Cancer Res. 26(22), 5869–5878.
- Martinez-Perez D., Viñal D., Solares I., Espinosa E., Feliu J. (2021) Gp-100 as a novel therapeutic target in uveal melanoma. Cancers. 13(23), 5968.
- Sandker G.G.W., Middelburg J., Wilbrink E., Molkenboer-Kuenen J., Aarntzen E.H.J.G., Van Hall T., Heskamp S. (2023) Imaging the pharmacokinetics and therapeutic availability of the bispecific CD3xTRP1 antibody in syngeneic mouse tumor models. bioRxiv. 2023.06. doi: 10.1101/2023.06.06.543829.
- Forsberg E.M.V., Lindberg M.F., Jespersen H., Alsén S., Bagge R.O., Donia M., Svane I.M., Nilsson O., Ny L., Nilsson L.M., Nilsson J.A. (2019) HER2 CAR-T cells eradicate uveal melanoma and T-cell therapy–resistant human melanoma in IL2 transgenic NOD/SCID IL2 receptor knockout mice. Cancer Res. 79(5), 899–904.
- Nazha B., Ina C., Owonikoko T.K. (2020) Disialoganglioside GD2 expression in solid tumors and role as a target for cancer therapy. Front. Oncol. 10, 1000.
- Pelster M.S., Gruschkus S.K., Bassett R., Gombos D.S., Shephard M., Posada L., Glover M.S., Simien R., Diab A., Hwu P., Carter B.W., Patel S.P. (2021) Nivolumab and ipilimumab in metastatic uveal melanoma: results from a single-arm phase II study. J. Clin. Oncol. 39(6), 599–607.
- Koppolu V., Rekha Vasigala V. (2018) Checkpoint immunotherapy by nivolumab for treatment of metastatic melanoma. J. Can. Res Ther. 14(6), 1167.
- Truong A., Yoo J.H., Scherzer M.T., Sanchez J.M.S., Dale K.J., Kinsey C.G., Richards J.R., Shin D., Ghazi P.C., Onken M.D., Blumer K.J., Odelberg S.J., McMahon M. (2020) Chloroquine sensitizes GNAQ/11-mutated melanoma to MEK1/2 inhibition. Clin. Cancer Res. 26(23), 6374–6386.
- Wu X., Li J., Zhu M., Fletcher J.A., Hodi F.S. (2012) Protein kinase C inhibitor AEB071 targets ocular melanoma harboring GNAQ mutations via effects on the PKC/Erk1/2 and PKC/NF-κB pathways. Mol. Cancer Ther. 11(9), 1905–1914.
- Park J.J., Stewart A., Irvine M., Pedersen B., Ming Z., Carlino M.S., Diefenbach R.J., Rizos H. (2022) Protein kinase inhibitor responses in uveal melanoma reflects a diminished dependency on PKC-MAPK signaling. Cancer Gene Ther. 29(10), 1384–1393.
- Piperno-Neumann S., Carlino M.S., Boni V., Loirat D., Speetjens F.M., Park J.J., Calvo E., Carvajal R.D., Nyakas M., Gonzalez-Maffe J., Zhu X., Shirley M.D., Ramkumar T., Fessehatsion A., Burks H.E., Yerramilli-Rao P., Kapiteijn E. (2023) A phase I trial of LXS196, a protein kinase C (PKC) inhibitor, for metastatic uveal melanoma. Br. J. Cancer. 128(6), 1040–1051.
- Chua V., Lapadula D., Randolph C., Benovic J.L., Wedegaertner P.B., Aplin A.E. (2017) Dysregulated GPCR signaling and therapeutic options in uveal melanoma. Mol. Cancer Res. 15 (5), 501–506.
- Lietman C.D., McKean M. (2022) Targeting GNAQ/11 through PKC inhibition in uveal melanoma. Cancer Gene Ther. 29(12), 1809–1813.
- Schoenfield L., Janse S., Kline D., Aronow M.E., Singh A.D., Craven C., Abdel-Rahman M., Cebulla C.M. (2021) Estrogen receptor is expressed in uveal melanoma: a potential target for therapy. Ocul. Oncol. Pathol. 7(4), 303–310.
- Miller M., Schoenfield L., Abdel-Rahman M., Cebulla C.M. (2021) Is uveal melanoma a hormonally sensitive cancer? A review of the impact of sex hormones and pregnancy on uveal melanoma. Ocul. Oncol. Pathol. 7(4), 239–250.
- Smit K.N., Chang J., Derks K., Vaarwater J., Brands T., Verdijk R.M., Wiemer E.A.C., Mensink H.W., Pothof J., De Klein A., Kilic E. (2019) Aberrant microRNA expression and its implications for uveal melanoma metastasis. Cancers. 11(6), 815.
- Chen X., Wang J., Shen H., Lu J., Li C., Hu D.-N., Dong X.D., Yan D., Tu L. (2011) Epigenetics, microRNAs, and carcinogenesis: functional role of microRNA-137 in uveal melanoma. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 52(3), 1193‒1199.
- Wang R., Tahiri H., Yang C., Landreville S., Callejo S., Hardy P. (2023) MiR-181a-5p inhibits uveal melanoma development by targeting GNAQ and AKT3. Am. J. Cancer Res. 13(1), 293–306.
- Moschos M.M., Dettoraki M., Androudi S., Kalogeropoulos D., Lavaris A., Garmpis N., Damaskos C., Garmpi A., Tsatsos M. (2018) The role of histone deacetylase inhibitors in uveal melanoma: current evidence. Anticancer Res. 38(7), 3817–3824.
- Nencetti S., Cuffaro D., Nuti E., Ciccone L., Rossello A., Fabbi M., Ballante F., Ortore G., Carbotti G., Campelli F., Banti I., Gangemi R., Marshall G.R., Orlandini E. (2021) Identification of histone deacetylase inhibitors with (arylidene)aminoxy scaffold active in uveal melanoma cell lines. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 36(1), 34–47.
- Sundaramurthi H., García-Mulero S., Tonelotto V., Slater K., Marcone S., Piulats J.M., Watson R.W., Tobin D.J., Jensen L.D., Kennedy B.N. (2022) Uveal melanoma cell line proliferation is inhibited by ricolinostat, a histone deacetylase inhibitor. Cancers. 14(3), 782.
- Ny L., Jespersen H., Karlsson J., Alsén S., Filges S., All-Eriksson C., Andersson B., Carneiro A., Helgadottir H., Levin M., Ljuslinder I., Olofsson Bagge R., Sah V.R., Stierner U., Ståhlberg A., Ullenhag G., Nilsson L.M., Nilsson J.A. (2021) The PEMDAC phase 2 study of pembrolizumab and entinostat in patients with metastatic uveal melanoma. Nat. Commun. 12(1), 5155.
- Jansen Y.J.L., Seremet T., Neyns B. (2020) Pembrolizumab for the treatment of uveal melanoma: a case series. Rare Tumors. 12, 203636132097198.
- Gargett T., Yu W., Dotti G., Yvon E.S., Christo S.N., Hayball J.D., Lewis I.D., Brenner M.K., Brown M.P. (2016) GD2-specific CAR T cells undergo potent activation and deletion following antigen encounter but can be protected from activation-induced cell death by PD-1 blockade. Mol. Ther. 24(6), 1135–1149.
- Ge Y., Deng J.-J., Zhu J., Liu L., Ouyang S., Song Z., Zhang X., Xiong X.-F. (2022) Discovery of small molecule Gαq/11 protein inhibitors against uveal melanoma. Acta Pharm. Sin. B. 12(8), 3326–3340.
- Onken M.D., Makepeace C.M., Kaltenbronn K.M., Kanai S.M., Todd T.D., Wang S., Broekelmann T.J., Rao P.K., Cooper J.A., Blumer K.J. (2018) Targeting nucleotide exchange to inhibit constitutively active G protein α subunits in cancer cells. Sci. Signal. 11(546), eaao6852.
- Onken M.D., Makepeace C.M., Kaltenbronn K.M., Choi J., Hernandez-Aya L., Weilbaecher K.N., Piggott K.D., Rao P.K., Yuede C.M., Dixon A.J., Osei-Owusu P., Cooper J.A., Blumer K.J. (2021) Targeting primary and metastatic uveal melanoma with a G protein inhibitor. J. Biol. Chem. 296, 100403.
- Hitchman T.D., Bayshtok G., Ceraudo E., Moore A.R., Lee C., Jia R., Wang N., Pachai M.R., Shoushtari A.N., Francis J.H., Guan Y., Chen J., Chang M.T., Taylor B.S., Sakmar T.P., Huber T., Chi P., Chen Y. (2021) Combined inhibition of Gαq and MEK enhances therapeutic efficacy in uveal melanoma. Clin. Cancer Res. 27 (5), 1476–1490.
- Lapadula D., Lam B., Terai M., Sugase T., Tanaka R., Farias E., Kadamb R., Lopez-Anton M., Heine C.C., Modasia B., Aguirre-Ghiso J.A., Aplin A.E., Sato T., Benovic J.L. (2023) IGF1R inhibition enhances the therapeutic effects of Gq/11 inhibition in metastatic uveal melanoma progression. Mol. Cancer Ther. 22(1), 63–74.
- Tarin M., Némati F., Decaudin D., Canbezdi C., Marande B., Silva L., Derrien H., Jochemsen A.G., Gardrat S., Piperno-Neumann S., Rodrigues M., Mariani P., Cassoux N., Stern M.-H., Roman-Roman S., Alsafadi S. (2023) FAK inhibitor-based combinations with MEK or PKC inhibitors trigger synergistic antitumor effects in uveal melanoma. Cancers. 15(8), 2280.
- Carvajal R.D., Piperno-Neumann S., Kapiteijn E., Chapman P.B., Frank S., Joshua A.M., Piulats J.M., Wolter P., Cocquyt V., Chmielowski B., Evans T.R.J., Gastaud L., Linette G., Berking C., Schachter J., Rodrigues M.J., Shoushtari A.N., Clemett D., Ghiorghiu D., Mariani G., Spratt S., Lovick S., Barker P., Kilgour E., Lai Z., Schwartz G.K., Nathan P. (2018) Selumetinib in combination with dacarbazine in patients with metastatic uveal melanoma: a phase III, multicenter, randomized trial (SUMIT). J. Clin. Oncol. 36(12), 1232–1239.
- Amaro A.A., Gangemi R., Emionite L., Castagnola P., Filaci G., Jager M.J., Tanda E.T., Spagnolo F., Mascherini M., Pfeffer U., Croce M. (2023) Cerivastatin synergizes with trametinib and enhances its efficacy in the therapy of uveal melanoma. Cancers. 15(3), 886.
- Luke J.J., Olson D.J., Allred J.B., Strand C.A., Bao R., Zha Y., Carll T., Labadie B.W., Bastos B.R., Butler M.O., Hogg D., Munster P.N., Schwartz G.K. (2020) Randomized phase II trial and tumor mutational spectrum analysis from cabozantinib versus chemotherapy in metastatic uveal melanoma (Alliance A091201). Clin. Cancer Res. 26(4), 804–811.
- Khan S., Lutzky J., Shoushtari A.N., Jeter J., Marr B., Olencki T.E., Cebulla C.M., Abdel-Rahman M., Harbour J.W., Sender N., Nesson A., Singh-Kandah S., Hernandez S., King J., Katari M.S., Dimapanat L., Izard S., Ambrosini G., Surriga O., Rai A.J., Chiuzan C., Schwartz G.K., Carvajal R.D. (2022) Adjuvant crizotinib in high-risk uveal melanoma following definitive therapy. Front. Oncol. 12, 976837.
- Yang H., Jager M.J., Grossniklaus H.E. (2010) Bevacizumab suppression of establishment of micrometastases in experimental ocular melanoma. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 51(6), 2835.
- Li J., Cui Y., Wang Q., Guo D., Pan X., Wang X., Bi H., Chen W., Liu Z., Zhao S. (2014) The proliferation of malignant melanoma cells could be inhibited by ranibizumab via antagonizing VEGF through VEGFR1. Mol. Vis. 20, 649–660.
- Haas N.B., Quirt I., Hotte S., McWhirter E., Polintan R., Litwin S., Adams P.D., McBryan T., Wang L., Martin L.P., vonMehren M., Alpaugh R.K., Zweibel J., Oza A. (2014) Phase II trial of vorinostat in advanced melanoma. Invest. New. Drugs. 32(3), 526–534.
Supplementary files