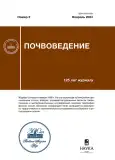Биопродуктивность и микроэлементный состав злаково-бобовых травосмесей на техноземе при внесении минеральных удобрений
- Авторы: Болонева Л.Н.1, Лаврентьева И.Н.1, Меркушева М.Г.1, Убугунов Л.Л.1, Убугунов В.Л.1, Сосорова С.Б.1
-
Учреждения:
- Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 330-344
- Раздел: АГРОХИМИЯ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0032-180X/article/view/261916
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24020101
- EDN: https://elibrary.ru/XYAYOA
- ID: 261916
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Оценено влияние посевов злаково-бобовых травосмесей и применения минеральных удобрений на техноземе, созданном после ликвидации хвостохранилища Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (Республика Бурятия), на изменение концентраций микроэлементов в растениях и образование дернины. Содержание валовых и подвижных форм ряда микроэлементов в верхнем супесчаном слое технозема было выше, чем в фоновой почве, превосходило медианный фон для почв Забайкалья. По коэффициенту суммарного загрязнения (Zc = 18.8) верхний слой характеризовался как умеренно-опасный, нижний суглинистый – неопасный (Zc = 4). Выявлено, что применение удобрений снижало концентрацию микроэлементов и коэффициенты их накопления в растениях. По интенсивности биологического поглощения большая часть элементов в надземной фитомассе отнесена к группе среднего захвата, в подземной – среднего и интенсивного поглощения, что свидетельствует о ее фитостабилизационной роли. Установлено, что биопродуктивность травосмесей в контроле была низкой. Внесение удобрений увеличивало этот показатель на второй год жизни трав до среднего уровня, на третий – до высокого, а на четвертый год сформировалась дернина, закрепляющая поверхностные слои и способствующая увеличению содержания органического вещества. Результаты исследований могут быть использованы на техноземах, созданных из вскрышных отвалов, для фитостабилизации и инициации накопления органического вещества в них за счет посевов высокопродуктивных многолетних трав и применения минеральных удобрений.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Отличительной геохимической чертой горнопромышленных ландшафтов является трудноконтролируемое рассеяние больших масс веществ с аномально высоким содержанием элементов [27]. По данным [20], техногенные потоки вещества часто на порядок превышают их естественные уровни в экосистемах вблизи рудных месторождений. Насыпные и намывные хвостохранилища отходов переработки руд вольфрамо-молибденовых месторождений, склады аварийных сбросов являются источниками загрязнения подземных и надземных вод, почвенно-растительного покрова элементами-металлами и другими канцерогенами в концентрациях, угрожающих здоровью населения прилегающих территорий. Такая кризисная экологическая обстановка характерна для природных и агроландшафтов в зоне влияния Джидинского вольфрамо-молибденового комбината в Западном Забайкалье [12, 13, 28, 33, 34, 35] и бывшего Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината в Приэльбрусье [2, 3, 10].
Многолетнее нахождение значительных объемов техногенных песков в горной местности без проведения рекультивационных мероприятий приводит к их развеиванию и переносу. Происходит качественное преобразование отходов под воздействием различных факторов, усиливающих растворимость и миграцию элементов-металлов за пределы зон хранения, увеличивая интенсивность загрязнения окружающей среды. Например, техногенные пески Джидинского вольфрамо-молибденового комбината имеют максимальный показатель суммарного загрязнения (330) с ассоциацией химических элементов W151Cd81Pb43Mo18Zn14As11Cu9Sb9Ni2 (нижний индекс – коэффициент концентрации элемента), а загрязненные ими почвы из-за угнетения биологической активности характеризуются низкой способностью к самоочищению [13].
При ликвидации хвостохранилищ определенное количество отходов остается на поверхности почв, поэтому проводится техническая рекультивация нанесением слоев грунта. В горной местности для этих целей используются вскрышные отвалы месторождений, как правило, находящихся вблизи производства [1, 21]. Такие грунты часто имеют не совсем пригодный для растений состав по содержанию макро- и микроэлементов, а также отличаются по форме нахождения элементов-металлов по сравнению с загрязненными ими почвами [16, 39]. Продукция выращиваемых на них растений лимитируется низкой доступностью основных питательных веществ и (или) наличием чрезмерных концентраций потенциально токсичных элементов, которые конкурируют за одни и те же переносчики [47, 52]. Подвижность и фитодоступность микроэлементов контролируется в основном такими химическими процессами, как осаждение–растворение, адсорбция–десорбция и комплексообразование [26, 44, 45, 46]. Использование удобрений может снизить токсичность микроэлементов за счет большей доступности в местах транспорта, усиления биохимических реакций и физиологических процессов в растениях, в том числе водоудерживающей способности тканей растений. Следовательно, поддержка защитных возможностей растений оптимизацией минерального питания является необходимым условием эффективной ремедиации техногенных почв [23, 27].
Биологическая рекультивация грунтов направлена на нормализацию экологических условий окружающих ландшафтов, а также на инициацию почвообразовательного процесса, прежде всего, на накопление органического вещества за счет создания дернового горизонта. Для этого применяют технологии фитостабилизации с посевом высокопродуктивных многолетних трав (злаки и бобовые), которые не являются аккумуляторами элементов-металлов, однако обладают различными механизмами устойчивости для уменьшения подвижности ионов и укрепления субстрата [40, 42, 51]. Это происходит преимущественно за счет абсорбции и аккумуляции металлов корневой системой трав, их адсорбции на поверхности корней, осаждения и связывания органическими соединениями в ризосфере [22, 41, 48, 49, 50]. Особенности транспорта и распределения металлов в корнях растений определяют их способность накапливать элементы в подземных или надземных органах, обусловливая принадлежность вида к группе исключателей или аккумуляторов соответственно [33].
Биопродуктивность фитоценозов – наиболее подвижный и обобщающий показатель жизненности слагающих травостой видов. Специфический характер реакции растений на условия обитания, от которых зависит формирование биомассы, во многом определяется особенностями строения, развития и распределения их корневой системы. Эти факторы влияют на интенсивность поглощения и накопления макро- и микроэлементов фитомассой травостоев, на обогащение или обеднение почв, на которых они произрастают.
Несмотря на наличие большого числа публикаций по рекультивации нарушенных земель, процессы формирования почвенно-растительного покрова остаются малоизученными, так как имеют четко выраженную региональную и индивидуальную специфику.
Цель исследования – оценка влияния посевов злаково-бобовых травосмесей и минеральных удобрений на биопродуктивность трав, изменение в них концентраций микроэлементов и активизацию формирования дернины в техноземе.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в 2016–2019 гг. на четвертом рекультивированном участке (рис. 1) территории Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (50°25ʹ27ʺ N; 103°18ʹ23ʺ Е, высота над уровнем моря – 1034 м). Район относится к горной лесостепи. Климат резко континентальный с продолжительной морозной зимой и коротким жарким летом.
Рис. 1. Расположение хвостохранилищ отходов и рекультивированного участка [13, с дополнениями]: 1 – территория г. Закаменск, 2 – рекультивированный участок, 3 – хвостохранилище отходов, 4 – намытое хвостохранилище, 5 – автотрасса.
Средняя годовая температура составляет –2.3°C, сумма активных температур – 1300°C, продолжительность безморозного периода – 79 дней. Осадков в районе выпадает в среднем 373 мм в год, более 93% которых приходится на май–сентябрь. Метеорологические условия в годы проведения агрохимических опытов несколько различались по температурному режиму и по количеству осадков, которые превышали среднемноголетние показатели (табл. 1).
Таблица 1. Метеоусловия в период проведения опытов (по данным метеостанции Цакир)
Год | Месяц | Средне- годовая | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Среднемесячная температура, °С | |||||||||||||
2016 | –25.9 | –16.9 | –6.1 | 2.1 | 7.7 | 14.1 | 18.2 | 14.4 | 8.9 | –6.2 | –18.3 | –22.4 | –2.5 |
2017 | –25.5 | –18.6 | –5.9 | 3.7 | 10.3 | 16.0 | 17.1 | 14.1 | 7.3 | –2.0 | –13.9 | –21.5 | –1.6 |
2018 | –25.0 | –19.1 | –6.6 | 3.1 | 9.7 | 15.7 | 15.9 | 15.4 | 6.8 | 0.1 | –16.4 | –22.1 | –1.9 |
2019 | –25.1 | –22.4 | –4.9 | 3.1 | 7.4 | 14.8 | 17.1 | 14.7 | 9.7 | –1.2 | –14.2 | –23.3 | –2.0 |
Среднее многолетнее* | –25.4 | –18.3 | –7.9 | 1.4 | 9.0 | 13.4 | 15.8 | 14.4 | 6.6 | –0.9 | –14.0 | –22.1 | –2.3 |
Осадки, мм | |||||||||||||
2016 | 0.0 | 4.6 | 11.4 | 33.1 | 52.3 | 112.6 | 50.3 | 148.8 | 34.9 | 15.4 | 10.4 | 3.4 | 477 |
2017 | 2.5 | 1.1 | 2.8 | 14.5 | 15.1 | 68.7 | 221.4 | 99.3 | 27.6 | 8.7 | 11.9 | 1.4 | 475 |
2018 | 1.1 | 4.8 | 8.2 | 28.0 | 22.9 | 65.4 | 106.3 | 126.2 | 42.1 | 13.8 | 7.5 | 2 | 428 |
2019 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 8.0 | 17.0 | 124 | 236 | 122 | 49.0 | 10.0 | 6.0 | 0.8 | 576 |
Среднее многолетнее* | 1 | 1 | 1 | 11 | 49 | 57 | 81 | 110 | 49 | 5 | 4 | 4 | 373 |
Опытный участок характеризовался выдержанными параметрами технической рекультивации: наличие верхнего 15 см супесчаного слоя и 22–25 см подстилающего легкосуглинистого крупнопылеватого горизонта. Для технической рекультивации использовали вскрышные грунты Инкурского месторождения. На глубине 37(40)–58 см отмечался слой техногенного песка. Такие образования относятся к техногенным или антропогенным почвам, созданным в ходе рекультивации земель, нарушенных добычей полезных ископаемых [6].
Рекультивационные слои имели близкую к нейтральной реакцию среды, высокие показатели плотности твердой фазы 2.60–2.65 г/см³, и сложения (1.48–1.51 г/см³), низкую пористость (43%), сильную каменистость (35%). В составе обменных катионов преобладал Са. Установлено, что слои техногенных почв содержали очень низкое количество Cорг, N–NO₃. Обеспеченность подвижным Р супесчаного слоя очень высокая, суглинистого – средняя, обменным К – очень низкая и средняя, соответственно (табл. 2). Техногенная почва соответствовала потенциально плодородному слою, согласно ГОСТ 17.5.1.03–86 [10].
Таблица 2. Агрохимическая характеристика техногенной почвы опытного участка
Слой, см | Содержание частиц <0.01 мм, % | рНН₂О | Сорг, % | Подвижные формы, мг/кг | |||
N–NO₃ | P₂O₅ | K₂O | |||||
Супесь | 0–15 | 12 ± 0.66 | 6.7 ± 0.20 | 0.17 ± 0.04 | 3.50 ± 0.26 | 300.0 ± 17.78 | 75.3 ± 11.14 |
Суглинок | 15–37(40) | 29 ± 0.72 | 6.9 ± 0.10 | 0.55 ± 0.06 | 5.60 ± 0.30 | 154.0 ± 5.00 | 120.5 ± 10.00 |
Техногенный песок | 37(40)–58 | 4 ± 0.10 | 5.5 ± 0.09 | 0.15 ± .01 | – | – | – |
Примечание. ТП – техногенный песок; прочерк – не определяли.
Оценку степени геохимического состояния рекультивационных слоев и фоновой почвы проводили методом сравнения с ПДК(ОДК) [32], медианным содержанием элементов в аллювиальных почвах Западного Забайкалья и средним содержанием элементов в земной коре Забайкалья [15]. Фоновая почва прилегает к зоне месторождения и обогащена элементами, она не может использоваться как эталон [37]. Поэтому были рассчитаны коэффициенты концентрации, показывающие изменение среднего содержания элемента в техноземе по сравнению не только с фоном, но и с его количеством в земной коре Забайкалья, а также коэффициенты опасности (Ко), характеризующие превышение ПДК (ОДК) [7].
Концентрации всех рассмотренных элементов в фоновой почве превосходили их содержание в земной коре Забайкалья, по ряду элементов (Cd, Co, Ni, Cr, Mn) – медианный фон аллювиальных почв и в 1.4–1.5 раз превышали ПДК (ОДК) по Cr и Ni (табл. 3).
Таблица 3. Содержание микроэлементов и железа, коэффициенты концентрации микроэлементов в техногенной почве опытного участка
Грунт | Слой, см | Cd | Pb | Zn | Co | Ni | Mo | Cu | Cr | Mn | Fe |
Валовое содержание, мг/кг | |||||||||||
Супесь (эфель) | 0–15 | 3.5 | 58.8 | 585.4 | 22.1 | 37.7 | 9.7 | 98.4 | 64.8 | 1600 | 54100 |
Суглинок | 15–37(40) | 0.9 | 25.0 | 97.5 | 20.5 | 62.2 | 3.5 | 50.2 | 109.0 | 2200 | 44400 |
Техногенный песок | 37(40)–58 | 1.5 | 199.3 | 89.2 | 1.7 | 15.4 | 153.5 | 49.0 | 44.3 | 520 | 16800 |
Фон – аллювиальная луговая почва | 0–21/24 | 0.8 | 18.3 | 79.3 | 16.3 | 122.5 | 2.9 | 30.8 | 138.1 | 1000 | 43190 |
Земная кора Забайкалья [18] | 0.16 | 11 | 35 | 8 | 36 | 1.4 | 24 | 65 | 715 | ||
Медиана почв Забайкалья [14] | 0.03 | 30 | 74 | 9.9 | 26 | 3.0 | 23 | 60 | 560 | ||
ПДК [44] | 3 | 100 | 300 | 50 | 50 | 5 | 100 | 100 | 1500** | ||
Коэффициенты концентрации (относительно фона) | |||||||||||
Супесь (эфель) | 0–15 | 4.4 | 3.2 | 7.4 | 1.4 | 0,3 | 3.3 | 3.2 | 0,5 | 1.6 | 1.3 |
Суглинок | 15–37(40) | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 1.0 |
Техногенный песок | 37(40)–58 | 1.9 | 10.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 52.9 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
Коэффициенты концентрации (относительно земной коры Забайкалья) | |||||||||||
Супесь (эфель) | 0–15 | 21.9 | 5.3 | 16.7 | 2.8 | 1.05 | 6.9 | 4.1 | 1.0 | 2.2 | |
Суглинок | 15–37(40) | 5.6 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | |
Техногенный песок | 37(40)–58 | 9.4 | 18.1 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 110 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | |
Фон – аллювиальная луговая почва | 0–21/24 | 5.0 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | |
Коэффициент опасности (относительно ПДК/ОДК) | |||||||||||
Супесь (эфель) | 0–15 | 7.0 | 1.8 | 10.6 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 1.1 | |
Суглинок | 15–37(40) | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | |
Техногенный песок | 37(40)–58 | 3.0 | 6.2 | 1.6 | 0.03 | 0.8 | 30.7 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | |
Фон – аллювиальная луговая почва | 0–21/24 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | |
Обменные формы, мг/кг | |||||||||||
Супесь (эфель) | 0–15 | 0.9 | 1.7 | 41.6 | 2.4 | 1.1 | <0.2* | 7.2 | 1.0 | 111.8 | Не опр. |
Суглинок | 15–37(40) | <0.05* | 1.2 | 4.6 | 3.0 | 3.5 | <0.2* | 1.5 | 4.5 | 209.5 | » |
Техногенный песок | 37(40)–58 | <0.05* | 14.9 | 11.9 | 0.6 | 5.0 | 3.2 | 0.4 | 20.7 | 32.0 | » |
Фон – аллювиальная луговая почва | 0–21/24 | <0.05* | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 7.1 | <0.2* | 0.5 | 3.5 | 316.8 | » |
ПДК [31] | 0.2 | 6 | 23 | 5 | 4 | – | 3 | 6 | 700 | ||
* Содержание ниже предела обнаружения. ** ПДК [31].
Валовое содержание микроэлементов в техногенной почве было выше медианного фона для почв Забайкалья и в ряде случаев ПДК. Возможно, это объясняется привносом веществ из близлежащих участков техногенного песка, не затронутых процессом рекультивации. Наибольшие коэффициенты концентрации и коэффициенты опасности элементов характерны для супесчаного слоя, особенно для Zn и Cd, а концентрации Pb, Ni, Mo, Cu в 3 раза превышали фоновые почвы.
Для оценки степени суммарного загрязнения рекультивационных слоев использован показатель Саета [5]:
,
где С – содержание элемента, n – число элементов.
При расчетах учитывали коэффициенты концентраций элементов > 1, рассчитанных относительно фона. Согласно полученным данным, супесчаный слой характеризовался как умеренно опасный (Zc = 18.8), суглинистый – не опасный (Zc = 4.0) и техногенный песок – опасный (Zc = 64.4). При расчетах Zc с учетом коэффициентов концентрации элементов > 2 и Кo, категория суммарного загрязнения не изменялась.
По концентрации обменных форм элементов в верхнем 0–15 см слое выявлено превышение ПДК по Cd, Zn, Cu. В суглинистом слое количество элементов соответствовало нормативным показателям. Следует отметить, что подвижность микроэлементов для слоев техногенной и фоновой почвы значительно различалась:
Супесь – Cd(25.7) > Co(10.9) > Cu(7.3) > Zn(7.1) > > Mn(7.0) > Pb(2.9) = Ni(2.9) > Cr(1.5) > Mo(1).
Суглинок – Co(14.6) > Mn(9.5) > Ni(5.6) > Pb(4.8) > > Zn(4.7) > Cr(4.1) > Cu(3.0) > Mo(2.9) > Cd(2.8).
Фон – Mn(31.7) > Co(17.8) > Ni(4.1) > Zn(3.4) = = Mo(3.4) > Pb(3.3) > Cd(3.1) > Cr(2.5) > Cu(1.6).
Для биологической рекультивации использовали сеяные травосмеси с применением минеральных удобрений. Состав первой травосмеси – кострец безостый (Bromopsis inermis (Leysser.) Holub) сорта СибНИИСХоз-189 + люцерна изменчивая (Medicago × varia Martyn) сорта Флора 5 в соотношении 2 : 1; второй – кострец безостый + овсяница луговая (Festuca pratensis Hudson s. str.) сорта Дединовская 8 + люцерна изменчивая в соотношении 1 : 1 : 1. Норма высева семян – 60 кг/га. Посев осуществляли рядковым способом в первой декаде июля.
Схема опытов была единой и состояла из трех вариантов:
Площадь делянки – 10 м², повторность – четырехкратная.
При закладке опытов минеральные удобрения (аммиачная селитра, двойной суперфосфат, сернокислый калий) вносили во время посева, в последующие годы – в первой декаде июня, в начале отрастания трав.
Определение основных физических и агрохимических свойств каждого слоя почвогрунта опытного участка выполнялось общепринятыми методами [30]: гранулометрический состав – пипеточным, плотность твердой фазы – пикнометрическим, порозность – расчетным, каменистость – ситовым методом, плотность сложения – методом режущего кольца. Содержание Сорг в почве оценивалось по методу Тюрина в модификации Никитина, определяли подвижные формы основных элементов минерального питания: N–NO₃ – фотоколориметрическим методом с дисульфофеноловой кислотой, N–NН₄ с реактивом Несслера, P₂O₅и K₂O – из одной вытяжки по методу Чирикова; рН водной вытяжки – потенциометрическим методом. Накопление Сорг и обеспеченность подвижными питательными элементами техногенной почвы после четырех лет выращивания многолетних трав с применением удобрений изучалось в 0–20 см слое.
Содержание микроэлементов в грунтах определяли атомно-эмиссионным методом с ионизацией в индуктивно связанной аргоновой плазме (ICP-анализ по методике ПНД Ф.16.1:2.3:3.11-98) на приборе Spectro Arcos (Германия), обменных форм – по методу Крупского–Александровой в модификации ЦИНАО (ацетатно-аммонийная вытяжка рН 4.8). При концентрации элементов меньше предела обнаружения при расчете использовали значения, равные его половине [8].
Изучение биологической продуктивности сеяных трав 2–4 года жизни проводили в последнюю декаду июля в фазу цветения люцерны и – созревания злаковых: надземную фитомассу – укосным методом в 5-кратной повторности с площадок 1 × 1 м, подземную – методом монолитов в слое 0–20 см в 3-кратной повторности. Биопродуктивность травосмесей оценивали по градации Уиттекера [36].
Коэффициенты накопления рассчитывали как отношение содержания элемента в сухой массе растений к количеству его подвижной формы в почве [4], коэффициенты биологического поглощения – как отношение концентрации элемента в золе к его валовому количеству в почве [27]. Содержание микроэлементов в надземной и подземной фитомассах определяли после сухого озоления [29] на спектрометре ICPE-9000 (Япония).
Результаты исследований статистически обработаны с использованием программы Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Важная роль в адаптации растений к высоким концентрациям тяжелых металлов в окружающей среде принадлежит физиолого-биохимическим механизмам. Способность растений поддерживать интенсивность фотосинтеза и дыхания на необходимом уровне, а также сохранение оптимального водного режима и минерального питания обеспечивает их рост и развитие даже в неблагоприятных внешних условиях [18].
Разнотравно-злаковый луг фонового участка расположен на геохимически аномальной почве, и микроэлементный состав растений по сравнению с растениями суши, характеризуется повышенными концентрациями Cd, Pb, Co, Mo и трехкратным превышением ПДК по Cr (табл. 4).
Таблица 4. Содержание микроэлементов в сухом веществе сеяных травостоев на техногенной почве при применении минеральных удобрений, мг/кг (среднее за 3 года)
Вариант | Зола, % | Cd | Pb | Zn | Co | Ni | Mo | Cu | Cr | Mn | Fe |
Кострец безостый + люцерна изменчивая | |||||||||||
Контроль | 7.95 12.9 | 0.7 2.1 | 1.5 3.0 | 22.1 86 | 1.1 2.8 | 1.8 7.4 | 8.0 1.6 | 1.9 10.7 | 3.3 25.1 | 247 1829 | 995 4272 |
N30P15K30 | 7.3 11.0 | 0.6 1.9 | 0.2 2.5 | 10.9 44 | 0.9 2.3 | 1.9 5.4 | 3.0 1.1 | 1.1 7.0 | 2.4 16.2 | 189 1703 | 967 4351 |
N60P30K60 | 6.1 11.8 | 0.5 2.4 | 0.4 4.4 | 18.9 78 | 0.6 2.7 | 1.1 3.6 | 1.8 1.6 | 1.7 11.5 | 1.5 16.4 | 127 1701 | 627 5470 |
НСР | 0.34 0.26 | 0.03 0.20 | 0.25 0.20 | 1.7 1.39 | 0.14 0.23 | 0.15 0.37 | 0.12 0.28 | 0.11 0.12 | 0.24 0.45 | 11.89 10.36 | 9.38 68.83 |
Кострец безостый + овсяница луговая + люцерна изменчивая | |||||||||||
Контроль | 7.4 10.0 | 0.7 1.6 | 0.3 1.8 | 22.5 72.4 | 0.9 2.2 | 2.1 5.2 | 5.3 1.4 | 0.7 8.6 | 2.8 11.0 | 357 1590 | 432 3758 |
N30P15K30 | 6.3 8.5 | 0.7 1.2 | 0.2 1.7 | 12.5 58.7 | 1.0 1.8 | 1.4 4.9 | 1.9 1.2 | 1.4 4.4 | 2.2 17.0 | 344 1407 | 352 2915 |
N60P30K60 | 6.8 8.7 | 0.6 2.0 | 0.2 1.6 | 16.7 67.9 | 0.9 2.1 | 1.4 4.7 | 2.6 1.5 | 1.3 8.1 | 2.1 15.1 | 343 1514 | 198 3202 |
НСР | 0.78 0.10 | 0.03 0.20 | 0.03 0.03 | 0.31 1.75 | 0.26 0.14 | 0.15 0.12 | 0.31 0.08 | 0.22 0.31 | 0.37 0.73 | 4.0 20.03 | 14.81 124.20 |
Разнотравно-злаковый луг | |||||||||||
Фон | 7.3 13.2 | 0.3 1.2 | 4.9 19.7 | 13.9 43.5 | 0.7 7.4 | 1.9 23.4 | 2.2 4.9 | 4.9 18.5 | 1.5 15.9 | 49.0 644 | 60.0 6238 |
Растительность суши [11] | 0.035 | 1.25 | 30 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 8.0 | 1.8 | 205 | ||
ПДК, MДУ (РФ) [31] | 0.3 | 5 | 50 | 1 | 3 | 2 | 30 | 0.5 | 300 | 100 | |
Примечание. Над чертой – содержание элемента в надземной массе; под чертой – в подземной массе.
При анализе данных микроэлементного состава сеяных трав обоих опытов по сравнению с растениями фонового участка, выявлены превышения содержания по Cd, Zn, Co, Mo, Cr, Mn, Fe; по сравнению с растительностью суши – по Cd, Co, Mo, Cr, Mn. В сухом веществе растений в контроле установлено, что концентрации ряда элементов были выше ПДК: Cd – в 2.3 раза, Cr – в 5.6–6.6; Mo – в 2.6–4.0. Влияние минеральных удобрений выразилось в снижении этих показателей.
Количество Mn в зеленой массе растений в первом опыте было в пределах нормы, во втором – несколько повышенное. Особенностью макроэлементного состава первой травосмеси являлось высокое содержание Fe, превосходящее критический уровень (750 мг/кг) в 1.3 раза [17]. Способность растений к поглощению этого элемента различна и, помимо почвенно-климатических условий, также зависит от фазы роста и развития растений. Природное содержание Fe в кормовых травах изменяется от 18 до 1000 мг/кг сухой массы. Бобовые травы способны накапливать больше Fe, чем злаковые [45]. Разница в концентрациях данного элемента в первой и второй травосмесях обусловлена соотношением слагающих их видов. Однако высокие концентрации Fe не вызывали угнетения развития растений.
Удобрения, как правило, снижали содержание элементов в растениях. Следует отметить барьерную биогеохимическую функцию корневой системы трав, накапливающей значительное количество микроэлементов (кроме Mo), которая в большей степени проявлялась в удобренных вариантах.
Таблица 5. Коэффициенты накопления микроэлементов в сухом веществе сеяных травостоев
Вариант | Cd | Pb | Zn | Co | Ni | Mo | Cu | Cr | Mn |
Кострец безостый + люцерна изменчивая | |||||||||
Контроль | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 80.0 | 0.3 | 3.3 | 2.1 |
N30P15K30 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 30.0 | 0.2 | 2.4 | 1.6 |
N60P30K60 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 18.0 | 0.2 | 1.5 | 1.1 |
Кострец безостый + овсяница луговая + люцерна изменчивая | |||||||||
Контроль | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 53.0 | 0.1 | 2.8 | 3.0 |
N30P15K30 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 19.0 | 0.2 | 2.2 | 2.9 |
N60P30K60 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 26.0 | 0.2 | 2.1 | 2.9 |
Разнотравно-злаковый луг | |||||||||
Фон | 1.2 | 16.3 | 5.1 | 0.2 | 0.3 | 22.0 | 9.8 | 0.4 | 0.15 |
Коэффициенты накопления микроэлементов в сухом веществе надземной массы сеяных трав (табл. 5) свидетельствуют о значительном концентрировании Mo. Этот элемент характеризуется безбарьерным типом поглощения, что вызвано его аниогенными свойствами, обусловливающими более высокую подвижность в нейтральной и слабощелочной среде, тогда как большинство других элементов в этих условиях малоподвижны [19]. Следует отметить, что в удобренных вариантах, в связи с большим продуцированием растениями биомассы, коэффициенты накопления Мо в сухом веществе трав обеих травосмесей значительно снижались, приближаясь к уровню фонового участка.
Таблица 6. Коэффициенты биологического поглощения зольных элементов фитомассой сеяных травостоев в зависимости от минеральных удобрений
Фитомасса | Cd | Pb | Zn | Co | Ni | Mo | Cu | Cr | Mn | Fe |
Кострец безостый + люцерна изменчивая, контроль | ||||||||||
Надземная | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 10.3 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 0.2 |
Подземная | 4.7 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 3.0 | 8.8 | 0.6 |
N30Р15К30 | ||||||||||
Надземная | 2.4 | 0.04 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 4.2 | 0.15 | 0.5 | 1.6 | 0.25 |
Подземная | 4.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 9.6 | 0.7 |
N60Р30К60 | ||||||||||
Надземная | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.2 |
Подземная | 5.9 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 9.0 | 0.9 |
Кострец безостый + овсяница луговая + люцерна изменчивая, контроль | ||||||||||
Надземная | 2.5 | 0.07 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 0.1 | 0.6 | 3.0 | 0.1 |
Подземная | 4.7 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 9.9 | 0.7 |
N30Р15К30 | ||||||||||
Надземная | 2.9 | 0.06 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | 3.4 | 0.1 |
Подземная | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 10.3 | 0.6 |
N60Р30К60 | ||||||||||
Надземная | 2.7 | 0.04 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 4.0 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 0.05 |
Подземная | 6.5 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 9.5 | 0.7 |
Фон – разнотравно-монгольскополевицевый луг | ||||||||||
Надземная | 5.1 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 10.4 | 2.2 | 0.14 | 0.7 | 0.01 |
Подземная | 11.4 | 8.2 | 4.1 | 3.4 | 1.4 | 12.8 | 4.6 | 0.9 | 4.9 | 1.1 |
Надземная растительность суши [11] | 0.44 | 1.5 | 11.76 | 1.37 | 1.59 | 9.69 | 2.27 | 1.03 | 6.86 | |
Таблица 7. Интенсивность биологического поглощения (Ах) элементов фитомассой сеяных трав при внесении минеральных удобрений
Фитомасса | Группы элементов биологического поглощения | |||
Очень интенсивного накопления, А × 10–100 | среднего и интенсивного накопления, А × 1–10 | среднего захвата, А × 0.1–1 | cлабого захвата, А × < 0.1 | |
Кострец безостый + люцерна изменчивая Контроль | ||||
Надземная | Мо | Cd > Mn | Co = Ni = Cr > Zn > Pb > Cu = Fe | |
Подземная | Mn > Cd > Cr > Ni > Mo > Zn > Co | Cu > Fe > Pb | ||
N30Р15К30 | ||||
Надземная | Mo > Cd > Mn | Ni > Co > Cr > Zn = Fe > Cu | Pb | |
Подземная | Mn > Cd > Cr > Ni > Mo | Co > Zn = Cu = Fe > Pb | ||
N60Р30К60 | ||||
Надземная | Mo > Cd > Mn | Zn = Ni > Co = Cr > Cu > Fe > Pb | ||
Подземная | Mn > Cd > Cr > Mo > Zn = Co > Cu | Fe > Ni > Pb | ||
Кострец безостый + овсяница луговая + люцерна изменчивая Контроль | ||||
Надземная | Mo > Mn > Cd | Ni > Co = Cr > Zn > Fe = Cu | Pb | |
Подземная | Mn | Cd > Cr > Ni = Mo > Zn > Co | Cu > Fe > Pb | |
N30Р15К30 | ||||
Надземная | Mn > Mo > Cd | Co > Ni > Cr > Zn > Cu > Fe | Pb | |
Подземная | Mn | Cd > Cr > Ni = Mo > Zn > Co | Fe > Cu > Pb | |
N60Р30К60 | ||||
Надземная | Mo > Mn > Cd | Co > Ni = Cr > Zn > Cu | Fe > Pb | |
Подземная | Mn > Cd > Cr > Mo > Ni > Zn > Co | Cu > Fe > Pb | ||
Фон – разнотравно-монгольскополевицевый луг | ||||
Надземная | Мо | Cd > Pb > Zn > Cu | Mn > Co > Ni > Cr | Fe |
Подземная | Мо > Cd | Pb > Mn > Cu > Zn > Co > Ni > Fe | Cr | |
По данным табл. 6, 7 интенсивность биологического поглощения элементов фитомассой сеяных трав практически не различалась по вариантам обоих опытов. Надземная масса растений характеризовалась однотипным набором элементов групп очень интенсивного, среднего и интенсивного накопления, представленных Мо, Mn, и Cd, и более широким спектром элементов группы среднего захвата. В подземной массе большая часть элементов отнесена к группе среднего и интенсивного накопления, что свидетельствует о ее фитостабилизационной роли.
Общеизвестно, что уровень общих запасов фитомассы растительных сообществ определяется биологическими особенностями возделываемых культур и зависит от свойств почв. Травосмеси с участием бобовых и злаковых трав имеют преимущество перед монокультурами. Они представляют собой надежную оптико-биологическую систему, обеспечивающую рациональное соотношение величин высоты и облиственности растений и конечной их продуктивности [24].
Таблица 8. Биологическая продуктивность сеяных травосмесей в зависимости от года жизни трав и минеральных удобрений, г/(м² год)
Вариант | Год жизни трав | |||||||||||
второй | третий | четвертый | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Кострец безостый + люцерна изменчивая (2 : 1) | ||||||||||||
Контроль | 299 | 91 | 208 | 2.3 | 864 | 272 | 592 | 2.2 | 1080 | 372 | 708 | 1.9 |
N30P15K30 | 658 | 386 | 272 | 0.7 | 1967 | 1167 | 800 | 0.7 | 1846 | 602 | 1244 | 2.1 |
N60P30K60 | 1281 | 865 | 416 | 0.5 | 1679 | 943 | 736 | 0.8 | 1925 | 661 | 1264 | 1.9 |
НСР 0.5 | 38 | 46 | 19 | 88 | 68 | 44 | 89 | 38 | 57 | |||
Кострец безостый + овсяница луговая + люцерна изменчивая (1 : 1 : 1) | ||||||||||||
Контроль | 301 | 156 | 145 | 0.9 | 1016 | 648 | 368 | 0.6 | 899 | 456 | 443 | 1.0 |
N30P15K30 | 800 | 422 | 378 | 0.9 | 3182 | 2590 | 592 | 0.2 | 1826 | 656 | 1170 | 1.8 |
N60P30K60 | 1346 | 706 | 640 | 0.9 | 1798 | 898 | 900 | 1.0 | 1698 | 824 | 874 | 1.1 |
НСР0.5 | 60 | 59 | 22 | 90 | 66 | 75 | 59 | 35 | 41 | |||
Примечание. 1 – общая фитомасса; 2 – надземная; 3 – подземная; 4 – отношение подземной фитомассы к надземной.
На второй год жизни фитоценозы не различались по запасам общей фитомассы в контроле, их продуктивность оценивалась как низкая (табл. 8). Использование минеральных удобрений в дозе N30P15K30 достоверно увеличивало данный показатель в 2.2–2.7 раза, в дозе N60P30K60 – в 4.3–4.5 раза в первой и во второй травосмеси соответственно.
На третий год жизни сеяных трав отмечено закономерное возрастание их общей фитомассы во всех вариантах. Ее количество в контроле увеличилось в 2.9–3.4 раза, в варианте N30P15K30 – в 3.0–4.0, а при повышенной дозе удобрений – в 1.3 раза в первом и втором опытах соответственно. Продуктивность травосмесей оценивалась как средняя в контроле и высокая в удобренных вариантах. Очевидно, что максимальные запасы общей фитомассы обусловлены лучшим развитием растений люцерны за счет увеличения кустистости в вариантах с пониженной дозой азота.
Травы обоих опытов, достигнув своего максимального развития, на четвертый год жизни сформировали относительно высокие запасы общей биомассы. При этом не было выявлено достоверных различий в удобренных вариантах первого опыта, а во втором – эффективным оказалось внесение пониженных доз удобрений.
При биологической рекультивации техногенных ландшафтов большое значение имеют размеры формирования дернины под многолетними сеяными травами, инициирующей образование органического вещества в почве. Травосмеси накапливали подземную массу преимущественно в верхнем 0–20 см слое. Это свидетельствует о своеобразном приспособлении растений к специфическим условиям среды обитания и обусловливает эрозионную устойчивость техногенных почв. Ее количество определялось разным соотношением видов в составе травостоя и особенностями строения их корневой системы.
Таблица 9. Накопление органического углерода и обеспеченность подвижными питательными элементами техногенной почвы после четырех лет выращивания многолетних трав с применением удобрений
Вариант | Сорг, % | рН | Подвижные формы, мг/кг | N–NO₃ | N–NH4 | |
Р2О5 | K₂O | мг/кг | ||||
Кострец безостый + люцерна изменчивая (2 : 1) | ||||||
Контроль | 0.19 | 6.5 | 358 | 77 | 0.45 | 17.5 |
N30P15K30 | 0.27 | 6.6 | 400 | 122 | 2.30 | 30.0 |
N60P30K60 | 0.45 | 6.5 | 375 | 110 | 1.70 | 25.0 |
НСР0.5 от контроля | 0.06 | |||||
НСР0.5 от исходного содержания | 0.04 | |||||
Кострец безостый + овсяница луговая + люцерна изменчивая (1 : 1 : 1) | ||||||
Контроль | 0.27 | 6.7 | 357 | 67 | 1.00 | 20.0 |
N30P15K30 | 0.33 | 6.4 | 487 | 115 | 4.30 | 35.0 |
N60P30K60 | 0.42 | 6.2 | 475 | 200 | 3.70 | 37.5 |
НСР0.5 от контроля | 0.05 | |||||
НСР0.5 от исходного содержания | 0.04 | |||||
Внесение удобрений увеличивало накопление растениями подземной массы в обеих травосмесях в течение всех лет наблюдения, достигая максимума к четвертому году жизни трав. Ее долевое участие в общих запасах было различным. На второй год жизни трав в первом опыте оно снижалось с 70% в контроле до 41–33% в удобренных вариантах пропорционально внесенной дозе, а во втором оставалось на уровне 47–48% во всех вариантах. К концу периода наблюдений этот показатель увеличился до 65–67% в первом опыте и до 64% в варианте с пониженной дозой удобрений второго опыта. Биомасса растений трехкомпонентной травосмеси в контроле и в варианте с применением N60P30K60 характеризовалась равным долевым участием надземной и подземной массы, не превышающим 50%. Таким образом, растения обеих травосмесей накапливали большее количество подземной массы на варианте с применением минеральных удобрений в дозе N30P15K30.
После четырех лет возделывания сеяных травостоев с применением минеральных удобрений содержание органического вещества в слое 0–10 см возросло по сравнению с его исходным количеством (табл. 9): под первой травосмесью с внесением N30P15K30 – в 1.6 раза, при дозе N60P30K60 – в 2.6; под второй травосмесью – в 1.9 и 2.5 раза соответственно. Это связано со структурой корневых систем. Проведенное ранее изучение относительного содержания живых и мертвых корней по фракциям подземной фитомассы в сообществах остепненных пойменных лугов подтвердило закономерность, общую для травянистых биогеоценозов, о недолговечности и постоянном обновлении мелких корней, которые являются стабильным и существенным источником пополнения органического вещества почвы [25]. Фракция мелких корней на 92–98% гумифицирована. Степень развитости поглощающих корней в верхнем слое почвы определяет способность многолетних трав конкурировать за элементы питания, содержащиеся в удобрениях. Длиннокорневищные злаки благоприятнее реагируют (особенно при достаточном увлажнении) на внесение минеральных удобрений. Следует отметить, что вымершая на третий год жизни овсяница луговая образовала мощную мочковатую корневую систему, которая к концу четвертого года травостоя была почти гумифицирована, как и мелкие корни костреца безостого и люцерны посевной. Все это способствовало процессу образования органического вещества в техногенной почве, несмотря на временно небольшие концентрации Сорг, обусловленные недостаточной длительностью выращивания трав, что неоднократно отмечалось на загрязненных или техногенных почвах [27].
ВЫВОДЫ
- Установлено, что внесение удобрений способствовало увеличению биопродуктивности сеяных злаково-бобовых травосмесей с низкого уровня в контрольных вариантах до среднего на второй год жизни трав и до высокого – на третий. На четвертый год сформировалась дернина, закрепляющая поверхностные слои техногенной почвы. При этом в обоих опытах наиболее эффективной была доза N30P15K30.
- Отличия сеяных злаково-бобовых травостоев по биопродуктивности и формированию дернины зависели от соотношения видов в составе смеси. На удобренных вариантах трехкомпонентная травосмесь превосходила двухкомпонентную по этим показателям на 2 и 3 годы жизни трав и практически не отличалась от нее на 4 год вегетации из-за разной интенсивности усвоения элементов минерального питания злаками и бобовыми.
- Выявлено, что удобрения, оптимизируя обеспеченность NPK в техноземе, снижали концентрацию микроэлементов в растениях и коэффициенты их накопления. Интенсивность биологического поглощения элементов фитомассой сеяных трав практически не различалась по вариантам обоих опытов: большая часть элементов в надземной фитомассе отнесена к группе среднего захвата, в подземной – среднего и интенсивного поглощения, что свидетельствует о ее фитостабилизационной роли.
- После четырех лет возделывания сеяных травостоев с применением минеральных удобрений содержание Сорг в слое 0–10 см возросло по сравнению с его исходным количеством: под первой травосмесью с внесением N30P15K30 в – 1.6 раза, при дозе N60P30K60 – в 2.6 раза; под второй травосмесью – в 1.9 и 2.5 раза соответственно.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Исследования выполнены по теме бюджетного проекта № 121030100228-4.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
Л. Н. Болонева
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН
Email: ldm-boloneva@mail.ru
Россия, ул. Сахьяновой, 6, Улан-Удэ, 670047
И. Н. Лаврентьева
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: ldm-boloneva@mail.ru
Россия, ул. Сахьяновой, 6, Улан-Удэ, 670047
М. Г. Меркушева
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН
Email: ldm-boloneva@mail.ru
Россия, ул. Сахьяновой, 6, Улан-Удэ, 670047
Л. Л. Убугунов
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН
Email: ldm-boloneva@mail.ru
Россия, ул. Сахьяновой, 6, Улан-Удэ, 670047
В. Л. Убугунов
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН
Email: ldm-boloneva@mail.ru
Россия, ул. Сахьяновой, 6, Улан-Удэ, 670047
С. Б. Сосорова
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН
Email: ldm-boloneva@mail.ru
Россия, ул. Сахьяновой, 6, Улан-Удэ, 670047
Список литературы
- Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных промышленностью земель. Екатеринбург, 2008. 256 с.
- Богатиков О.А., Бортников Н.С., Карамурзов Б.С., Докучаев А.Я., Гурбанов А.Г. Техногенные месторождения полезных ископаемых: основные аспекты на современном этапе (на примере Тырныаузского месторождения) // Доклады Академии наук. 2014. Т. 456. № 2. С. 213–218.
- Бортников Н.С., Гурбанов А.Г., Богатиков О.А., Карамурзов Б.С., Докучаев А.Я., Лексин А.Б., Газеев В.М., Шевченко А.В. Оценка воздействия захороненных промышленных отходов Тырныазуского вольфрамо-молибденового комбината на экологическую обстановку (почвенно-растительный слой) прилегающих территорий Приэльбрусья (Кабардино-Балкарская республика, Россия) // Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2013. № 5. С. 405–416.
- Брукс Р.Р. Биологические методы поисков полезных ископаемых. М., 1996, 312 с.
- Водяницкий Ю.Н. Формулы оценки суммарного загрязнения почв тяжелыми металлами и металлоидами // Почвоведение. 2010. № 10. С. 1276–1280.
- Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В., Прокофьева Т.В. Антропогенные почвы. М.: Изд-во Юрайт, 2018. 237 с.
- Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест: Методические указания. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999. 38 с.
- Головин А.А., Москаленко Н.Н., Ачкасов А.И., Волочкович К.Л., Гуляева Н.Г., Гусев Г.С., Килипко В.А., Криночкин Л.В., Морозова И.А., Трефилова Н.Я., Гинзбург Л.Н., Бедер А.Б., Клюев О.С., Колотов Б.А. Требования к производству и результатам многоцелевого геохимического картирования масштаба 1:200 000. М.: Изд-во Ин-та минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, 2002. 92 с.
- ГОСТ 17.5.1.03–86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель // Сб. ГОСТов. М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. С. 23–28.
- Гурбанов А.Г., Богатиков О.А., Винокуров С.Ф., Карамурзов Б.С., Газеев В.М., Лексин А.Б., Шевченко А.В., Долов С.М., Дударов З.И. Геохимическая оценка экологической обстановки в районе деятельности Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината (Кабардино-Балкарская республика, Северный Кавказ): источники загрязнения окружающей среды, влияние на соседние территории и меры по реабилитации // Доклады АН. 2015. Т. 464. № 3. С. 328–333.
- Добровольский В.В. Основы биогеохимии. М.: Академия, 2003. 400 с.
- Дорошкевич С.Г., Смирнова О.К., Дампилова Б.В., Гайдашев В.В. Оценка состояния почв и растительности г. Закаменска (Бурятия): последствия деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2016. № 5. С. 427–441.
- Дорошкевич С.Г., Смирнова О.К., Предеин П.А. Биологическая активность почв в зоне влияния Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (Западное Забайкалье) // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2015. № 2. С. 40–47.
- Иванов Г.М. Микроэлементы-биофилы в ландшафтах Забайкалья. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. 239 с
- Ильин В.Б. Тяжелые металлы и неметаллы в системе почва–растение. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 220 с.
- Ильин В.Б., Сысо А.И. Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах и растениях Новосибирской области. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. 229 с.
- Казнина Н.М. Физиолого-биохимические и молекулярно-генетические механизмы устойчивости растений семейства Poaceae к тяжелым металлам. Дис. … докт. биол. наук. Петрозаводск, 2016. 358 с.
- Канищев А.Д., Менакер Г.И. Среднее содержание 15 рудообразующих химических элементов в земной коре центрального и восточного Забайкалья. Чита: Изд-во Мин-ва геол. РСФСР, 1972. 11 с.
- Кашин В.К. Cодержание микроэлементов в пырее в Западном Забайкалье // Агрохимия. 2020. № 3. С. 55–61.
- Ковда В.А. Биогеохимические циклы в природе и их нарушение человеком // Биогеохимические циклы в биосфере. М., 1976. С. 19–85.
- Копцик Г.Н. Современные подходы к ремедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами (обзор литературы) // Почвоведение. 2014. № 7. С. 851–868.
- Копцик Г.Н. Проблемы и перспективы фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами (обзор литературы) // Почвоведение. 2014. № 9. С. 1113–1130.
- Копцик Г.Н., Копцик С.В., Смирнова И.Е., Синичкина М.А. Влияние деградации и ремедиации почв техногенных пустошей на поглощение элементов питания и тяжелых металлов растениями в Кольской Субарктике // Почвоведение. 2021. № 8. С. 969–982.
- Кущ Е.Д., Гребенников В.Г., Шипилов И.А. Продуктивность многолетних бобово-злаковых травосмесей в связи с ценотическим взаимодействием растений // Научный журнал Куб.ГАУ. 2011. № 66(2). С. 1–11.
- Меркушева М.Г., Убугунов Л.Л., Корсунов В.М. Биопродуктивность почв сенокосов и пастбищ сухостепной зоны Забайкалья. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2006. 515 с.
- Неаман А., Яньез К. Фиторемедиация почв, загрязненных выбросами медеплавильного производства в Чили: результаты десятилетних исследований // Почвоведение. 2021. № 12. С. 1564–1572.
- Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. М.: Астрея, 1999. 764 с.
- Плюснин А.М., Гунин В.И. Природные гидрогеологические системы, формирование химического состава и реакция на техногенное воздействие (на примере Забайкалья). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001. 137 с.
- Практикум по агрохимии / Под ред. Минеева В.Г. М.: Изд-во МГУ, 2001. 689 с.
- Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П., Смирнова Р.С., Башаркевич И.Л., Онищенко Т.Л., Павлова Л.Н., Трефилова Н.Я., Ачкасов А.И., Саркисян С.Ш. Геохимия окружающей среды. М.: Недра, 1990. 335 с.
- СанПиН 1.2.3685–21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 29 января 2021 г. № 62296. https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/npa-files/2021/ 01/28/sanpin1.2.3685–21.pdf
- Серегин И.В., Кожевникова А.Д. Роль тканей корня и побега в транспорте и накоплении кадмия, свинца, никеля и стронция // Физиология растений. 2008. Т. 55. С. 5–26.
- Смирнова О.К., Плюснин А.М. Джидинский рудный район (проблемы состояния окружающей среды). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2013. 180 с.
- Смирнова О.К., Сарапулова А.Е., Цыренова А.А. Особенности нахождения тяжелых металлов в геотехногенных ландшафтах Джидинского вольфрамо-молибденового комбината // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2010. № 4. С. 319–327.
- Тимофеев И.В., Кошелева Н.Е. Оценка эколого-геохимического состояния древесных растений в горнопромышленных ландшафтах (г. Закаменск, Республика Бурятия) // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии: Сб. научн. ст. по материалам XV междунар. научн.-практ. конф. Барнаул: Концепт, 2016. С. 463–472.
- Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс, 1980. 327 с.
- Чернова О.В., Безуглова О.С. Опыт использования данных фоновых концентраций тяжелых металлов при региональном мониторинге загрязнения почв // Почвоведение. 2019. № 8. С. 1015–1026. https://doi.org/10.1134/S0032180X19080045
- Яковлев А.С., Плеханова И.О., Кудряшов С.В., Аймалетдинов Р.А. Оценка и нормирование экологического состояния почв в зоне деятельности предприятий металлургической компании “Норильский никель” // Почвоведение. 2008. № 6. С. 737–750.
- Carrier P., Baryla A., Havaux M. Cadmium distribution and microlocalization in oilseed rape plants (Brassica napus) after long-term grown on cadmium-contaminated soil // Planta. 2003. V. 216. P. 939–950. https://doi.org/10.1007/s00425–002–0947–6
- Dickinson N.M., Baker A.J.M., Doronila A., Laidlaw S., Reeves R.D. Phytoremediation of inorganics: realism and synergies // Intern. J. Phytoremediation. 2009. V. 11. P. 97–114. https://doi.org/10.1080/15226510802378368
- Greger M., Landberg T. Use of willow in phytoextraction // Int. J. Phytorem. 1999. V. 1. № 2. Pр. 115–123. https://doi.org/10.1080/15226519908500010
- He Z.L., Yang X.E., Stoffella P.J. Trace elements in agroecosystems and impacts on the environment // J. Trace Elements Medicine Biol. 2005. P. 125–140. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2005.02.010
- Heavy Metals in Soils / Еd. Alloway B.J. N.Y.: Wiley & Sons, 1990. 339 p.
- Kabata-Pendias A. Trace Elements in Soils and Plants. Boca Raton, FL: CRC Press, 2011. 548 p.
- Kloke A. Richtwerte’80. Orientierungsdaten für tolerierbare Gesamtgehalte einger Elemente in Kulturböden // Mitteilungen VDLUFA. 1980. V. 1/3. P. 9–11.
- Nazar R., Iqbal N., Masood A., Khan M., Syeed S., Khan N. Cadmium Toxicity in Plants and Role of Mineral Nutrients in Its Alleviation // Am. J. Plant Sci. 2012. V. 3. 2012. Р. 1476–1489. https://doi.org/10.4236/ajps.2012.310178.
- Padmavathiamma P.K., Li L.Y. Rhizosphere influence and seasonal impact on phytostabilisation of metals -a field study // Water, Air, Soil Pollut. 2012. V. 223. P. 107–124. https://doi.org/10.1007/s11270–011–0843–4
- Phytotechnology Technical and Regulatory Guidance and Decision Trees, Revised. Technical // Regulatory Guidance. Washington, DC: ITRC, 2009. 175 p.
- SUMATECS. Sustainable management of trace element contaminated soils -Development of a decision tool system and its evaluation for practical application. Final Research Report / Ed. Puschenreiter M. Vienn: Universitat fur Bodenkultur Wien (BOKU), 2008. 314 p.
- Wang F., Li Y, Zhang Q., Qu J. Phytoremediation of cadmium, lead and zinc by Medicago sativa L. (alfalfa): A study of different period // Bulgarian Chem. Commun. 2015. V. 47. P. 167–172.
- White P.J., Brown P.H. 2010. Plant nutrition for sustainable development and global health // Annals of Botany. 2010. V. 105. P. 1073–1080. https://doi.org/10.1093/aob/mcq085
Дополнительные файлы