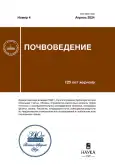Soil Respiration Under a Short–Term Drought on the Example of Typical West Siberian Bogs (Middle Taiga)
- Authors: Niyazova A.V.1, Ilyasov D.V.1, Glagolev M.V.1,2,3, Kupriyanova Y.V.1, Kaverin A.A.1, Sabrekov A.F.1, Novikova T.A.1, Kaverina A.V.1, Filippov I.V.1, Lapshina E.D.1
-
Affiliations:
- Yugra State University
- Lomonosov Moscow State University
- Institute of Forest Science, RAS
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 556-569
- Section: SOIL PHYSICS
- URL: https://journal-vniispk.ru/0032-180X/article/view/264100
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24040037
- EDN: https://elibrary.ru/WSUFRS
- ID: 264100
Cite item
Full Text
Abstract
Cumulative (June–August) soil respiration (Rsoil(cum)), obtained based on field measurements and mathematical modeling, increased from wet areas of the oligotrophic bog to drained ones – “Hollow E.”, “Hollow Sh.” (hollows, dominated by Eriophorum vaginatum and Scheuchzeria palustris, respectively), “Open bog” (sphagnum bog with sparse low pine trees), “Ridge” (oligotrophic ridges covered with low pine trees), “Tall ryam” and “Ryam” (forested pine-shrub-sphagnum bog): 135 ± 2.3, 139 ± 2.4, 275 ± 7.8, 279 ± 7.5, 466 ± 16.4, 510 ± 18.5 g C/ (m2 season), respectively (mean ± std). An important factor of seasonal and annual variability of Rsoil was the water table level (WTL): the extremely low amount of precipitation (6 mm) that fell in July 2022 led to a sharp drop of WTL in August, an increase of the aerated soil zone. As result, total Rsoil(cum) over the summer in the studied biotopes increases by 29–54% compared to the same period in 2021. At the same time, the most intensive growth of Rsoil during the drop of the WTL was on the edge of the bog (“Tall ryam”, “Ryam” and “Open Bog”), in contrast to its central area.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Диоксид углерода (СО2) является одним из основных атмосферных газов, определяющих тепловой баланс планеты [9]. Интерес к изучению бюджета СО2 связан с ростом его содержания в атмосфере. Согласно прогнозам [41], к концу XXI в. это приведет к повышению средней температуры на 1.5–2°С. Глобальное потепление, в свою очередь, является причиной изменения биогеохимического цикла углерода, что способствует дальнейшему росту выбросов СО2 из некоторых экосистем, усугубляя изменение климата [9, 33, 39, 46].
Согласно специальному докладу МГЭИК [41], в условиях потепления климата изменчивость количества выпадающих осадков будет все более ярко выражена, что может повысить вероятность возникновения засушливых периодов [42]. Изменение гидрологических условий будет оказывать первостепенное влияние на экосистемы, формирование, развитие и функционирование которых тесно связано с круговоротом атмосферной влаги, в частности – болота [47].
Болота в ненарушенном состоянии являются единственными экосистемами, способными обеспечивать практически неограниченное во времени изъятие углерода из дальнейшего круговорота и долговременное запасание его в виде торфяной залежи [9, 10, 12, 54]: занимая лишь 3.5% суши [5], болота содержат в виде торфа более 500 Гт углерода [34].
Основным критерием функционирования болот как стока или источника углерода в рамках конкретной гидрометеорологической обстановки является баланс между процессами ассимиляции и эмиссии CO2 [1, 3, 26]. Внутригодовая и межгодовая динамика СО2 в болотах [22] определяется в значительной степени метеорологическим факторами: температурой, количеством осадков, фотосинтетически активной радиацией, уровнем залегания болотных вод (УБВ) и др.
В засушливые периоды замедляется сток CO2 в процессе фотосинтеза, увеличивается аэрируемый слой, большая часть накопленного органического вещества подвергается анаэробному разложению, что способствует усилению наблюдаемого почвенного дыхания. При этом интенсифицируется выделение СО2 подземными органами растений, а также в результате микробного разложения органического вещества почвы, включая подстилку. В особенно засушливые годы, когда уровень грунтовых вод может опускаться до экстремально низких значений (по сравнению со среднемноголетними значениями), торфяные болота могут превратиться из поглотителей углерода в его источники.
Не только факт засухи, но и длительность засушливого периода в сочетании с потеплением оказывают влияние на углеродный баланс болот. Кроме того, засушливые периоды могут иметь различный отклик в разных болотных биотопах [22, 53], а также микро- и нанотопах, поскольку вариабельность потоков определяется влиянием местных орографических и гидрологических особенностей, зависит от скорости продукции и деструкции растительного вещества представленных видов растений [8, 24, 40].
Таким образом, увеличение выбросов СО2 в ответ на уменьшение количества осадков в болотах может иметь положительную обратную связь с потеплением климата [20, 35, 40, 52]. Однако различные болотные биотопы могут по-разному реагировать на засухи, поэтому оценка их индивидуального отклика на недостаточное увлажнение позволит улучшить понимание влияния засушливых периодов на болотные экосистемы в целом.
Натурные измерения потоков СО2 в силу особенностей оборудования и применяемых методов (точечные в пространстве или во времени данные, неизбежные пропуски в рядах наблюдений [17, 18], привязка к конкретным гидрометеорологическим условиям) требуют интерпретации результатов при помощи методов математического моделирования [16, 17, 19, 21].
Цель настоящей работы – оценка отклика почвенного дыхания на засушливые условия на примере типичных болотных биотопов средней тайги Западной Сибири. Использование методов математического моделирования позволило сравнить кумулятивное дыхание почвы в условиях недостатка осадков с таковым при среднемноголетних условиях увлажнения. Для достижения цели работы выполнен ряд измерений потоков СО2 статическим камерным методом, а также получены непрерывные ряды наблюдений УБВ.
Исследование проводилось в рамках Важнейшего инновационного проекта государственного значения, направленного на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ. Измерения проводили на базе полевого стационара “Мухрино” (Югорский государственный университет), который входит в состав национальной системы мониторинга пулов и потоков углерода.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Выбор участков тестовых полигонов для оценки пространственно-временной изменчивости дыхания почвы осуществляли на основе комплекса имеющейся информации о свойствах болотных экосистем средней тайги Западной Сибири, а именно географической характеристики, климатических особенностей, преобладающего типа рельефа, почвообразующих пород и почвенного покрова, наиболее характерных типов болотных биотопов (для территории Ханты-Мансийского автономного округа), а также данных дистанционного зондирования, полевых рекогносцировочных маршрутов, транспортной доступности и имеющейся инфраструктуры (рис. 1).
Рис. 1. Местоположение объектов проведения исследований: на врезке слева показана бореальная зона [41], справа – фотографии изученных биотопов
Полевая станция Мухрино расположена в центральной части Западной Сибири в среднетаежной биоклиматической зоне, в 20 км к юго-западу от города Ханты-Мансийск (60.892135 N, 68.682330 E), на второй террасе левого берега р. Иртыш. Исследовательский район станции находится в северо-восточной части комплекса болотного массива Мухрино, который занимает общую площадь ~75 км2. Обширная территория к юго-западу представлена торфяниками и озерными ландшафтами Кондинской низменности, перемежающимися лесами вдоль рек.
Комплекс Мухрино представляет собой олиготрофное верховое сфагновое болото [43]. Он занимает местный водораздел между двумя небольшими реками (Мухрина и Большая) и пополняет их бассейн. С восточной стороны окраина Мухринского болота образована уступом террасы, который возвышается на 2–6 м над долиной р. Мухрина. Форма уступа волнистая из-за активной регрессивной эрозии, сформированной несколькими истоками р. Мухрина [28].
Объектами исследования были выбраны типичные для средней тайги Западной Сибири болотные биотопы (после цифры следует название участка, далее – описание биотопа).
- Открытое болото: сфагновое болото с редкими низкими соснами с Pinus sylvestris, Chamaedaphne calyculata, Eriophorum vaginatum, Sphagnum angustifolium и Sph. divinum. Ярус карликовой сосны очень разрежен или местами отсутствует. Такие болотные типы встречаются на границе между олиготрофным верховым болотом и минеральными возвышенностями. Эта переходная зона обычно имеет ширину от 100 до 200 м и редко бывает шире. Данные типы болот также могут развиваться в переходной (пограничной) зоне между верховыми болотами и минератрофными топями.
- Рослый рям: облесенное сосново-кустарничково-сфагновое болото характеризуется хорошо выраженным древесным ярусом из сосны Pinus sylvestris (высотой 6–10 м), с густым кустаричковым ярусом из Ledum palustris, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium myrtillus, с преобладанием в напочвенном покрове Sphagnum angustifolium и Sph. divinum. Такие типы болот также встречаются в переходной зоне по окрайкам болотных массивов, постепенно сменяясь биотопами типичных рямов.
- Грядово-мочажинные болотные комплексы. Этот тип болот является наиболее распространенным комплексом олиготрофных болот в Западной Сибири, который состоит из сосново-кустарничково-сфагновых гряд и сфагновых мочажин, в той или иной степени ориентированных поперек потока воды. Эти комплексы обычно расположены на очень слабо наклонных участках (уклон 0.0035–0.0040 км/км) земной поверхности. Конфигурация и расстояние между грядами и мочажинами связаны с уклоном поверхности торфяного болота, но в основном они имеют равную долю в комплексе. Микротопы гряд более сухие и расположены на 25–50 см выше, чем мочажины. В грядово-мочажинных комплексах были исследованы три наиболее распространенных в средней тайге Западной Сибири микротопа:
3а. Гряда: сфагновые гряды с Pinus sylvestris, Ledum palustris, Chamaedaphne calyculata и Sphagnum fuscum. Высота сосен обычно составляет 0.5–2.0 м при покрытии 3–10%.
3б. Мочажина Ш: мочажины, занятые Scheuchzeria palustris, моховой покров представлен Sph. papillosum, Sph. jensenii, Sph. majus и Sph. lindbergii
3с. Мочажина Е: мочажины, занятые Eriophorum vaginatum, в моховом ярусе доминирует Sphagnum balticum.
- Рям: типичный рям с Pinus sylvestris (0.5–4 м высотой), Ledum palustris, Chamaedaphne calyculata и Sphagnum fuscum, омбротрофными карликовыми кустарниками и сфагновыми кочками, поросшими соснами. Этот тип болот очень распространен в Западной Сибири и охватывает большие однородные территории; также представлен в виде гряд в грядово-мочажинных болотных комплексах. Далее для характеристики биотопов использованы названия участков, приведенные без кавычек.
Метеорологические условия. Средние многолетние значения температуры воздуха и количества осадков за период с 1991 по 2022 гг., основанные на результатах измерений трех метеорологических станций: Ханты-Мансийск, Ивдель и Угут, показаны на рис. 2. Наиболее холодный месяц, с наименьшим среднемесячным значением температуры (–19.2 ± 4.4°C) – январь, а самый жаркий месяц, на который приходится пик вегетационной активности, с максимальной среднемесячной температурой 18.0 ± 1.9°C – июль. Средние температуры выше 5°C наблюдаются с мая по сентябрь, что говорит о достаточно непродолжительном периоде вегетации. Годовое количество осадков сильно варьировало в отдельные годы в течение зимнего (ноябрь–февраль) и летнего (май–август) периодов: от 39 ± 6.8 до 24 ± 2.3 мм и от 54 ± 4.2 до 82 ± 4.5 мм соответственно. Наименьшее количество осадков приходится на февраль, а максимальное – на август. Средняя температура воздуха в мае 2022 г. составила 11.2 ± 2.4°C, в июне – 13.6 ± 2.3°C, в июле – 18.2 ± 1.9°C, что с учетом стандартного отклонения совпадает со средними значениями многолетних наблюдений. В период проведения измерений сумма осадков в мае составила 69 ± 4.2 мм, в июне 57 ± 5.7 мм, что в среднем незначительно отличается от многолетних наблюдений. В июле сумма осадков составила катастрофически малые 6.0 мм, что в 11 раз меньше среднемноголетнего значения. Подобные аномально засушливые месяцы периодически фиксируются на территории ХМАО: например, в июле 2013 г. на метеостанции Угут отмечено весьма незначительное количество осадков – 7.4 мм.
Рис. 2. Среднемноголетние осадки и температура воздуха, усредненные на основе данных метеостанций (г. Ханты-Мансийск, Ивдель и Угут) за период с 1991 по 2022 г.
Медиана УБВ в течение сезона варьировала от 5 см в мочажине Ш до 45 см в ряме (IQR – Interquartile range) межквартальный размах 13 и 45 см соответственно. Медиана температуры поверхности почвы в разных типах биотопов изменялась от 17°C в ряме, до 20°C в мочажинах с доминированием Eriophorum vaginatum (табл. 1).
Таблица 1. Медианы потоков СО2, УБВ и температуры почвы, рассчитанные на основе данных, полученных с мая по июль 2022 г.
Биотоп | Rsoil, мг C/(м2 ч) | УБВ, см | Т0,°С |
Медиана/IQR/N/мин/макс (май, июнь, июль) | |||
Рослый рям | 203/247/18/81/1316 | 38/50/18/20/70 | 18/2/18/9/16 |
Рям | 107/132/18/73/309 | 45/45/18/21/72 | 17/0/18/4/16 |
Открытое болото | 90/169/18/39/291 | 23/30/18/5/43 | 17/10/18/11/17 |
Гряда | 66/30/17/28/242 | 30/15/17/20/45 | 18/10/17/7/19 |
Мочажина Е | 51/99/18/21/186 | 12/23/18/–3/45 | 20/5/18/10/21 |
Мочажина Ш | 24/70/18/8/150 | 5/13/18/0/13 | 18/10/18/18/22 |
Медиана/IQR/N/мин/макс (31 мая–1 июня) | |||
Рослый рям | 98/15/6/81/121 | 20/0/6/20/20 | 18/0/6/18/18 |
Рям | 84/7/6/76/103 | 21/0/6/21/21 | 17/0/6/17/17 |
Открытое болото | 46/7/6/39/52 | 5/0/6/5/5 | 13/0/6/13/13 |
Гряда | 65/38/6/43/122 | 30/0/6/30/30 | 11/0/6/11/11 |
Мочажина Е | 23/3/6/21/28 | –3/0/6/–3/–3 | 17/0/6/17/17 |
Мочажина Ш | 20/3/6/8/24 | 0/0/6/0/0 | 15/0/6/15/15 |
Медиана/IQR/N/мин/макс (24–26 июня) | |||
Рослый рям | 203/99/6/131/283 | 38/5/6/35/40 | 18/0/6/18/18 |
Рям | 107/22/6/73/150 | 45/10/6/40/50 | 17/0/6/17/17 |
Открытое болото | 131/157/6/1/5 | 30/10/6/25/35 | 17/0/6/17/17 |
Гряда | 59/96/6/28/145 | 20/10/6/20/45 | 23/1/6/22/23 |
Мочажина Е | 76/157/6/49/227 | 15/11/6/9/20 | 17/0/6/17/17 |
Мочажина Ш | 20/9/6/15/28 | 5/0/6/5/5 | 20/1/6/21/25 |
Медиана/IQR/N/мин/макс (27–8 июля) | |||
Рослый рям | 617/510/6/333/1316 | 70/0/6/70/70 | 19/0/6/19/19 |
Рям | 226/48/6/216/309 | 69/5/6/65/72 | 0/0/0/0/0 |
Открытое болото | 197/133/6/115/291 | 32/23/6/20/43 | 18/0/6/18/18 |
Гряда | 130/128/6/63/242 | 45/0/6/45/45 | 18/1/6/18/19 |
Мочажина Е | 123/94/6/72/186 | 30/30/6/15/45 | –/–/–/–/– |
Мочажина Ш | 115/46/6/82/150 | 13/0/6/13/13 | –/–/–/–/– |
Примечание. IQR – межквартальный размах, N – общее количество измерений, мин – наименьшее значение измерений, макс – наибольшее значение измерений, УБВ – уровень болотных вод, Т0 – температура поверхности почвы.
Почвенный покров. Изучаемые биотопы расположены в зоне почвообразующих пород различного генезиса, состава, свойств, служащих субстратом для формирования различных типов растительности, типов и комплексов почв.
Согласно карте почвообразующих пород, изучаемая территория приурочена к области озерно-аллювиальных, озерных и аллювиальных отложений песчаного и супесчаного гранулометрического состава, а также органогенных торфяных верховых и переходных отложений (мощность торфяной залежи 2–3 м, местами более 3 м). Территория болотного массива Мухрино относится к подзоне светлоземов, подзолистых почв и подзолов средней тайги, Нижнеиртышской провинции глееземов, светлоземов, подзолов, подзолистых и торфяных болотных почв, и входит в состав двух округов: Приобского (аллювиально дерново-глеевых и иловато-торфяно-глеевых почв с участием аллювиальных оподзоленных почв) и Кондинского (торфяных верховых почв грядово-мочажинных, грядово-мочажинно-озерковых и сосново-сфагновых болот, подзолов иллювиально-гумусовых и подзолов глеевых песчаных на озерно-аллювиальных отложениях) [18, 43].
Торфяные верховые (олиготрофные) почвы Ov–TO1–TO2–TO3–TT занимают плоские пространства, покрытые сосново-кустарничково-сфагновыми (Sph. fuscum) сообществами и грядово-мочажинными комплексами с чередованием олиготрофных шейхцериево-сфагновых мочажин и кустарничково (Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata) сфагновых (Sph. fuscum) гряд. Данный тип почв характеризуется наличием олиготрофной торфяной толщи, залегающей под очесом мхов (мощность 10–70 см).
Торфяная залежь исследуемого участка представлена различными видами торфа. Наибольшую часть залежи составляют типичные малоразложившиеся верховые торфа, сложенные Sphagnum balticum и Sphagnum fuscum (степень разложения до 15%). Также представлен пушицевый торф со степенью разложения до 45%. Среднее значение содержания углерода для исследуемого торфа составляет 51 ± 4%.
Камерный метод измерения потоков. Потоки диоксида углерода измеряли статическим камерным методом [39, 49] на шести типичных для средней тайги Западной Сибири участках болотных биотопов (открытое болото, рослый рям, гряда, мочажина Ш, мочажина Е, рям) поздней весной и летом 2022 г.: 31 мая–1 июня, 24–26 июня и 27–8 июля при помощи инфракрасного газоанализатора Li-850 (Li-COR Biogeosciences, США). Измерения проводили в дневное время, с 10 до 16 ч по местному времени. Камера, выполненная из оргстекла, с размером грани куба 0.4 м, имеет встроенный в верхней грани камеры вентилятор для перемешивания воздуха. Камеру устанавливали в желоб основания из нержавеющей стали аналогичного размера, заполненного отстоянной водой (для обеспечения герметичности внутреннего пространства камеры во время измерений), которое врезали в почву на глубину 10–15 см. В каждом из шести биотопов устанавливали по две камеры (одну в понижении, другую на повышении), с целью охвата их естественной пространственной вариабельности. Измерения выполняли в трехкратной временной повторности (между измерениями камера проветривалась не менее 1 мин), время экспозиции в рамках каждой повторности составляло 2–5 мин. Для затенения и во избежание избыточного нагрева камеры были укрыты чехлами из фольгированного пенопропилена и характеризовали эмиссию СО2 в атмосферу, обусловленную гетеротрофным дыханием почвы и автотрофным дыханием подземных частей растений (надземные части растений были удалены).
Расчет удельных потоков СО2 осуществляли в программном пакете MatLab (MathWorks, Inc., США) с использованием формулы:
.
Оценку абсолютной погрешности рассчитанного потока выполняли по формуле:
,
где flux – удельный поток диоксида углерода, мг C/ (м2 ч), a = 0.12 мг моль К/(кг Дж млн-1), Р – общее давление газовой смеси (Па), М – молярная масса газа (0.012 кг/моль для выражения потока в мг C/(м2 ч), b – скорость изменения концентрации газа в атмосфере камеры (млн−1/ч; рассчитан как тангенс угла наклона прямой роста концентрации в камере на основе метода наименьших квадратов с весами, функция fitlm, MatLab), Н – высота камеры (м), T – температура в камере в конце измерения (К), Т0 – температура в камере в начале измерения (К), ∆b – погрешность определения параметра b (млн−1/ч), ∆Н – погрешность определения высоты камеры (м; принята равной 0.05 м – что обусловлено, главным образом, неточностью оценки высоты установки камеры из-за неровностей поверхности).
Методы отбора фитомассы. Отбор фитомассы травяно-мохового (-кустарничкового, при наличии) яруса осуществляли в каждом биотопе после измерения потоков диоксида углерода непосредственно на участке установки камер (в двукратной пространственной повторности) 31 мая–1 июня, 24–26 июня и 27–8 июля. На исследуемых участках проводили геоботанические описания травяно-кустарничкового и мохового ярусов с измерением высот растений, определением проективного покрытия, фенофазы и жизненности.
Надземную фитомассу отбирали методом укосов с площади 40 × 40 см. Подземную фитомассу отбирали методом монолитов размером 10 × 10 см, на глубинах 5–15 и 15–25 см. В лабораторных условиях образцы разделяли на следующие фракции:
1) надземная фитомасса – высшие растения (с разделением по видам), зеленые части мхов (с разделением на зеленые и сфагновые), опад и ветошь;
2) подземная фитомасса – живой очес сфагновых и зеленых мхов с глубины 0–5 см, живые корни и побеги, мертвые корни и побеги, иная мортмасса и неразложенный торф. Выбранные фракции надземной и подземной фитомассы высушивали до получения постоянного сухого веса в лабораторном сушильном шкафу при температуре 75–80°С.
Экологические факторы. Одновременно с измерениями потоков диоксида углерода (или сразу после этих измерений) регистрировали следующие экологические факторы: уровень болотных вод (УБВ, см), удельную электропроводность (EC, мк См/см), кислотность (pH) болотных вод и температуру почвы (на глубине 0 и 15 см, °С)
Кроме того, с мая по сентябрь в мочажине Ш и ряме производили долговременный мониторинг УБВ с 30-минутным шагом измерения при помощи автономного датчика Hobo – Rain Gauge RG3-M (Hobo, США).
Математическое моделирование. Для того, чтобы оценить связь дыхания почвы (Rs, мг С/(м2 ч)) с УБВ использовали следующую регрессионную модель:
,
где УБВ (см) – уровень стояния болотных вод (0 соответствует поверхности, положительное направление – вглубь почвы, следовательно, если вода стоит выше поверхности, то УБВ < 0); α1 (мг С/(м2 ч)) – дыхание почвы при нулевом УБВ; α2 (см-1) – относительный коэффициент чувствительности почвенного дыхания к изменению уровня стояния воды.
Поскольку измерения не были равноточными, значения параметров модели искали методом наименьших квадратов с весами (обратно пропорциональными дисперсиям измерений) на основе данных, полученных для всех биотопов. Получены следующие значения: α1 = (42.0 ± 0.5) мг С/(м2 ч); α2 = (3.03 ± 0.04)×10-2 см-1. Стандартные отклонения для параметров моделей получены методом статистического моделирования, как описано в [31]: по экспериментальным данным и их дисперсиям генерировалось множество наборов (N) псевдоэкспериментальных данных; для каждого набора решалась задача идентификации параметров и, таким образом, для каждого параметра получался ряд, содержащий N значений; по полученным рядам вычисляли стандартные отклонения; в этом алгоритме N задавалось в соответствии с указаниями [4]: N = (Np + 1)Ne, где Np – количество идентифицируемых параметров модели, Ne – количество экспериментальных измерений зависимой переменной.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Дыхание почвы и его сезонная динамика. Наименьшая медиана почвенного дыхания (Rsoil) наблюдалась в мочажинах с доминированием Scheuchzeria palustris – 24 мг C/(м2 ч) (IQR = 70 мг C/ (м2 ч)) и Eriophorum vaginatum – 51 мг C/(м2 ч) (IQR = 99 мг C/(м2 ч) , наибольшая – в рослом ряме 203 мг C/(м2 ч) (IQR = 247 мг C/ (м2 ч)) (табл. 1). Медиана почвенного дыхания падала в ряду: рослый рям, рям, открытое болото, гряда, мочажина Е, мочажина Ш (203, 107, 90, 66, 51, 24 мг C/ (м2 ч)); медиана УБВ в этом же ряду, вероятно, возрастала (коэффициент детерминации линейной регрессии между медианой почвенного дыхания и УБВ составил 0.54 при p = 0.1 F = 0.09). Подчеркнем, что исключением из этого правила стали два участка: рослый рям и открытое болото, где интенсивность Rsoil была выше, несмотря на большее увлажнение в сравнении с участками рям и гряда соответственно. Предположительно, на рост величины Rsoil также повлияло более активное корневое и микробное дыхание, ассоциированное с плотной структурой пушицевых кочек, в значительной степени формирующих микрорельеф участка: масса живых и мертвых корней здесь была наибольшей среди других биотопов и составила 2203 и 3313 г/м2 соответственно. Прямая связь массы живых и мертвых корней с величиной составляющих Rsoil компонентов (автотрофное дыхание растений и гетеротрофное дыхание микроорганизмов) показана ранее [11, 15].
Результаты математического моделирования почвенного дыхания в течение сезона (с июня по август), основанного на зависимости Rsoil от УБВ, представлены на рис. 3. Наименьшее кумулятивное почвенное дыхание отмечено на наиболее увлажненных участках мочажина Ш и мочажина Е, наибольшее – на участках рям и рослый рям.
Рис. 3. Результаты моделирования почвенного дыхания на основе зависимости от уровня болотных вод: а – суммарное почвенное дыхание (Rsoil(кум)), за период с июня по август 2022 г.; b – уровень болотных вод за этот же период; c – столбчатая диаграмма суммарного почвенного дыхания в шести биотопах
Почвенное дыхание росло в течение сезона во всех биотопах с июня по август по мере падения УБВ: в большей степени на участках рям, рослый рям и открытое болото. Гряда, мочажина Ш и мочажина Е характеризовались более стабильными условиями увлажнения и, соответственно, практически линейным изменением кумулятивной кривой дыхания почвы в течение сезона. Вероятно, близость к окраинным участкам болотного массива (где расположены рям, рослый рям и открытое болото) в условиях недостатка атмосферных осадков обусловливает более резкое снижение УБВ, чем в его центральных частях.
Сумма смоделированных за июнь, июль и август 2022 г. величин почвенного дыхания оказалась несколько большей по сравнению с литературными данными (табл. 2). Например, участки мочажин на олиготрофных болотах характеризуются Rsoil(кум) в диапазоне от 36 до 116 г С/(м2 сезон), гряд – от 58 до 240 [23, 27, 48]. Таким образом, полученные данные в грядово-мочажинном комплексе соответствуют верхней границе имеющихся оценок. С другой стороны, в отдельных случаях [6] наблюдались сопоставимые и даже существенно большие величины почвенного дыхания (обратим внимание, что они относятся к территории южной тайги европейской части России, отличающейся по своим климатическим характеристикам от средней тайги Западной Сибири): до 978–1062 на кочках и 822–1000 на грядах. Необходимо отметить, что в [6] приведены годовые суммы почвенного дыхания; кроме того, рассчитан вклад летнего периода в годовую эмиссию, который составляет 48–62%. Следовательно, столь высокие значения из работы [6] при сравнении с полученными результатами должны быть уменьшены примерно вдвое – но даже при этом они почти вдвое выше, чем Rsoil на участках открытого болота и гряды.
Таблица 2. Дыхание почвы в болотных экосистемах согласно литературным данным
Экосистема | Элемент микроландшафта или тип биотопа | Географическое положение | Дыхание почвы, г С/(м2 сезон) | Cсылка |
Олиготрофное болото | Кочка | Онтарио, Канада | 101–108 | [23] |
Мочажина | 36–62 | |||
Кочка | Альберта, Канада | 58–73 | [48] | |
Мочажина | 45–58 | |||
Кочка | 66–109 | |||
Мочажина | 99–116 | |||
N/A | Южная Финляндия | 436–5131 | [51] | |
N/A | Северная Англия | 144–1902 | [34] | |
Мочажина | ХМАО, Россия (Мухрино) | 1083,7 | [57] | |
Гряда | 210–2403 | [28] | ||
Мочажина | 80–1103 | |||
Гряда | Тверская область, Россия | 194–2425 | [6] | |
Мочажина | 632–7665 | |||
Кочка | 978–10625 | |||
Межкочие | 822–10005 | |||
Заболоченный лес | Понижение | 90–370 | [30] | |
Повышение | 290–880 | |||
N/A | 66–9543 | [44] | ||
Заболоченные леса | Березовый лес с периодическим переувлажнением | Томская область, Россия | 8246 | [29] |
Березово-сосновый лес на границе с болотом типа “рям” | 7406 | |||
Олиготрофное болото | Мочажина Е | ХМАО, Россия (Мухрино) | 135 ± 2.3 | Настоящая работа |
Мочажина Ш | 139 ± 2.4 | |||
Открытое болото | 275 ± 7.8 | |||
Гряда | 279 ± 7.5 | |||
Рослый рям | 466 ± 16.4 | |||
Рям | 510 ± 18.5 |
Примечание. 1 г С/(м2 год); 2 рассчитано на основе потока 65–86 мг C/(м2 ч)для периода с 1 июня по 31 августа; 3 представленный поток характеризует дыхание экосистемы (Reco); 4 рассчитано на основе потока 30–432 мг C/(м2 ч) для периода с 1 июня по 31 августа; 5 представленный поток характеризует дыхание экосистемы (Reco) за год; 6 рассчитано на основе среднего арифметического измеренных удельных потоков для периода с 1 июня по 31 августа (представленный поток характеризует дыхание почвы и травяно-мохового яруса); представлен суммарный поток с 1 июня по 30 сентября.
В настоящей работе обнаружили зависимость дыхания почвы от УБВ, однако расчет, выполненный для отдельно взятого года, отражает специфичные метеорологические условия. Как отмечено выше, в июле 2022 г. установилась жаркая и лишенная осадков погода (в июле выпало всего 6 мм осадков при характерном среднемноголетнем значении 69 мм). Это привело к понижению УБВ до нетипичных значений, что безусловно сказалось на интенсивности процесса почвенного дыхания.
Согласно использованной модели экспоненциальной зависимости Rsoil от УБВ, увеличение аэрируемой зоны над УБВ приводит к интенсификации процессов дыхания и росту наблюдаемой эмиссии.
Подобные закономерности отмечены ранее для экосистем заболоченных лесов [30]: даже короткие периоды (до 2 недель) засух были способны привести к росту суммарного за сезон дыхания почвы на 9–45% для дренированных и увлажненных участков соответственно. Аналогичные результаты описаны в работе [25] для олиготрофных мочажин: снижение УБВ на 10 см приводило к росту эмиссии диоксида углерода примерно на 30%; в кочках зависимость была несколько иной: по мере снижения УБВ дыхание почвы сначала росло, а затем, при дальнейшем снижении, наоборот уменьшалось. Это весьма закономерно, так как следует закону оптимума и формализовано в виде простых зависимостей в других работах [21, 56].
Для того, чтобы оценить прирост дыхания почвы, который мог быть обусловлен снижением УБВ вследствие формирования засушливого периода в 2022 г., рассчитали сезонную динамику почвенного дыхания, основанную на мониторинге УБВ в 2021 г. Кумулятивное Rsoil(кум) за сезон 2021 г. оказалась ниже на 29, 31, 54, 27, 54 и 54% для ряда: мочажина Е., мочажина Ш., открытое болото, гряда, рослый рям и рям (результаты моделирования представлены на (рис. 4). Безусловно, использование экспоненциальной зависимости могло привести к завышению оценки Rsoil в 2022 г., и таким образом переоценить влияние засушливых периодов; однако это позволяет оценить тенденцию влияния данного фактора.
Рис. 4. Результаты моделирования почвенного дыхания на основе зависимости от уровня болотных вод: а – суммарное почвенное дыхание (Rsoil(кум)), за период с июня по август 2021 г.; b – уровень болотных вод за этот же период; c – столбчатая диаграмма суммарного почвенного дыхания в шести биотопах
Математическое моделирование суммарного за сезон 2021 г. дыхания почвы продемонстрировало результаты, в большей степени соответствующие литературным данным. Это иллюстрирует необходимость проведения многолетних наблюдений в пространственно-различных экосистемах для получения адекватной оценки функционирования болотных экосистем как стоков или источников углерода.
Увеличение частоты неблагоприятных погодных явлений, в том числе засух, по некоторым оценкам являющееся следствием климатических изменений, будет способствовать изменению углеродного баланса суши, важную роль в котором может сыграть высвобождение углерода, запасенного болотами в последние тысячелетия, путем окисления органического вещества торфяной залежи. Дальнейшая работа будет направлена на накопление данных о динамике Rsoil в рассмотренных типах болотных биотопах и учете других компонентов обмена диоксида углерода для последующей параметризации более сложных моделей, учитывающих природную изменчивость условий и отклик биологических процессов на них.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе данных полевых измерений была параметризована регрессионная модель, позволившая оценить связь Rsoil и УБВ. Отмечено, что почвенное дыхание зависит от УБВ не только в пространственном масштабе (примером служат изученные биотопы), но и во временном, что в значительной степени зависит от количества осадков. В сезоны, характеризующиеся наличием засушливых периодов, кумулятивное дыхание может увеличиться в 1.5–2 раза по сравнению со среднемноголетними условиями увлажнения.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем признательность А.А. Дмитриченко и В.А. Бодаш и всем инженерно-техническим работникам, которые обеспечивали логистику на лодках до ПС Мухрино, Е.А. Дюкареву за поддержку процесса измерений при помощи газоанализатора LI-850 и предоставление информации о развитии ПС Мухрино, А.Р. Ниязову за логистическую поддержку, Арине Бикуловой за полевые работы.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по организации молодежной лаборатории в Югорском государственном университете (НИР 1022031100003-5-1.5.1) в рамках реализации национального проекта “Наука и университеты”.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Спонсоры не играли никакой роли в разработке исследования; в сборе, анализе или интерпретации данных; в написании рукописи или в решении опубликовать результаты.
About the authors
A. V. Niyazova
Yugra State University
Author for correspondence.
Email: a_meshcheryakova@ugrasu.ru
ORCID iD: 0000-0002-8480-9557
Russian Federation, Khanty-Mansiysk
D. V. Ilyasov
Yugra State University
Email: a_meshcheryakova@ugrasu.ru
Russian Federation, Khanty-Mansiysk
M. V. Glagolev
Yugra State University; Lomonosov Moscow State University; Institute of Forest Science, RAS
Email: a_meshcheryakova@ugrasu.ru
Russian Federation, Khanty-Mansiysk; Moscow; Uspenskoye
Yu. V. Kupriyanova
Yugra State University
Email: a_meshcheryakova@ugrasu.ru
Russian Federation, Khanty-Mansiysk
A. A. Kaverin
Yugra State University
Email: a_meshcheryakova@ugrasu.ru
Russian Federation, Khanty-Mansiysk
A. F. Sabrekov
Yugra State University
Email: a_meshcheryakova@ugrasu.ru
Russian Federation, Khanty-Mansiysk
T. A. Novikova
Yugra State University
Email: a_meshcheryakova@ugrasu.ru
Russian Federation, Khanty-Mansiysk
A. V. Kaverina
Yugra State University
Email: a_meshcheryakova@ugrasu.ru
Russian Federation, Khanty-Mansiysk
I. V. Filippov
Yugra State University
Email: a_meshcheryakova@ugrasu.ru
Russian Federation, Khanty-Mansiysk
E. D. Lapshina
Yugra State University
Email: a_meshcheryakova@ugrasu.ru
Russian Federation, Khanty-Mansiysk
References
- Алферов А.М., Блинов В.Г., Гитарский М.Л., Грабар В.А., Замолодчиков Д.Г., Зинченко А.В., Иванова Н.П. и др. Мониторинг потоков парниковых газов в природных экосистемах. Саратов: Амирит, 2017. 279 с.
- Бирюкова О.Н., Орлов Д.С. Запасы углерода органических соединений в почвах Российской Федерации // Почвоведение. 1995. № 1. С. 21–32.
- Ваганов Е.А., Ведрова Э.Ф., Верховец С.В., Ефремов С.П., Ефремова Т.Т., Круглов В.Б., Шибистова О.Б. Леса и болота Сибири в глобальном цикле углерода // Сибирский экологический журнал. 2005. Т. 12. № 4. С. 631–649.
- Варфоломеев С.Д., Гуревич К.Г. Биокинетика: Практический курс. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 720 с.
- Вомперский С.Э. Роль болот в круговороте углерода // Чтения памяти академика В.Н. Сукачева. XI Биогеоценотические особенности болот и их рациональное использование. М.: Наука, 1994. 37 с.
- Вомперский С.Э., Сирин А.А., Сальников А.А., Цыганова О.П., Валяева Н.А. Облесенность болот и заболоченных земель России // Лесоведение. 2011. № 5. С. 3–11.
- Вомперский С.Э., Сирин А.А., Цыганова О.П., Валяева Н.А., Майков Д.А. Болота и заболоченные земли России: попытка анализа пространственного распределения и разнообразия // Известия РАН. Сер. Географическая. 2005. № 5. С. 39–50.
- Глухова Т.В., Вомперский С.Э., Ковалев А.Г. Эмиссия СО2 с поверхности олиготрофных болот южно-таежной зоны европейской территории России с учетом микрорельефа // Почвоведение. 2014. № 1. С. 48–57.
- Головацкая Е.А., Дюкарев Е.А. Влияние факторов среды на эмиссию СО2 с поверхности олиготрофных торфяных почв Западной Сибири // Почвоведение. 2012. № 6. С. 658–667.
- Головацкая Е.А., Дюкарев Е.А., Веретенникова Е.Э., Никонова Л.Г., Смирнов С.В. Оценка динамики баланса углерода в болотах южнотаежной подзоны Западной Сибири (Томская область) // Почвы и окружающая среда. 2022. Т. 5. № 4. С. 194–212.
- Гончарова О.Ю., Матышак Г.В., Бобрик А.А., Тимофеева М.В., Сефилян А.Р. Оценка вклада корневого и микробного дыхания в общий поток СО2 из торфяных почв и подзолов севера Западной Сибири методом интеграции компонентов // Почвоведение. 2019. № 2. С. 234–245. https://doi.org/10.1134/S0032180X19020059
- Ефремов С.П., Ефремова Т.Т., Мелентьева Н.В. Запасы углерода в экосистемах болот // Углерод в экосистемах лесов и болот России. Красноярск: ВЦ СО РАН, 1994. С. 128–139.
- Заварзин Г.А. Цикл углерода в природных экосистемах России // Природа. 1994. № 7. С. 15–18.
- Земцов А.А. Болота Западной Сибири – их роль в биосфере. Томск: ТГУ, СибНИИТ, 2000. 72 с.
- Икконен Е.Н. Интенсивность дыхания корней Eriophorum vaginatum (Cyperaceae) // Ботанический журнал. 2007. Т. 92. № 4. С. 524–531.
- Лавров C.А., Курбатова Ю.А. Математическое моделирование тепловлагообмена и потоков СО2 на поверхности верхового болота // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2005. Т. 41. № 5. С. 63–645.
- Молчанов А.Г., Ольчев А.В. Модель газообмена CO2 сфагнового верхового болота // Компьютерные исследования и моделирование. 2016. Т. 8. № 2. С. 369–377. https://doi.org/10.20537/2076-7633-2016-8-2-369-377
- Национальный атлас почв Российской Федерации / Под ред. Шобы С.А. М.: Астрель, 2011. 632 с.
- Ольчев А.В., Курбатова Ю.А., Варлагин А.В., Выгодкая Н.Н. Модельный подход для описания переноса СО2 между лесными экосистемами и атмосферой // Лесоведение. 2008. № 3. С. 3–13.
- Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России М.: Наука, 2007. 315 с.
- Соколов А.В., Мамкин В.В., Авилов В.К., Тарасов Д.Л., Курбатова Ю.А., Ольчев А.В. Применение метода сбалансированной идентификации для заполнения пропусков в рядах наблюдений за потоками СО2 на сфагновом верховом болоте // Компьютерные исследования и моделирование. 2019. Т. 11. № 1. С. 153–171. https://doi.org/10.20537/2076- 7633-2019-11-1-153-171
- Amaral J.A., Knowles R. Methane metabolism in a temperate swamp // Appl. Environ. Microbiol. 1994. V. 60. № 11. P. 3945–3951. https://doi.org/10.1128/aem.60.11.3945-3951.1994
- Alekseychik P., Mammarella I., Karpov D., Dengel S., Terentieva I., Sabrekov A., Glagolev M., Lapshina E. Net ecosystem exchange and energy fluxes measured with the eddy covariance technique in a western Siberian bog // Atmospheric Chem. Phys. 2017. V. 17. № 15. P. 9333–9345. https://doi.org/10.5194/acp-17-9333-2017
- Chimner R.A., Cooper D.J. Influence of water table levels on CO2 emissions in a Colorado subalpine fen: an in situ microcosm study // Soil Biol. Biochem. 2003. V. 35. № 3. P. 345–351. https://doi.org/10.1016/S0038-0717(02)00284-5
- Crow S.E., Wieder R.K. Sources of CO2 emission from a northern peatland: root respiration, exudation, and decomposition // Ecology. 2005. V. 86. № 7. P. 1825–1834. https://doi.org/10.1890/04-1575
- Davydov D.K., Dyachkova A.V., Simonenkov D.V., Fofonov A.V., Maksutov S.S. Application of the automated chamber method for longterm measurements CO2 and CH4 fluxes from wetland ecosystems of the West Siberia // Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2021. V. 12. № 1. P. 5-14. https://doi.org/10.17816/edgcc48700
- Dimitrov D.D. Grant R.F., Lafleur P.M., Humphreys E.R. Modeling the effects of hydrology on ecosystem respiration at Mer Bleue bog // J. Geophys. Research: Biogeosciences. 2010. V. 115. № G4. P. G04043. https://doi.org/10.1029/2010JG001312
- Dyukarev E., Zarov E., Alekseychik P., Nijp J., Filippova N., Mammarella I., Filippov I., Bleuten W., Khoroshavin V., Ganasevich G., Meshcheryakova A., Vesala T., Lapshina E. The Multiscale Monitoring of Peatland Ecosystem Carbon Cycling in the Middle Taiga Zone of Western Siberia: The Mukhrino Bog Case Study // Land. 2021. V. 10. № 8. P. 824. https://doi.org/10.3390/land10080824.
- Dyukarev E., Filippova N., Karpov D., Shnyrev N., Zarov E., Filippov I., Voropay N., Avilov V., Artamonov A., Lapshina E. Hydrometeorological dataset of West Siberian boreal peatland: A 10-year records from the Mukhrino field station // Earth System Science Data. 2021. V. 13. № 6. P. 2595–2605. https://doi.org/10.5194/essd-13-2595-2021
- Glagolev M.V., Ilyasov D.V., Terentieva I.E., Sabrekov A.F., Mochenov S.Yu., Maksutov S.S. Methane and carbon dioxide fluxes in the waterlogged forests of south and middle taiga of Western Siberia // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. V. 138. P. 012005. https://doi.org/:10.1088/1755-1315/138/1/012005
- Glagolev M.V., Sabrekov A.F. On several ill-posed and ill-conditioned mathematical problems of soil physics // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. V. 368. P. 012011. https://doi.org/10.1088/1755-1315/368/1/012011
- Glagolev M.V., Sabrekov A.F., Kleptsova I.E., Filippov I.V., Lapshina E.D., Machida T., Maksyutov Sh.Sh. Methane Emission from Bogs in the Subtaiga of Western Siberia: The Development of Standard Model // Eurasian Soil Science. 2012. V. 45. № 10. P. 947-957. https://doi.org/10.1134/S106422931210002X
- Glukhova T.V. Ilyasov D.V., Vompersky S.E., Golovchenko A.V., Manucharova N.A., Stepanov A. L. Soil respiration in alder swamp (Alnus glutinosa) in southern taiga of European Russia depending on microrelief // Forests. 2021. V. 12. № 4. P. 496. https://doi.org/10.3390/f12040496
- Gorham E. Northern Peatlands: Role in the Carbon Cycle and Probable Responses to Climatic Warming // Ecological Applications. 1991. V. 1. № 2. Р. 182–195. https://doi.org/10.2307/1941811
- Goulden M.L., Munger J.W., Fan S.M., Daube B.C., Wofsy S.C. Measurements of carbon sequestration by long-term eddy covariance: methods and a critical evaluation of accuracy // Global change biology. 1996. V. 2. № 3. P. 169–182. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.1996.tb00070.x
- Hamilton J.G., DeLucia E.H., Naidu S.L, Finzi A.C., Schlesinger W.H Forest carbon balance under elevated CO2 // Oecologia. 2002. V. 131. P. 250–260. https://doi.org/10.1007/s00442-002-0884-x
- Harriss R.C., Sebacher D.I. Methane flux in forested freshwater swamps of the southeastern United States // Geophys. Research Lett. 1981. V. 8. № 9. P. 1002–1004. https://doi.org/10.1029/GL008i009p01002
- Heinemeyer A., Di Bene C., Lloyd A.R., Tortorella D., Baxter R., Huntley B. et al. Soil respiration: Implications of the plant–soil continuum and respiration chamber collar–insertion depth on measurement and modelling of soil CO2 efflux rates in three ecosystems // Eur. J. Soil Sci. 2011. V. 62. № 1. P. 82–94.
- Hutchinson G.L., Mosier A.R. Improved soil cover method for field measurement of nitrous oxide fluxes // Soil Sci. Soc. Am. J. 1981. V. 45. P. 311–316.
- Ilyasov D.V., Meshcheryakova A.V., Glagolev M.V., Kupriianova I.V., Kaverin A.A., Sabrekov A.F., Lapshina E.D. Field-Layer Vegetation and Water Table Level as a Proxy of CO2 Exchange in the West Siberian Boreal Bog // Land. 2023. V. 12. № 3. P. 566. https://doi.org/10.3390/land12030566
- IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. 3056 p. https://doi.org/10.1017/9781009325844.
- Ivanov K.E., Novikov S. Mires of Western Siberia, Their Structure and Hydrological Regime. Hydrometeoizdat, Leningrad. 1976. 448 р.
- Kupriianova I.V., Kaverin A.A., Filippov I.V., Ilyasov D.V., Lapshina E.D., Logunova E.V., Kulyabin M.F. The main physical and geographical characteristics of the Mukhrino field station area and its surroundings // Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2022. V. 13. № 4. P. 215–252. https://doi.org/10.18822/edgcc240049
- Kurbatova J., Tatarinov F., Molchanov A., Varlagin A. Partitioning of ecosystem respiration in a paludified shallow-peat spruce forest in the southern taiga of European Russia // Environ. Res. Lett. 2013. V. 8. № 4. P. 045028.https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/4/045028
- Lavigne M.B., Ryan M.G., Anderson L. Comparing nocturnal eddy covariance measurements to estimates of ecosystem respiration made by sealing chamber measurements // J. Geophys. Research Atmospheres. 1997. V. 102. № D24. P. 28977–28985. https://doi.org/10.1029/97JD01173
- Law B.E., Ryan M.G., Anthoni P.M. Seasonal and annual respiration of a ponderosa pine ecosystem // Global Change Biology. 1999. V. 5. P. 169–182. https://doi.org/10.1046/j.1365-2486.1999.00214.x
- Moore T.R., Knowles R. Methane emissions from fen, bog and swamp peatlands in Quebec // Biogeochemistry. 1990. V. 11. № 1. P. 45–61. https://doi.org/10.1007/BF00000851
- Munir T.M., Khadka B., Xu B., Strack M. Partitioning forest-floor respiration into source based emissions in a boreal forested bog: Responses to experimental drought // Forests. 2017. V. 8. № 3. P. 75. https://doi.org/10.3390/f8030075
- Nozhevnikova A., Glagolev M., Nekrasova V., Einola J., Sormunen K., Rintala J. The analysis of methods for measurement of methane oxidation in landfills // Water Sci. Technol. 2003. V. 48. № 4. P. 45–52.
- Ojanen P., Minkkinen K., Lohila A., Badorek T., Penttilä T. Chamber measured soil respiration: A useful tool for estimating the carbon balance of peatland forest soils? // Forest Ecology and Management. 2012. V. 277. P. 132–140.
- Titlyanova A.A., Bulavko G.I., Kudryashova S.Ya., Naumov A.V., Smirnov V.V., Tanasienko A.A. The Reserves and Losses of Organic Carbon in the Soils of Siberia // Eurasian Soil Science. 1998. V. 31. № 1. P. 45–53.
- Wang K.Y., Kellomaki S., Zha T.S., Peltola H. Component carbon fluxes and their contribution to ecosystem carbon exchange in a pine forest: an assessment based on eddy covariance measurements and an integrated model // Tree Physiology. 2004. V. 24. № 1. P. 19–34. https://doi.org/10.1093/treephys/24.1.19
- Yurova A., Wolf A., Sagerfors J., Nilsson M. Variations in net ecosystem exchange of carbon dioxide in a boreal mire: Modeling mechanisms linked to water table position // J. Geophysical Res. 2007. V. 112. P. G02025. https://doi.org/10.1029/2006JG000342
- Zarov E.A., Jacotot A., Kulik A.A., Gogo S.S., Lapshina E.D., Dyukarev E.A. The carbon dioxide fluxes at the open-top chambers experiment on the ombrotrophic bog (Mukhrino field station) // Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2022. V. 13. № 4. P. 194-201. https://doi.org/10.18822/edgcc168830
Supplementary files