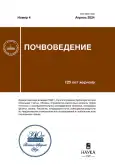Ecological and Geochemical Assessment of the State of Soils in the City of Baikalsk According to the Content of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
- Authors: Kosheleva N.E.1, Nikiforova E.M.1, Zhaxylykov N.B.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 633-652
- Section: DEGRADATION, REHABILITATION, AND CONSERVATION OF SOILS
- URL: https://journal-vniispk.ru/0032-180X/article/view/264105
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24040086
- EDN: https://elibrary.ru/WSCSQB
- ID: 264105
Cite item
Full Text
Abstract
The pollution of the topsoils of the city of Baikalsk (Irkutsk region) under the influence of industrial emissions and wastes of the Baikal Pulp and Paper Mill (BPPM) was studied. The content of 16 individual PAH structures in samples of urban and background soils taken during the soil geochemical survey in the summer of 2019 was analyzed. Relatively low levels of PAH content were found in the lignin sludge from the BPPM and СHP ash. The concentration of total PAHs in CHP ash reaches 46 mg/ kg with a predominance of low molecular weight compounds (the proportion of naphthalene and its homologues is 24% and 34% of the total PAHs, respectively), among high molecular weight PAHs, 5-nuclear benzo(b)fluoranthene dominates (16%). In lignin sludge, the amount of PAHs is 7.16 mg/kg with the predominance of benzo(b)fluoranthene (83%). In the soils of Baikalsk, the average total content of PAHs (38.4 mg/kg) is 5 times higher than the background content. In urban soils, 4–5-nuclear fluoranthene (61.1%) and benzo(b)fluoranthene (29.4%) prevail. This makes it possible to attribute soil pollution to the fluoranthene type. The soils of the motor transport (total PAH 105 mg/kg) and industrial (59.5 mg/ kg) zones are the most polluted, where the most contrasting PAH anomalies were formed. In descending order of the amount of PAHs, the land use zones of the city form a series: motor transport > industrial > residential one-storey > railway transport > residential multi-storey > recreational zone. Several local anomalies in the amount of PAHs are distinguished, forming two large pollution halos in the western and eastern parts of the city. The leading factors in the accumulation of high molecular weight PAHs in soils are acid-alkaline conditions and soil organic matter, while the accumulation of low molecular weight polyarenes is mainly controlled by pH. The environmental hazard of pollution of Baikalsk soils with polyarenes is due to benzo(b)fluoranthene, its contribution is 83.5%.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Депонирование загрязняющих веществ, поступающих в городские почвы с промышленными и транспортными выбросами, ухудшает состояние окружающей среды и негативно сказывается на здоровье жителей. В г. Байкальске значительную опасность представляют выбросы и отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). За время его работы с 1966 по 2013 гг. в городской среде могли накопиться различные загрязняющие вещества, включая такие опасные, как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ, полиарены). После закрытия БЦБК на поверхности почв в г. Байкальске оказалось большое количество отходов его производства, оцениваемых в 6.2 млн т [10]. Значительная их часть до сих пор находится на полигонах в картах-накопителях, откуда загрязняющие вещества могут мигрировать, а затем накапливаться в окружающих ландшафтах, в первую очередь в почвах, которые являются основным депонирующим компонентом и индикатором многолетнего загрязнения ПАУ [11]. Кроме того, Байкальск расположен на юго-западном берегу оз. Байкал, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому миграция загрязняющих веществ из карт-накопителей создает потенциальную угрозу загрязнения его вод [1, 3, 5].
ПАУ образуются в процессе пиролиза органических веществ, поступают в городскую среду с техногенными выбросами, отходами и стоками многих промышленных производств, автотранспорта, ТЭЦ, а также при добыче и сжигании угля и нефти. В городские почвы ПАУ попадают из загрязненного воздуха с пылью, аэрозолями и осадками. ПАУ относят к приоритетным поллютантам окружающей среды, они представляют собой органические соединения, в химической структуре которых присутствуют от 2 до 7 конденсированных бензольных колец [7]. Многие ПАУ обладают не только высокой токсичностью, но и канцерогенной и мутагенной активностью [33, 52, 65]. Полиарены условно делятся на низкомолекулярные, к которым относятся 2- и 3-ядерные ПАУ, и высокомолекулярные – 4-ядерные и выше. Последние характеризуются большей устойчивостью, они дольше способны сохраняться в почвенном профиле, их молекулы менее подвержены фотохимической и микробиологической деструкции. Низкомолекулярные ПАУ разлагаются относительно легко и способны переходить в газовую фазу [41]. Наибольшую экологическую опасность создают высокомолекулярные ПАУ, среди которых выделяют бенз(а)пирен (БаП) – соединение с 5 бензольными кольцами (С20Н12), которое считается суперзагрязнителем окружающей среды [13, 20, 72]. Имея высокую гидрофобность и малую растворимость, они могут быстро адсорбироваться на почвенных частицах, например, на органическом веществе почв [6, 75].
Цель работы – оценить современное эколого-геохимическое состояние почв г. Байкальска на основе данных о содержании ПАУ. Для этого решались следующие задачи: 1) выявить состав ПАУ в основных источниках загрязнения почв – отходах производства (шлам-лигнине) БЦБК и золе ТЭЦ; 2) установить уровни содержания и пространственное распределение отдельных ПАУ в верхнем слое фоновых и городских почв; 3) определить основные физико-химические свойства верхнего слоя городских почв, влияющих на накопление и распределение ПАУ; 4) оценить экологическую опасность загрязнения ПАУ почвенного покрова в г. Байкальске.
В основу работы положены результаты почвенно-геохимической съемки на территории г. Байкальска в июле 2019 г.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Территория исследования. Байкальск расположен на подгорной равнине в предгорьях хребта Хамар-Дабан. Согласно физико-географическому районированию, территория относится к Джидинско-Хамар-Дабанской провинции Южно-Сибирско-Хангай-Хэнтэйской горной области [48].
Байкальск – самый снежный и дождливый город на побережье оз. Байкал. Количество атмосферных осадков равно в среднем 859 мм/год, наиболее холодный месяц – январь (–17.4°С), самый теплый – июль (+15.3°С). Главными климатическими факторами на его территории являются макроциркуляционные процессы и формирующиеся на их фоне местные поля атмосферного давления над акваторией Байкала и его побережьем [37]. Среднегодовая скорость ветра достигает 2.5 м/с, наибольшая ветровая активность наблюдается в апреле (2.9 м/с). В течение года преобладают ветры северо-восточного, северного и восточного направлений, дующие с Байкала.
Метеорологические условия города в целом малоблагоприятны для рассеивания и трансформации техногенных выбросов ПАУ в приземном слое воздуха. В холодный период года, продолжающийся более 7 месяцев, устанавливается область высокого давления – сибирский антициклон. Процессы самоочищения ограничены очень низкими температурами воздуха, низкими скоростями ветра и частой повторяемостью штилей и температурных инверсий [48]. Летом повторяемость ветров уменьшается, и потенциал самоочищения атмосферы еще более снижается. В долинах рек опасность загрязнения приземного воздуха возрастает в связи с частыми и продолжительными туманами [19].
Растительность на территории города представлена пихтовой, кедрово-пихтовой и елово-пихтово-кедровой тайгой [26]. Местами древесный покров разрежен и наряду с почвами испытывает антропогенное воздействие. Уровень залесенности в разных функциональных зонах Байкальска варьирует от наибольшей в транспортной зоне: автомобильной (47.3%) и железнодорожной (45.2%) до наименьшей в селитебной: одноэтажной (10.2%) и среднеэтажной (4.63%). В промышленной зоне залесенность близка к средней по городу – 27.1%.
Почвы на изучаемой территории относятся к Хамар-Дабанскому округу подбуров (Entic Podzols), буроземов грубогумусных (Dystric Cambisols), дерново-подзолов (Umbric Albic Podzols), подзолов (Albic Podzols), криоземов (Cryosols) и литоземов (Leptosols) с хорошо выраженной высотной поясностью [48]. Наиболее высокое положение занимают подбуры литогенные (Leptic Entic Podzols), мерзлотно-таежные (Folic Cryosols), дерновые лесные (Umbrisols) и горные примитивные почвы (Leptosols). Ниже развиты подбуры (типичные и перегнойные оподзоленные) (Entic Podzols, Umbric Entic Podzols), подзолы (типичные и иллювиально-гумусовые) (Albic Podzol, Carbic Albic Podzols), бурые лесные (иллювиально-гумусовые) (Dystric Cambisols), дерновые лесные (оподзоленные) (Albic Umbrisols) почвы. На повышенных участках террас оз. Байкал формируются дерновые лесные (Umbrisols) и дерново-подзолистые почвы (Retisols), а на карбонатных отложениях – дерново-карбонатные почвы (Rendzic Leptosols) [15, 18, 24, 38, 42, 43]. Наибольшее распространение на территории г. Байкальска получили горные подбуры (Skeletic Entic Podzols) [30] с малой мощностью профиля (менее 40 см).
Горный характер рельефа и суровые климатические условия Южного Прибайкалья обусловливают слабую интенсивность процессов химического и физического выветривания, низкие темпы почвообразования и высокую степень каменистости профиля практически всех почв. Профиль большинства лесных почв слабо дифференцирован, его разделение по элювиально-иллювиальному типу выражено лишь у подзолов (Albic Podzols) и дерново-подзолистых (Retisols) почв. Гранулометрический состав лесных почв – суглинистый, более легкий состав характерен для подзолов (Albic Podzols), буроземов (Dystric Cambisols), аллювиальных почв (Fluvisols) и частично подбуров (Entic Podzols) [38]. В связи с многолетним антропогенным воздействием городские почвы в той или иной степени преобразованы, их морфологические, физико-химические, химические свойства и режимы функционирования изменены по сравнению с фоновыми аналогами. Профиль городских почв, как правило, состоит из одного или нескольких урбиковых горизонтов U1, U2 разной мощности, сформированных из своеобразного пылевато-гумусового субстрата [8]. Верхний горизонт профиля представляет собой органо-минеральный, насыпной, перемешанный субстрат с включениями строительно-бытового мусора мощностью около 5–10 см.
Скорость рассеяния, разложения и накопления ПАУ в городских почвах зависит как от природных биоклиматических условий, так и от свойств почв, которые определяют их фиксирующую способность по отношению к поллютантам. Чем ниже активность природных процессов самоочищения городской среды, тем быстрее ПАУ могут накапливаться в почвах, создавая опасность для здоровья населения [47]. Самое быстрое разложение ПАУ происходит в кислых, а его накопление – в нейтральных и щелочных почвах [29, 33, 44, 69, 73]. Немаловажное значение имеет гумус и органические коллоиды, которые способны прочно сорбировать липофильные ПАУ [27, 60].
Связь между уровнем накопления полиаренов и степенью засоления и солонцеватости поверхностных и иллювиальных горизонтов бурых пустынно-степных орошаемых почв Калмыкии показана в работе [46]. Авторы объясняют ее тем, что в солонцеватых почвах сильные электролиты образуют своеобразные геохимические барьеры, на которых в результате подавления диссоциации обменных катионов происходит коагуляция коллоидов почвенного раствора, сорбирующих ПАУ.
Техногенные источники загрязнения. Основными источниками загрязнения почв г. Байкальска являются техногенные отходы производства БЦБК (шлам-лигнин) и зола ТЭЦ, а также выбросы авто- и железнодорожного транспорта. Город является крупным железнодорожным узлом на Транссибирской магистрали, через него проходит также федеральная автотрасса “Байкал”, соединяющая Иркутск с Улан-Удэ.
На БЦБК применялся сульфатный способ получения целлюлозы, который включал ряд технологических операций обработки древесины – варка в белом щелоке и промывка сырья, делигнификация и отбеливание, сортировка и сушка [31]. Сульфатный или белый щелок – смесь гидрооксида натрия NaOH и сернистого натрия Na2S, который используется для получения чистой клетчатки. Cульфатный способ производства вызывает загрязнение преимущественно атмосферного воздуха, в меньшей степени – водных объектов щелокосодержащими сточными водами. Наиболее опасны содержащиеся в стоках смолы, фенолы, футурол и соединения сульфатного щелока. В результате отстаивания белого щелока образуются шламсодержащие воды, которые не могут сбрасываться в водные объекты из-за их сильного подщелачивания. Шламсодержащие отходы обезвоживаются и поступают в отвалы [32].
Отходы производства БЦБК размещены в 10 картах-накопителях Солзанского (площадью 138 га) и 4 картах-накопителях Бабхинского (42 га) полигонов. Солзанский полигон отходов находится в юго-восточной части Байкальска, в 0.35–0.75 км от оз. Байкал, Бабхинский полигон – в 8 км от промышленной площадки БЦБК, между реками Бабха и Утилик, в 1.35–2 км от оз. Байкал. Отходы БЦБК в картах-накопителях состоят в основном из обводненного шлам-лигнина и золы от его сжигания. В составе шлам-лигнина присутствуют лигнинные вещества – 50–53%, активный ил – 15–25%, глинозем – 5–10%, полиакриламид – 5%, целлюлозное волокно – 5%. Данному типу отходов характерна высокая водоудерживающая способность [34].
В 1999 г. производилась рекультивация полигонов отходов БЦБК, в настоящий момент используются только 2 из 14 карт-накопителей. На Бабхинском полигоне с 1998 г. одна из карт используется в качестве полигона твердых коммунальных отходов г. Байкальска [35], в другой на Солзанском полигоне размещаются золошлаковые отходы от сжигания угля на ТЭЦ. Местная ТЭЦ в качестве топлива использует Канско-Ачинские бурые угли. При их сжигании образуются в основном легкие 2–3-ядерные полиарены – нафталин, флуорен и фенантрен, в меньшей степени – 4–6-ядерные – пирен, хризен, бенз(b)флуорантен, бенз(a)пирен, бенз(ghi)перилен и др. [14]. В почвах ПАУ достигают максимальных концентраций, как правило, на расстоянии 0.5 км от источника эмиссии [49, 50]. Снижение содержания ПАУ в почвах может происходить за счет их микробиологической деградации [25, 61].
Другими источниками загрязнения ПАУ почв в Байкальске являются выбросы авто- и железнодорожного транспорта. Состав и количество выбросов от автотранспорта определяется структурой автопарка, интенсивностью и режимом движения, качеством топлива и другими факторами, что подробно освещается в научной литературе [53, 54, 58, 59]. Кроме того, поток ПАУ в почвы с выбросами автотранспорта зависит от климатических условий города, при снижении температуры воздуха до –7°C происходит резкий рост эмиссии полиаренов в окружающую среду, которая более чем в 10 раз больше, чем при температуре +22°C [51].
Эмиссия ПАУ при эксплуатации железных дорог изучена менее подробно [56, 63, 67, 79]. Загрязняющие вещества при работе железнодорожного транспорта поступают от мобильных источников (локомотивов и других элементов подвижного состава), износа конструкций подвижного состава, антисептика, который используется при обработке железнодорожных шпал, а также при утечке топлива [80]. Исследования загрязнения почв ПАУ от железных дорог показали значительное загрязнение железнодорожных платформ и разъездов, где сумма ПАУ достигала 15–60 мг/кг с преобладанием 4–5-ядерных ПАУ [71, 79]. В почвах железнодорожной станции г. Илава (Польша) преобладали 4-ядерные флуорантен (15% от суммы ПАУ) и пирен (13%), а также 5-ядерные бенз(b)флуорантен (10%) и бенз(а)пирен (9%). Доля легких полиаренов в составе ПАУ достигала 13%, а 4–5-ядерных структур –70% [79].
На крупных железнодорожных станциях Ухань и Учан в г. Ухань (центральный Китай) средние концентрации полиаренов в пыли составили 5.94 и 2.58 мг/кг соответственно [68]. В составе полиаренов на обеих станциях преобладали высокомолекулярные 4–6-ядерные соединения, которые образуются при сжигании угольного топлива [64]. Их основным источником на ст. Ухань является расположенный поблизости Уханьский металлургический комбинат, где в технологических процессах используется уголь. Ст. Учан соседствует с жилыми районами, но через нее проходят не только электропоезда, но и поезда, использующие угольное топливо, представляющее собой наиболее интенсивный источник поллютантов. В образцах пыли обеих станций установлена взаимосвязь между ПАУ и черным углеродом, что обусловлено высокой сорбционной способностью последнего к полиаренам, которая в несколько тысяч раз сильнее, чем к другим органическим соединениям [82].
Железнодорожные шпалы как источник ПАУ оценили в работе [67] для сети железных дорог Швейцарии. Авторы рассчитали, что за 20–30-летний цикл эксплуатации одна шпала дает в среднем эмиссию 500 г полиаренов, в составе которых преобладают 2–3-ядерные нафталин, аценафтилен, аценафтен, антрацен, флуорен и фенантрен. Концентрации нелетучих 4–6-ядерных ПАУ значительно увеличиваются с потерей летучих соединений в верхней и нижней частях шпалы.
Последние 150 лет на 3/4 железнодорожных путей России использовались деревянные шпалы, покрытые креозотом, который является продуктом дистилляции каменноугольной смолы. Он состоит из сложной смеси органических веществ, наибольшая доля в которых (до 80–85%) приходится на полиарены [62]. В последние десятилетия для обработки деревянных шпал используются менее токсичные антисептики – масло каменноугольное и жидкость термокаталитическая. В состав данных антисептиков входят ароматические соединения (производные бензола), ПАУ, гетероциклические ароматические соединения и предельные углеводороды [21]. Креозот может выступать источником ПАУ при эксплуатации железных дорог, если замену шпал железнодорожного полотна не проводили 20 лет.
В стране функционирует 16 шпалопропиточных заводов (ШПЗ), обеспечивающих строительство и обслуживание железнодорожных путей. Исследование загрязнения почвенного покрова территории Тайшетского ШПЗ в Иркутской области показало, что на долю ПАУ в структуре загрязнения почвенного покрова промышленной площадки ШПЗ органическими поллютантами приходится более 50%. Почвы промышленных площадок предприятия наиболее загрязнены 3–4-ядерными фенантреном, флуорантеном, антраценом и пиреном, суммарная доля которых составляла более 75%. Наиболее загрязненными оказались почвы склада готовой продукции с суммой ПАУ почти 6000 мг/кг [21].
Материалы и методы исследования. При подготовке к полевой съемке были изучены космические снимки территории города и карта градостроительного зонирования. На их основе в программном пакете ArcGIS 10.3 составлена карта функционального зонирования территории г. Байкальска, которая использовалась при выборе точек опробования почв, обработке и оценке полученных результатов (рис. 1).
Рис. 1. Карта функционального зонирования территории г. Байкальска с точками отбора почвенных проб и источниками загрязнения
На территории города и его окрестностей летом 2019 г. проведено опробование верхнего (0–10 см) горизонта почв по регулярной сетке с шагом 700–1000 м, согласно европейской методике [57]. Пробы почв отбирали в разных функциональных зонах в 3–5 повторностях, из которых составляли смешанную пробу. Особое внимание уделено промышленной зоне, где расположены БЦБК, ТЭЦ и карты-накопители отходов БЦБК, в которых хранятся шлам-лигнин и зола ТЭЦ. Всего было получено 68 проб городских почв и 4 пробы отходов производства и золы ТЭЦ из карт-накопителей БЦБК. В качестве фона использовали лесные почвы за пределами и на окраинах города (4 пробы).
Содержание ПАУ в почвах и отходах производства определяли с помощью анализатора жидкости Флюорат-02-Панорама (Люмэкс, Россия) методом низкотемпературной спектрофлуориметрии Э.В. Шпольского в лаборатории углеродистых веществ биосферы географического факультета МГУ.
Физико-химические свойства почв анализировали общепринятыми методами [16] в Эколого-геохимическом центре географического факультета МГУ. Удельную электропроводность водной вытяжки (ЕС1:5) измеряли кондуктометром SevenEasy S30 (MettlerToledo, Швейцария), актуальную кислотность – рН-метром (Эксперт-рН, Россия), гранулометрический состав почв – на лазерном гранулометре Analysette 22 comfort (Fritsch, Германия), содержание органического вещества – методом Тюрина с титриметрическим окончанием.
При обработке данных использовали геохимические и санитарно-гигиенические показатели, сравнительно-географический, статистические и картографические методы. Основные статистические показатели рассчитывали в пакете Statistica 10. Степень контрастности техногенных аномалий ПАУ в городских почвах определяли по коэффициенту концентрации Кс = Ci /Cф, где Ci и Сф – содержание полиарена в городских и фоновых почвах соответственно. Из-за отсутствия в РФ ПДК для полиаренов в почвах, за исключением БаП [36], их экологическую опасность оценивали на основе коэффициентов TEF [72], показывающих токсичность отдельных полиаренов по сравнению с БаП (табл. S3). Рассчитывали коэффициент экологической опасности суммы токсических эквивалентов БаП: Ко = ∑TEF Сi /ПДК, где ПДК – норматив для БаП, равный 0.02 мг/кг. При отсутствии стандартной шкалы для коэффициента экологической опасности, загрязнение почвенного покрова Байкальска ПАУ оценивали на основе следующих градаций Ko: 0–60 – низкий уровень опасности, 60–350 – умеренный, 350–700 – высокий, >700 – чрезвычайно высокий.
Факторы, определяющие аккумуляцию ПАУ в верхних горизонтах почв Байкальска, выявлены путем многофакторного регрессионного анализа методом регрессионных деревьев в пакете SPLUS [12]. Для определения факторов, влияющих на уровни содержания полиаренов, использовали показатели почв (pH, удельная электропроводность EС1:5, содержание органического углерода Cорг, содержание мелкой и средней (1–10 мкм), крупной (10–50) пыли, тонкого (50–250), среднего и крупного (250–1000) песка, а также принадлежность к той или иной функциональной зоне, которая определяет специфику источников загрязнения и уровень геохимической нагрузки.
На основе полученных данных составлены карты масштаба 1 : 85 000 распределения суммы низкомолекулярных и высокомолекулярных ПАУ (рис. 2a), а также экологической опасности загрязнения верхнего слоя почв г. Байкальска (рис. 2b). Карты суммарного содержания ПАУ и экологической опасности токсических эквивалентов БаП в городских почвах составляли путем интерполяции с использованием метода ОВР в пакете ArcGIS 10.3. Из-за наличия в выборках экстремально высоких значений, в десятки раз превышающих средние, суммарные содержания полиаренов в точках опробования были предварительно разделены по уровням накопления на две группы – чрезвычайно высокого и высокого содержания. Значения в первой группе при интерполяции заменяли на верхнюю границу второй группы (50 мг/кг), реальные значения затем показывали на картах в виде значков локальных аномалий, а основной фон загрязнения – цветом.
Рис. 2. Техногенные аномалии суммарного содержания ПАУ (a) и суммы БаП-эквивалентов ПАУ (b) в верхнем (0–10 см) слое почвенного покрова г. Байкальска
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
ПАУ в золе Байкальской ТЭЦ и в шлам-лигнине БЦБК. Как известно, большой вклад в загрязнение городской среды и почв вносят ТЭЦ, работающие на угле и мазуте, при сжигании которых образуется сажа, сорбирующая многие ПАУ [7]. В пробах золы ТЭЦ, захороненной в картах-накопителях БЦБК, выявлено 16 индивидуальных полиаренов (табл. 1). Основное топливо Байкальской ТЭЦ – бурый Канско-Ачинский уголь, в процессе пиролиза которого выделяется особая парагенетическая ассоциация ПАУ, свойственная этому типу углей.
Таблица 1. Среднее содержание ПАУ в золе ТЭЦ и в шлам-лигнине БЦБК г. Байкальска
ПАУ (число колец) | Содержание в золе, мг/кг | Доля в сумме ПАУ, % | Содержание в шлам-лигнине, мг/кг | Доля в сумме ПАУ, % |
Гомологи нафталина (2) | 15.83 | 34.5 | 0.28 | 3.9 |
Нафталин (2) | 10.88 | 23.7 | 0.38 | 5.3 |
Аценафтен (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Флуорен (3) | 0 | 0 | 0.05 | 0.7 |
Фенантрен (3) | 2.65 | 5.8 | 0 | 0 |
Антрацен (3) | 4.11 | 8.9 | 0 | 0 |
Аценафтилен (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма низкомолекулярных ПАУ | 33.47 | 72.9 | 0.70 | 9.9 |
Хризен (4) | 2.38 | 5.2 | 0.08 | 1.1 |
Пирен (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бенз(а)антрацен (4) | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
Флуорантен (4) | 0.46 | 1.0 | 0.19 | 2.7 |
Бенз(ghi)перилен (6) | 1.08 | 2.4 | 0.12 | 1.7 |
Дибензантрацен (5) | 0.55 | 1.2 | 0.09 | 1.3 |
Бенз(к)флуорантен (5) | 0.23 | 0.5 | 0.02 | 0.3 |
Бенз(b)флуорантен (5) | 7.53 | 16.4 | 5.94 | 83 |
Бенз(а)пирен (5) | 0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
Сумма высокомолекулярных ПАУ | 12.47 | 27.1 | 6.46 | 90.1 |
Отношение низкомолекулярных к высокомолекулярным ПАУ | 2.68 | 2.68 | 0.11 | 0.11 |
Сумма ПАУ | 45.94 | 100 | 7.16 | 100 |
Зола ТЭЦ характеризуется относительно невысоким содержанием ПАУ, их сумма близка к 46 мг/ кг с наибольшей концентрацией в золе низкомолекулярных ПАУ – отношение суммы легких к сумме тяжелых ПАУ составляет 2.7. Среди низкомолекулярных полиаренов доминируют гомологи нафталина и нафталин с долями 34 и 24% от суммы ПАУ соответственно, повышенные содержания (9–6%) имеют антрацен и фенантрен. Среди высокомолекулярных ПАУ выделяются бенз(b)флуорантен с долей 16% и хризен с 5% от суммы ПАУ. Полученные данные хорошо согласуются с содержанием ПАУ в золе других ТЭЦ, работающих на угле [49, 50].
Химический состав газопылевых выбросов, стоков и шлам-лигнина БЦБК рассматривался в работах [3–5, 17, 22], однако содержание ПАУ в них не определялось. По нашим данным, сумма ПАУ в шлам-лигнине в 6.4 раза меньше, чем в золе, и составляет 7.16 мг/кг. В его составе преобладают высокомолекулярные полиарены, отношение низкомолекулярных к высокомолекулярным ПАУ составляет 0.11. Среди высокомолекулярных ПАУ лидирует бенз(b)флуорантен с концентрацией 5.94 мг/кг (83% от суммы ПАУ). Повышенные содержания имеют флуорантен (3%) и бенз(ghi)перилен (2%). Среди низкомолекулярных ПАУ в шлам-лигнине, так же как в золе, доминирует нафталин и его гомологи с долями в сумме ПАУ 5 и 4% соответственно.
Физико-химические свойства городских почв. По сравнению с фоновыми подбурами (Entic Podzols) Южного Прибайкалья верхний слой горных подбуров (Skeletic Entic Podzols) г. Байкальска под влиянием техногенеза и урбанизации подщелачивается (табл. 2). Если фоновые почвы в среднем кислые, то для большей части территории города характерна нейтральная реакция среды в верхнем слое почв. Наибольшие средние значения рН (7.1–7.5) имеют почвы автотранспортной, промышленной зон и полигоны отходов БЦБК. Максимальные слабощелочные значения рН также приурочены к промышленной (8.0) зоне с полигонами отходов БЦБК (7.8), авто- и железнодорожной транспортной (7.8) подзонам. Наиболее кислая реакция среды отмечена в почвах двух селитебных подзон (6.4–6.6) и рекреационной (6.4) зоны.
Таблица 2. Физико-химические свойства верхнего слоя фоновых горных подбуров (Skeletic Entic Podzols) Южного Прибайкалья и городских почв в функциональных зонах г. Байкальска
Функциональные зоны и полигоны (количество точек) | pH | Удельная электропроводность ЕС1:5, мкСм/см | Сорг, % | Содержание физической глины, % |
Фон (4) | 5.3* 4.5–5.7 | 116 68.3–187 | 5.5 4.9–6.6 | 22.6 10.0–33.8 |
Полигоны отходов (4) | 7.2 6.2–7.8 | 449 99.8–1724 | 3.8 0.5–8.9 | 18.4 14.8–25.7 |
Промышленная (21) | 7.1 5.6–8.0 | 184 36.7–329 | 4.0 0.02–13.1 | 17.6 11.5–25.9 |
Автотранспортная (11) | 7.5 5.7–7.8 | 185 101–463 | 2.3 0.7–9.0 | 19.4 10.7–37.5 |
Транспортная железнодорожная (10) | 6.7 5.4–7.8 | 306 56.1–803 | 4.2 1.6–10.9 | 17.4 12.2–22.2 |
Селитебная многоэтажная (6) | 6.6 6.2–7.1 | 150 62.8–335 | 4.1 1.3–7.8 | 14.7 11.2–16.7 |
Селитебная одноэтажная (12) | 6.4 5.4–7.3 | 169 79.6–456 | 4.9 0.8–11.1 | 22.1 10.9–44.2 |
Рекреационная (8) | 6.4 5.8–7.2 | 90.6 40.3–312 | 2.3 0.4–5.9 | 17.1 7.1–37 |
Байкальск в целом (68) | 6.8 4.5–8.0 | 206 36.7–1724 | 3.8 0.02–13.1 | 18.7 7.1–44.2 |
* Над чертой – среднее, под чертой – min–max.
Подщелачивание городских почв вызвано поступлением карбонатной пыли, золы ТЭЦ и использованием зимой противогололедных реагентов. Большое влияние на подщелачивание почв оказал БЦБК, в производстве которого использовались щелочные ингредиенты: сода, диоксид хлора и гипохлорит натрия [31]. Это привело к формированию площадных щелочных геохимических барьеров [39], на которых аккумулируются ПАУ, образуя контрастные техногенные аномалии.
В почвах Байкальска повышена минерализация водной вытяжки, определяемая по удельной электропроводности ЕС1:5. Ее среднее значение равно 182 мкСм/см, что превышает фоновое значение в 1.6 раза, при значительной вариабельности в пределах города. Максимальными уровнем (449 мкСм/см) и разбросом значений ЕС1:5 (99.8–1724 мкСм/см) отличаются полигоны с отходами БЦБК, содержащими соли. В других функциональных зонах повышенная электропроводность водной вытяжки обусловлена не только влиянием отходов БЦБК, но и применением на дорогах города противогололедных реагентов в зимний период.
Наибольшее содержание Сорг (5.5%) отмечено в фоновых почвах. В городских почвах содержание органических веществ сильно варьирует с увеличением Сорг в восточной части и особенно вблизи комбината, что определено влиянием выбросов БЦБК и золы ТЭЦ. Наименьшее среднее содержание Сорг (2.3%) характерно для почв автотранспортной и рекреационной зон, наибольшее (4.9%) – для селитебной одноэтажной зоны. Локальные максимумы Сорг выявлены в почвах промышленной (13.1%) и селитебной одноэтажной зон (11.1%).
Городские почвы в основном супесчаные (среднее содержание физической глины 18.7%), а фоновые – легкосуглинистые (22.6%). Наибольшее содержание физической глины (частиц <0.01 мм) в почвах обнаружено в селитебной одноэтажной зоне (22.1%), наименьшее (14.7%) – в селитебной многоэтажной. Наиболее легкий гранулометрический состав почв характерен для прибрежных территорий озера и долин рек.
ПАУ в фоновых и городских почвах. Фоновые почвы Южного Прибайкалья, представленные подбурами горными легкосуглинистыми (Skeletic Entic Podzols), имеют низкие содержания ПАУ в верхнем слое, их суммарное содержание составляет 7.68 мг/ кг (табл. 3). В их составе преобладают высокомолекулярные соединения с отношением легких к тяжелым ПАУ, равным 0.029. Среди высокоядерных ПАУ доминирует 4-ядерный флуорантен (65.5%) и 5-ядерный бенз(b)флуорантен (29% от суммы ПАУ), среди низкоядерных – 2-ядерный нафталин (1.0%) и его гомологи (0.6% от суммы ПАУ).
Таблица 3. Среднее содержание ПАУ в поверхностном горизонте фоновых горных подбуров (Skeletic Entic Podzols) и городских почв по функциональным зонам г. Байкальска, мг/кг
ПАУ | Фоновая (4*) | Промышленная (21) | Автотранспортная (11) | Транспортная ж/д (10) | Жилая многоэтажная (6) | Жилая одноэтажная (12) | Рекреационная (8) | Среднее в городе (68) |
Гомологи нафталина | 0.05 | 0.6 | 3.87 | 1.08 | 0.75 | 0.28 | 0.04 | 1.03 |
Нафталин | 0.08 | 0.28 | 3.04 | 0.08 | 0.5 | 0.16 | 0.02 | 0.63 |
Аценафтен | 0.02 | 0.04 | 0.67 | 0.07 | 0.24 | 0.1 | 0.001 | 0.16 |
Флуорен | 0.008 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.03 |
Фенантрен | 0.04 | 0.53 | 2.37 | 0.2 | 0.62 | 0.4 | 0.04 | 0.67 |
Антрацен | 0.003 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.0005 | 0.02 |
Аценафтилен | 0.02 | 0.08 | 0.45 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.007 | 0.12 |
Сумма низкомолекулярных ПАУ | 0.22 | 1.57 | 10.6 | 1.61 | 2.15 | 1.02 | 0.11 | 2.67 |
Хризен | 0.001 | 0.1 | 0.99 | 0.07 | 0.01 | 0.32 | 0.004 | 0.25 |
Пирен | 0.08 | 0.06 | 0.36 | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.14 |
Бенз(а)антрацен | 0.02 | 0.04 | 0.23 | 0.06 | 0.15 | 0.04 | 0.002 | 0.08 |
Флуорантен | 5.04 | 52.8 | 34.1 | 4.86 | 3.3 | 7.09 | 3.99 | 23.5 |
Бенз(а)пирен | 0.005 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.005 | 0.05 | 0.001 | 0.03 |
Бенз(ghi)перилен | 0.03 | 0.2 | 0.96 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.003 | 0.25 |
Дибензантрацен | 0.04 | 0.13 | 0.5 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.002 | 0.15 |
Бенз(к)флуорантен | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 0.007 | 0.08 |
Бенз(b)флуорантен | 2.23 | 4.54 | 57 | 0.54 | 1.74 | 5.21 | 0.29 | 11.3 |
Сумма высокомолекулярных ПАУ | 7.47 | 57.9 | 94.4 | 6.28 | 5.34 | 13.1 | 4.31 | 35.7 |
Отношение низкомолекулярных к высокомолекулярным ПАУ | 0.029 | 0.027 | 0.112 | 0.26 | 0.402 | 0.078 | 0.026 | 0.075 |
Сумма ПАУ | 7.68 | 59.5 | 105 | 7.89 | 7.48 | 14.1 | 4.43 | 38.4 |
* В скобках – количество проб.
Наличие высокоядерных ПАУ, нехарактерное фоновым почвам, свидетельствует о влиянии техногенных факторов. При небольшом расстоянии участков опробования фоновых почв здесь могло проявиться воздействие выбросов транспорта и сжигания древесины для отопления частных домов. На это указывают и высокие коэффициенты вариации Cv отдельных полиаренов в фоновых почвах, которые близки или превышают 100% (табл. S1). Наибольшие значения коэффициентов (Cv = 184–200%) у низкомолекулярного нафталина и антрацена и у высокомолекулярных хризена и бенз(b)флуорантена. Содержание высокомолекулярных ПАУ в целом более неоднородно, чем у низкомолекулярных.
При доминировании в фоновых почвах высокомолекулярных ПАУ можно сделать вывод, что влияние сжигания древесины и лесных пожаров незначительно, так как продуктами неполного сгорания хвойной растительности становятся по большей части 2–3-ядерные ПАУ. Установлено, что в почвах под хвойной растительностью после прохождения пожаров преобладают 2–3-ядерные нафталин и флуорен, а также 4-ядерный пирен; в разных соотношениях присутствуют фенантрен, бенз(ghi)перилен, ретен, хризен, тетрафен [40]. Высокомолекулярные 4–6-ядерные соединения поступают в небольшом количестве, они образуются при сжигании смолистых компонентов древесины [23].
Городские почвы отличаются высоким содержанием ПАУ – в верхнем слое их сумма достигает 38.4 мг/кг, что в 5 раз больше фоновых значений. Присутствуют в основном высокомолекулярные соединения, отношение низкомолекулярных к высокомолекулярным ПАУ составляет 0.075. Среди высокомолекулярных полиаренов, аналогично фоновым почвам, преобладают флуорантен (61.1%) и бенз(b)флуорантен (29.4% от суммы ПАУ). В составе низкомолекулярных ПАУ слабо накапливаются гомологи нафталина и нафталин (2.7 и 1.6%), а также 3-ядерный фенантрен (1.7% от суммы ПАУ).
Городские почвы характеризуются высокой неоднородностью содержания ПАУ и даже большей вариабельностью, чем фоновые почвы. Во всех функциональных зонах большая часть коэффициентов вариации Cv полиаренов превышает 100%. В автотранспортной зоне наименьшее значение коэффициента у БаП (Cv = 90%), в транспортной железнодорожной и жилой многоэтажной зонах – у бенз(а)антрацена (99 и 86%), в жилой одноэтажной – у гомологов нафталина (96%). Наименьшая вариабельность отмечена в почвах рекреационной зоны у гомологов нафталина и бенз(к)флуорантена (Cv 69 и 61% соответственно). Почти во всех функциональных зонах города высокомолекулярные полиарены отличаются большей неоднородностью содержания, только в автотранспортной подзоне значение Cv 164% у низкомолекулярных ПАУ превышает значение у высокомолекулярных – 157%.
Различия в составе ПАУ городских почв разных функциональных зон. Сумма ПАУ в верхнем слое почв г. Байкальска сильно зависит от принадлежности к той или иной функциональной зоне, которые образуют ряд: автотранспортная > промышленная > селитебная одноэтажная > железнодорожная транспортная > селитебная многоэтажная > рекреационная зона. Наиболее загрязнены полиаренами почвы автотранспортной подзоны (сумма ПАУ 105 мг/кг) и промышленной зоны (59.5 мг/ кг). При этом уровень загрязнения почв автотранспортной подзоны превышает уровень промышленной зоны в 1.8 раза, превышение над остальными зонами – в 7–24 раза. В составе ПАУ почв автотранспортной подзоны доминируют высокомолекулярные полиарены (90% от суммы ПАУ). Среди них наибольшие концентрации у 4- и 5-ядерных флуорантена (34.1 мг/кг) и бенз(b)флуорантена (57 мг/кг), которые в сумме составляют 96.5% всех высокомолекулярных ПАУ и 87% всех ПАУ. Среди низкомолекулярных ПАУ наибольшими концентрациями характеризуются нафталин и его гомологи (3.04 и 3.87 мг/кг), фенантрен (2.37 мг/кг). На них приходится 87.5% всех низкомолекулярных ПАУ. Накопление бенз(b)флуорантена и фенантрена в почвах автотранспортной зоны связано со сжиганием автомобильного топлива [61, 66, 77], выхлопные газы автотранспорта поставляют также нафталин и его гомологи [25].
Во второй по уровню загрязнения ПАУ промышленной зоне также преобладают высокомолекулярные полиарены с суммой 57.9 мг/кг и долей в сумме ПАУ 97%. Наиболее интенсивно накапливается флуорантен (52.8 мг/кг, или 91% всех высокомолекулярных полиаренов и 89% суммы ПАУ). Повышенная по сравнению с другими индивидуальными ПАУ концентрация у бенз(b)флуорантена (4.54 мг/кг). Накопление низкомолекулярных полиаренов незначительно, концентрация каждого из них не превышает 1 мг/кг.
Сумма ПАУ в почвах одноэтажной селитебной зоны равна в среднем 14.1 мг/кг, на 93% она состоит из высокомолекулярных соединений, главным образом из 4–5-ядерных флуорантена (7.09 мг/кг) и бенз(b)флуорантена (5.21 мг/кг). Менее загрязнена многоэтажная селитебная зона, где концентрация ПАУ в почвах составляет 7.48 мг/кг. В структуре загрязнения преобладают высокомолекулярные ПАУ (71%) с интенсивным накоплением флуорантена (3.3 мг/кг) и бенз(b)флуорантена (1.74 мг/кг).
Железнодорожная подзона с суммой ПАУ 7.89 мг/кг более чем в 13 раз уступает по уровню загрязнения автомобильной подзоне. Сумма высокомолекулярных ПАУ в почвах этой подзоны 6.28 мг/кг, или 79.5% всех ПАУ с доминированием флуорантена (4.86 мг/кг). Флуорантен относится к приоритетным полиаренам, образующимся в разных функциональных зонах железных дорог [79]. Среди низкомолекулярных полиаренов лидируют гомологи нафталина (1.1 мг/кг).
Наименее загрязнена рекреационная зона с суммой ПАУ 4.43 мг/кг, которая на 90% состоит из 4-ядерного флуорантена (3.99 мг/кг).
Таким образом, в городских почвах разных функциональных зон доминируют 2 высокоядерных полиарена – флуорантен и бенз(b)флуорантен, что определяет флуорантеновый тип их загрязнения и свидетельствует о наличии специфических техногенных источников. Кроме выбросов и отходов БЦБК эти 4–5-ядерные ПАУ содержатся в выхлопных газах автотранспорта [9, 13, 28, 70, 76]. Низкомолекулярные летучие 2-3-ядерные нафталин и флуорен, а также 4-ядерный пирен поступают в городские почвы в результате атмосферного переноса продуктов горения лесов [41]. Источником пирена является сжигание угля [78], это обусловливает увеличение его концентраций в почвах Байкальска от выбросов ТЭЦ, пирен также содержится в выхлопных газах автотранспорта [25].
Индикаторные соотношения ПАУ. Отношения индивидуальных ПАУ способны указать на вклад отдельных источников эмиссии в их содержание в почвах [74, 81]. Так, отношение антрацена к сумме антрацена A0 и фенантрена P0 дает возможность разделить пирогенные и петрогенные полиарены. Значение A0 /(A0+P0) < 0.1 диагностирует петрогенные источники ПАУ, >0.1 – пиролиз углеводородов.
Значения отношения A0 /(A0+P0) для почв железнодорожной подзоны Байкальска позволяют охарактеризовать эмиссии полиаренов от испарения креозота при нагреве шпал во время движения железнодорожных составов. Среднее значение A0 / (A0+P0) в почвах этой подзоны составляет 0.49, что почти в 2 раза больше среднего значения для всего города и в 12 раз больше, чем в автомобильной подзоне (табл. S2). В железнодорожной подзоне обнаружено наибольшее количество участков с максимальным значением данного отношения (0.99), что связано со значительным поступлением пирогенных ПАУ. Таким образом, отношение A0 / (A0+P0) определяет специфику почв железнодорожной подзоны среди других функциональных зон.
Отношение флуорантена к сумме флуорантена и фенантрена FL0 /(FL0+P0) широко используется для выявления основных источников эмиссии ПАУ. Значение FL0 /(FL0+P0) = 0.5 принимается как граница сжигания различных видов топлива, находящихся в разном агрегатном состоянии. Если данный показатель >0.5, это указывает на поступление полиаренов преимущественно от сжигания растительной массы или угля, <0.5 – дизельного топлива, мазута, бензина, <0.4 – от сжигания сырой нефти [81]. Почти во всех функциональных зонах Байкальска значения данного отношения >0.5, наибольшие отмечены в почвах железнодорожной подзоны (0.81), рекреационной (0.79), промышленной (0.72) зон, автомобильной подзоны (0.70). Наименьший показатель FL0 /(FL0+P0) = 0.49 зафиксирован в селитебной многоэтажной зоне, что указывает на эмиссию ПАУ от сжигания жидкого топлива, в основном автомобильного топлива в двигателях внутреннего сгорания. Участки с максимальными значениями FL0 /(FL0+P0) 0.97–0.99 находятся в промышленной зоне и железнодорожной подзоне. Они приурочены к промышленной площадке БЦБК, где происходила разгрузка и погрузка товарной продукции и где сформировалась высококонтрастная аномалия ПАУ, а также к участку, находящемуся между автотрассой “Байкал” и Солзанским полигоном отходов. В почвах железнодорожной подзоны максимальные значения наблюдались вблизи промышленной площадки БЦБК и очистных сооружений данного предприятия.
Парное отношение бенз(к)флуорантена BkF и бенз(b)флуорантена BbF определяет влияние различных источников в зависимости от их удаленности: более высокие значения BkF/BbF свидетельствуют о наличии локальных источников эмиссии (промышленных объектов, транспорта), низкие – об удаленных источниках ПАУ [55]. Наибольшее значение BkF/BbF = 5.4 установлено в промышленной зоне в 380 м от трубы ТЭЦ. Высокие средние значения BkF/BbF характерны для почв селитебной многоэтажной (0.57) и промышленной (0.32) зон. При отсутствии собственных источников рекреационная зона испытывает загрязняющее воздействие соседних зон, поэтому отношение BkF/BbF невелико, 0.22.
Оценить расстояние до потенциальных источников ПАУ можно и по отношению 4-ядерных изомеров: бенз(а)антрацена BaA и хризена C0. Низкие величины BaA/С0 соответствуют источникам, находящимся на больших расстояниях, высокие – локальным, таким как автотранспорт и промышленность. Это следует из того, что BaA во время атмосферного переноса разлагается путем фотолиза и окисления быстрее, чем его изомер C0 [81]. Наибольшее среднее значение BaA/С0 установлено в почвах железнодорожной подзоны (0.91), что в 1.9–2.3 раза превышает средние значения в промышленной (0.40) и селитебной одноэтажной (0.47) зонах. Максимум BaA/С0 = 3.35 обнаружен на участке между Транссибирской магистралью и автотрассой “Байкал”. В промышленной зоне максимальное значение 1.07 приурочено к участку в 130 м от золошлакоотвала.
Пространственная структура загрязнения ПАУ почвенного покрова. На карте суммарного содержания ПАУ в верхнем слое почвенного покрова выделяются несколько локальных аномалий, образующих 2 крупных ореола загрязнения, расположенных в западной и восточной частях города. Экстремально высокие по интенсивности загрязнения локальные аномалии ПАУ показаны на карте пуансонами разного размера, менее контрастные, но протяженные по площади – цветовым фоном, отражающим разные градации загрязнения. По форме все техногенные аномалии ПАУ в почвах вытянуты с севера на юг и имеют концентрическое строение с максимальным содержанием в центре. Наиболее контрастные аномалии ПАУ в почвах приурочены к авто- и железнодорожной транспортной и промышленной зонам.
Восточный ореол загрязнения отличается максимально высокими концентрациями суммы ПАУ и значительной площадью. Наиболее контрастная локальная аномалия ПАУ в почвах расположена восточнее БЦБК, на береговой линии Байкала. Она относится к промышленной зоне – участку, где происходила разгрузка сырья и погрузка готовой продукции комбината. Содержание суммы ПАУ в ее центре составляет 752 мг/кг, что превышает средние фоновые значения в 98 раз. В составе ПАУ доминирует флуорантен (745 мг/кг). Вторая аномалия восточного ореола с максимумом суммы ПАУ 267 мг/кг расположена также в пределах промышленной зоны, в 350 м от ТЭЦ. Здесь преобладает флуорантен (260 мг/кг).
Две другие аномалии не столько контрастны. Одна из них (73.8 мк/кг) расположена на восточной окраине города в селитебной одноэтажной зоне, где в почвах содержится повышенное количество Сорг, прочно связывающее ПАУ. В ней доминируют бенз(b)флуорантен (43 мг/кг) и флуорантен (22.9 мг/ кг). Центр этой аномалии приурочен к перекрестку автотрассы, где фоновые значения превышены в 7–9 раз. Другая аномалия (66.5 мг/ кг) обнаружена в промышленной зоне в 130 м от золошлакоотвала ТЭЦ, рядом проходит ветка железной дороги. В составе ПАУ преобладают флуорантен (36.3 мг/кг) и бенз(b)флуорантен (19.6 мг/кг). На восточной окраине города следует отметить локальную аномалию (30–50 мг/кг), которая охватывает зону погрузки–разгрузки товарных поездов и квартал одноэтажных домов с приусадебными участками, где для отопления и приготовления пищи жителями сжигается древесина.
В центральной части Байкальска на федеральной трассе “Байкал” выделяется локальная аномалия с суммой ПАУ 331 мг/кг, которая находится в 1.4–1.5 км к юго-западу от промышленной площадки БЦБК и ТЭЦ. В аномалии преобладают высокомолекулярные полиарены (325 мк/кг) с доминированием бенз(b)флуорантена (254 мг/кг) и флуорантена (70 мг/кг).
Западный ореол загрязнения ПАУ, состоящий из нескольких техногенных аномалий, занимает меньшую площадь, но также высококонтрастный. Наиболее высокие концентрации ПАУ в почвенном покрове приурочены к федеральной автотрассе “Байкал”, где на въезде в город ежедневно наблюдается интенсивный поток машин и наибольшее скопление автотранспорта. Самая западная и самая контрастная (сумма ПАУ до 372 мг/кг) аномалия находится на федеральной автотрассе. По уровню загрязнения она занимает второе место после аномалии на промышленной площадке БЦБК. Как и в других аномалиях, в ней доминируют флуорантен (213 мг/кг) и бенз(b)флуорантен (105 мг/кг). Далее вдоль автотрассы следуют менее контрастные аномалии с содержанием суммы ПАУ 143, 96 и 133 мг/кг. В самой крупной из трех аномалий доминирует бенз(b)флуорантен (118 мг/кг), во второй – бенз(b)флуорантен (52 мг/кг), флуорантен (14 мг/кг) и гомологи нафталина (12 мг/кг), в третьей – флуорантен (65 мг/кг) и бенз(b)флуорантен (52 мг/кг).
Остальные более мелкие аномалии ПАУ в городских почвах, показанные на карте темно-розовым цветом (рис. 2a), менее контрастны, но занимают довольно значительную площадь.
Факторы накопления ПАУ в городских почвах. Построение регрессионных деревьев позволило оценить пространственное варьирование концентрации ПАУ в зависимости от ландшафтных условий и антропогенных факторов. Анализ проводили по дендрограммам, характеризующим связь между физико-химическими свойствами почв и накоплением низко- и высокомолекулярных полиаренов.
Ведущими факторами накопления высокомолекулярных ПАУ являются кислотно-щелочные условия и органическое вещество почв (рис. S4А). Сумма высокомолекулярных ПАУ в щелочном диапазоне (рН > 7.65) в 3.5 раза больше, чем в нейтральной и кислой среде. Когда рН < 7.65, аккумуляция высокомолекулярных полиаренов значительно (в среднем в 4.5 раза) усиливается при превышении Сорг 7.8% и достигает максимальных значений 19.3 мг/кг в диапазоне рН 5.75–7.65. В случае более низких значений Сорг высокомолекулярные ПАУ интенсивно накапливаются в почвах, обогащенных фракцией мелкой и средней пыли. Вероятно, значительная их часть поступает из аэротехногенных потоков с частицами именно такой размерности. При этом наиболее высокие концентрации ПАУ характерны для почв промышленной и многоэтажной селитебной зон.
Среди высокомолекулярных ПАУ лидирует флуорантен, на долю которого приходится 65.8% их суммы. В его распределении ведущую роль играет гранулометрический состав почв, но однозначной зависимости от содержания тех или иных фракций не наблюдается, что, очевидно, объясняется нахождением полиарена в частицах разной размерности в зависимости от источника. Местами фракция тонкого песка (с диаметром частиц 50–250 мкм) обеднена полиареном, и он аккумулируется в частицах крупной пыли (10–50 мкм). Накопление другого приоритетного поллютанта 5-ядерного бенз(b)флуорантена усиливается в щелочной среде: при pH > 7.65 средняя концентрация полиарена достигает 14.7 мг/кг, что в 1.7 раз больше, чем в нейтральных и кислых условиях. При pH < 7.65 наибольшая концентрация бенз(b)флуорантена 8.88 мг/кг наблюдается при обедненности (<11.2%) частицами диаметром 1–10 мкм.
Распределение 2–3-ядерных полиаренов регулируется кислотно-щелочными условиями с формированием аккумуляций низкомолекулярных ПАУ в щелочной среде (рис. S4Б). Если рН < 7.65, то наибольшие концентрации низкомолекулярных ПАУ наблюдаются в многоэтажной селитебной зоне. В других функциональных зонах накопление низкомолекулярных ПАУ усиливается при удельной электропроводности ЕС1:5 > 169 мкCм/см и высоком, более 44.2% содержании фракции тонкого песка. Связь между уровнем накопления полиаренов и степенью засоления городских почв была ранее отмечена в Восточном округе Москвы [13].
Факторы накопления суммы ПАУ аналогичны факторам распределения высокомолекулярных ПАУ (рис. S3).
Оценка экологической опасности загрязнения городских почв ПАУ. Среди изученных индивидуальных ПАУ БаП и дибензо(ah)антрацен являются наиболее экологически опасными полиаренами, поскольку обладают очень высокой токсичностью и канцерогенной активностью [33, 52]. В РФ ПДК ПАУ в почвах установлены только для БаП. Поэтому для учета экологической опасности загрязнения городских почв всеми рассматриваемыми ПАУ использовались коэффициенты TEF [72], показывающие токсичность индивидуальных ПАУ по сравнению с БаП (табл. S3). Экологическая опасность всех изученных ПАУ в городских почвах определялась путем суммирования их содержаний, умноженных на коэффициенты TEF, и последующего сравнения суммы с ПДК для БаП путем расчета коэффициента Ко.
Проведенный расчет показал, что показатель Ко для суммы ПАУ, выраженных через БаП-эквиваленты, в почвенном покрове города варьирует от 1.9 до 318 (табл. 4). Средняя для городских почв сумма БаП-эквивалентов превысила ПДК для БаП в 71 раз, что говорит о высокой экологической опасности загрязнения ПАУ. При этом почвы различных функциональных зон чрезвычайно сильно различаются по опасности загрязнения и ее вариабельности, о чем свидетельствуют пределы колебаний показателя Ко. Экологическая опасность убывает в ряду функциональных зон: автотранспортная > промышленная > селитебная одноэтажная > транспортная железнодорожная > селитебная многоэтажная > рекреационная. Для фоновых почв показатель экологической опасности Ко равен 13.6, что подтверждает наличие аэротехногенного воздействия ПАУ на пригородные почвы от выбросов БЦБК, ТЭЦ, транспорта и лесных пожаров.
Таблица 4. Показатель экологической опасности Ко для БаП и суммы БаП-эквивалентов ПАУ в верхнем горизонте почв г. Байкальска
Статистичеcкий показатель | Функциональные зоны | |||||||
фоновая (4*) | промышленная (21) | автотранспортная (11) | транспортная ж/д (10) | селитебная многоэтажная (6) | селитебная одноэтажная (12) | рекреационная (8) | среднее в городе (68) | |
Бенз(а)пирен | ||||||||
Средний Ko | 0.25 | 1.08 | 2.82 | 1.67 | 0.24 | 2.68 | 0.065 | 1.54 |
Минимум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максимум | 0.80 | 6.40 | 7.82 | 4.83 | 0.95 | 23.4 | 0.14 | 23.4 |
Cv, % | 153 | 139 | 89.6 | 111 | 157 | 246 | 74.5 | 208 |
Сумма токсических БаП-эквивалентов ПАУ, мг/кг | ||||||||
Средняя сумма | 273 | 669 | 6362 | 240 | 230 | 674 | 37.8 | 1415 |
Средний Ko | 13.6 | 33.4 | 318 | 12 | 11.5 | 33.7 | 1.89 | 70.7 |
Минимум | 1.13 | 1.14 | 0.38 | 0.67 | 0 | 0.11 | 0.21 | 0 |
Максимум | 45.2 | 186 | 1302 | 32 | 46 | 268 | 5.84 | 1302 |
Cv, % | 155 | 152 | 128 | 105 | 158 | 223 | 120 | 277 |
* В скобках – количество проб.
В целом для г. Байкальска экологическая опасность от загрязнения ПАУ верхнего слоя почвенного покрова на 83.5% обусловлена бенз(b)флуорантеном, на 11% – дибензо(ah)антраценом и только на 2.2% – БаП и на 1.7% – флуорантеном. В промышленной зоне города вклад в сумму токсических эквивалентов наибольший у бенз(b)флуорантена (67.9%) и дибензо(ah)антрацена (18.8%), вклад флуорантена – 7.9%, БаП – 3.2%. В автотранспортной зоне Байкальска опасность загрязнения ПАУ на 89.6% обусловлена бенз(b)флуорантеном, а также дибензо(ah)антраценом – 7.8%. В селитебной одноэтажной зоне экологическая опасность ПАУ на 77.2% определяется бенз(b)флуорантеном, на 7.9% – бенз(а)пиреном, на 10.3% – дибензо(ah)антраценом, на 2.1% – бенз(к)флуорантеном.
Таким образом, максимальный вклад в сумму токсических эквивалентов ПАУ определяет бенз(b)флуорантен как наиболее экологически опасный полиарен, накапливающийся в верхнем слое почвенного покрова как всего города, так и в наиболее загрязненных функциональных зонах – автотранспортной, промышленной и селитебной с одноэтажной застройкой.
На карте распределения показателя экологической опасности Ко всех ПАУ, выраженных через БаП-эквиваленты, в верхнем слое почвенного покрова выделяются 5 локальных аномалий, расположенных вдоль автотрассы “Байкал” (рис. 2b). Аномалии с наиболее высокими значениями Ко от 300 до 1300 показаны на карте пуансонами разного размера и интенсивности окраски. В точке с чрезвычайно высоким значением Ко=1300 опасность практически полностью, на 97% обусловлена бенз(b)флуорантеном, в остальных локальных аномалиях его вклад составляет 79–94%.
Следует отметить менее контрастные, но хорошо выраженные аномалии умеренного уровня опасности на восточной окраине города, западнее Солзанского полигона в одноэтажной жилой зоне (Ко = 268) и в восточной части Байкальска (Ко = 150–186), одна из которых расположена вблизи ТЭЦ, другая – рядом с золошлакоотвалом ТЭЦ, третья – на участке федеральной автотрассы “Байкал”. Данные уровни показателя Ко обусловлены в основном влиянием объектов теплоэнергетики, сжиганием древесины в частной застройке, воздействием выбросов автомобильного и железнодорожного транспорта.
Цепочка локальных аномалий вдоль федеральной трассы “Байкал” отличается очень высокими значениями суммы ПАУ (96–372 мг/кг) и высокими и чрезвычайно высокими коэффициентами экологической опасности (Ко = 306–1300), которые обусловлены несколькими полиаренами. В промышленной зоне участки вблизи ТЭЦ и западнее Солзанского полигона с самыми высокими суммами ПАУ (267 и 752 мг/кг) характеризуются низким уровнем экологической опасности (Ко = 54–57), что связано с преобладанием в этих локальных аномалиях флуорантена – его доля составляет 98–99%.
Территория Солзанского полигона на данный момент не отличается высоким уровнем и экологической опасностью загрязнения ПАУ, что можно объяснить реликтовым характером загрязнения. Отходы складировались на полигоне только в 1960-е годы, тогда как промплощадка БЦБК функционировала вплоть до закрытия комбината в 2013 г., что обусловило более чем 10-кратное превышение уровней ПАУ в почвах на промплощадке по сравнению с почвами полигона. Тем не менее утилизация отходов производства БЦБК, размещенных в картах-накопителях Бабхинского и Солзанского полигонов, остается актуальным вопросом. Необходимость рекультивации полигонов обусловлена расположением полигонов вблизи селитебных территорий, в 400 м от оз. Байкал, высокой сейсмичностью района и опасностью схода селей. Экологически безопасная технология переработки накопленных отходов БЦБК основана на вымораживании коллоидных осадков шлам-лигнина в естественных условиях с последующим обезвоживанием и переработкой [2]. Вымораживание осадка позволяет разрушить коллоидную структуру шлам-лигнина, уменьшить его объем до 40% и снизить его токсичность. После внесения добавок (золы ТЭЦ, осадка сточных вод) осадок шлам-лигнина может быть использован для рекультивации нарушенных земель и в сельском хозяйстве [45].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди 16 индивидуальных ПАУ, обнаруженных в верхнем слое почв г. Байкальска, преобладают высокомолекулярные полиарены с доминированием флуорантена, составляющего 61% от суммы ПАУ, что определяет тип загрязнения городских почв как флуорантеновый. Сумма всех изученных углеводородов в городских почвах превышает их фоновые уровни в среднем в 5 раз. Такая относительно невысокая контрастность накопления ПАУ в почвах объясняется повышенным фоном ПАУ вблизи города за счет техногенных выбросов и влияния лесных пожаров. Низкомолекулярные ПАУ в почвах превышают фоновые концентрации в среднем в 12 раз, высокомолекулярные – в 5 раз. Максимальное содержание суммы ПАУ выявлено в почвах 2 зон: автотранспортной и промышленной.
Основными источниками ПАУ в почвах города являются выбросы и отходы БЦБК и Байкальской ТЭЦ, а также авто- и железнодорожного транспорта. В золе ТЭЦ накапливаются нафталин и его гомологи (24 и 34% соответственно), антрацен, фенантрен (9 и 6%) и бенз(b)флуорантен (16% от суммы ПАУ). Шлам-лигнин наиболее обогащен бенз(b)флуорантеном (83% от суммы ПАУ), который определяет тип загрязнения почв отходами производства БЦБК как бенз(b)флуорантеновый. Среди низкомолекулярных ПАУ в шлам-лигнине доминирует нафталин и его гомологи (5 и 4% от суммы ПАУ соответственно).
Техногенная трансформация физико-химических свойств городских почв включает подщелачивание их верхнего слоя. Слабощелочные значения рН имеют почвы промышленной зоны (8.0), полигоны отходов БЦБК (7.8) и транспортной зоны (7.8). Средние значения рН в почвах всех зон соответствуют слабокислому–нейтральному диапазону (6.3–7.4). Рост содержания Сорг, особенно в почвах промышленной зоны, связан с выбросами органических частиц золы от ТЭЦ и БЦБК. Наименьшее среднее содержание Сорг имеют почвы автотранспортной и рекреационной зон (2.3%), наибольшее – селитебной одноэтажной зоны (4.9%), отдельные максимумы зафиксированы в промышленной (13.1%) и селитебной одноэтажной (11.1%) зонах. Повышенное содержание солей в водной вытяжке обусловлено выбросами солевых компонентов БЦБК и использованием противогололедных реагентов. Техногенная трансформация свойств почв в целом благоприятствует накоплению ПАУ на щелочном, сорбционном и биогеохимическом барьерах в верхнем слое.
Методом регрессионных деревьев определены факторы пространственного варьирования концентрации ПАУ в зависимости от почвенных свойств и антропогенных условий. Ведущими факторами накопления высокомолекулярных ПАУ являются кислотно-щелочные условия и содержание органического вещества почв. Концентрация высокомолекулярных полиаренов выше в щелочных условиях, в нейтральной и кислой среде она усиливается с ростом содержания органического углерода. Распределение 2–3-ядерных ПАУ определяется кислотно-щелочными условиями, удельной электропроводностью и содержанием фракции тонкого песка.
Картографирование суммарного содержания ПАУ в верхнем слое почвенного покрова города выявило два крупных ореола загрязнения на западе и востоке города. В составе ПАУ доминируют высокомолекулярные ПАУ – флуорантен, содержащийся в транспортных и промышленных выбросах, и бенз(b)флуорантен, поступающий с выбросами БЦБК и автотранспорта. Экологическая опасность суммарного загрязнения ПАУ верхнего слоя почвенного покрова на территории города, на 83.5% обусловлена бенз(b)флуорантеном и на 11% – дибензантраценом.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и РГО (проект № 17-29-05055/17), оценка экологической опасности загрязнения ПАУ – в рамках проекта РНФ № 19-77-30004-П.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительные материалы размещены в электронном виде по DOI статьи: 10.31857/S0032180X24040086.
About the authors
N. E. Kosheleva
Lomonosov Moscow State University
Email: niyaz.zh@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7107-5718
Russian Federation, Moscow
E. M. Nikiforova
Lomonosov Moscow State University
Email: niyaz.zh@mail.ru
Russian Federation, Moscow
N. B. Zhaxylykov
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: niyaz.zh@mail.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Богданов А.В., Федотов К.В., Шатрова А.С., Попова Г.Г. Использование вымороженных коллоидных осадков шлам-лигнина ОАО “Байкальский ЦБК” в качестве почвогрунта // Экология и промышленность России. 2020. Т. 24. № 1. С. 24–29. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-1-24-29
- Богданов А.В., Шатрова А.С., Тюкалова О.В., Шкрабо А.И. Экологически безопасная технология переработки накопленных коллоидных осадков шлам-лигнина ОАО “Байкальский ЦБК” // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2018. Т. 8. № 3. С. 126–134. https://doi.org/10.21285/2227-2925-2018-8-3-126-134
- Ветров В.А., Белова Н.И., Пословин А.Л. и др. Мониторинг уровней тяжелых металлов и микроэлементов в природных средах Байкала. Предварительные результаты и проблемы // Проблемы регионального мониторинга состояния озера Байкал. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. С. 66-77.
- Ветров В.А., Климашевская З.А. Влияние газопылевых выбросов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината на атмосферный поток химических веществ в окружающем регионе // Охрана природы от загрязнения предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности. Л., 1985. С. 113-125.
- Ветров В.А., Пословин А.Л. Вклад атмосферных выбросов Байкальского ЦБК в поток пыли и некоторых химических элементов из атмосферы на поверхность Южного Байкала // Круговорот вещества и энергии в водоемах. № 8. Антропогенное влияние на водоемы: Тез. докл. V Всесоюз. Лимнолог.совещ. Иркутск, 1981. С. 21-23.
- Геннадиев А.Н., Пиковский Ю.И., Смирнова М.А., Жидкин А.П., Ковач Р.Г. Углеводородное состояние почв фоновых таежных ландшафтов (юго-западная часть Устьянского плато) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5, География. 2016. № 3. С. 90-97.
- Геохимия полициклических ароматических углеводородов в горных породах и почвах / Под ред. Геннадиева А.Н., Пиковского Ю.И.. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. 192 с.
- Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В., Прокофьева Т.В. Антропогенные почвы (генезис, география, рекультивация). М.: Ойкумена, 2003. 266 с.
- Голохваст К.С., Чернышев В.В., Угай С.М. Выбросы автотранспорта и экология человека (обзор литературы) // Экология человека. 2016. № 1. С. 9–14. https://doi.org/10.33396/1728-0869-2016-1-9-14
- Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2011 году. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. Иркутск: Мегапринт, 2012. 306 с.
- Касимов Н.С. Экогеохимия ландшафтов. М.: ИП Филимонов М.В., 2013. 208 с.
- Кошелева Н.Е., Касимов Н.С., Власов Д.В. Факторы накопления тяжелых металлов и металлоидов на геохимических барьерах в городских почвах // Почвоведение. 2015. № 5. С. 536–553. https://doi.org/10.7868/S0032180X15050032
- Кошелева Н.Е., Никифорова Е.М. Многолетняя динамика и факторы накопления бенз(а)пирена в почвах (на примере ВАО Москвы) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 17, почвоведение. 2011. № 2. С. 24–35.
- Кошелева Н.Е., Никифорова Е.М., Тимофеев И.В., Завгородняя Ю.А. Полициклические ароматические углеводороды в почвах г. Северобайкальска // География и природные ресурсы. 2023. № 4 (в печати).
- Краснощеков Ю.Н., Горбачев В.Н. Лесные почвы бассейна озера Байкал. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1987. 115 с.
- Кречетов П.П., Дианова Т.М. Химия почв. Аналитические методы исследования. М.: Географический факультет МГУ, 2009. 148 с.
- Кузнецова А.И., Пройдакова О.А., Ветров В.А. Элементный состав атмосферных выбросов сульфат-целлюлозного производства // Тез. докл. 1 Всесоюз. совещ. “Геохимия техногенеза”. Т. III. Иркутск, 1985. С. 96–99.
- Кузьмин В.А. Почвы Предбайкалья и Северного Забайкалья. Новосибирск: Наука, 1988. 174 c.
- Линевич Н.Л., Сорокина Л.П. Климатический потенциал самоочищения атмосферы: опыт разномасштабной оценки // География и природные ресурсы. 1992. № 2. С. 160–165.
- Майстренко В.Н., Клюев Н.А. Эколого-аналитический мониторинг стойких органических загрязнителей. М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2004. 337c.
- Маковская Т.И., Дьячкова С.Г. Органические загрязнители в почвенно-растительном покрове зоны влияния шпалопропиточного производства // Вестник Красноярского гос. аграрного ун-та. 2009. №. 6. С. 67–72.
- Максимова Е.Н., Симонова Е.В. Оценка состояния шлам-лигнина БЦБК по санитарно-микробиологическим показателям // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 5-1. С. 35–38.
- Максимова Е.Ю., Цибарт А.С., Абакумов Е.В. Полициклические ароматические углеводороды в почвах, пройденных верховым и низовым пожаром // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15. № 3. С. 63–68.
- Мартынова А.С., Мартынов В.П. Почвы северной части Байкальского государственного заповедника / Охрана и рациональное использование почв Западного Забайкалья. Улан-Удэ: БФ СО АН СССР, 1980. С. 34–46.
- Медведева А.В. Микробная деградация полициклических ароматических углеводородов // Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская. 2013. № 5. С. 98–101.
- Морозова Т.И., Осколкова Т.А., Плешанов А.С. Состояние пихтовых лесов Хамар-Дабана в зоне влияния атмосферных выбросов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината // Сибирский экологический журнал. 2005. № 4. С. 701–706.
- Никифорова Е.М., Алексеева Т.А. Полициклические ароматические углеводороды в почвах придорожных экосистем Москвы // Почвоведение. 2002. № 1. С. 47–58.
- Никифорова Е.М., Кошелева Н.Е. Полициклические ароматические углеводороды в городских почвах (Москва, Восточный округ) // Почвоведение. 2011. № 9. С. 1114–1127.
- Константинова Е.Ю., Сушкова С.Н., Минкина Т.М., Антоненко Е.М., Константинов А.О., Хорошавин В.Ю. Полициклические ароматические углеводороды в почвах промышленных и селитебных зон Тюмени // Известия Томского политех. ун-та. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 8. С. 66–79.
- Почвенная карта РСФСР. М-б 2 500 000. М.: ГУГК, 1988.
- Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона. ИТС1-2015. М., 2015. 479 с.
- Ратанова М.П. Экологические основы общественного производства. Смоленск: СГУ, 1999. 176 с.
- Ровинский Ф.Я., Теплицкая Т.А., Алексеева Т.А. Фоновый мониторинг полициклических ароматических углеводородов. Л.: Гидрометеоиздат,1988. 223 с.
- Родькина И.А., Кравченко Н.С., Бондарик И.Г., Самарин Е.Н., Зеркаль О.В. К вопросу об иммобилизации отходов Байкальского ЦБК для снижения токсикологической нагрузки на экосистему озера Байкал // Ломоносовские чтения–2018. Секция Геология. М.: Геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2018.
- Родькина И.А., Самарин Е.Н., Зеркаль О.В., Чернов М.С., Кравченко Н.С. Нейтрализация влияния Байкальского ЦБК на окружающую среду. Ч. 1 // Твердые бытовые отходы. 2021. № 3. С. 49–52.
- СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”. 2021. С. 751–754.
- Территориальное развитие г. Байкальска и его природной зоны. Иркутск, 2003. 191 с.
- Убугунов Л.Л., Убугунова В.И., Белозерцева И.А., Гынинова А.Б., Сороковой А.А., Убугунов В.Л. Почвы и почвенный покров бассейна оз. Байкал // География и природные ресурсы. 2018. № 4. С. 76–87. https://doi.org/10.1134/S1875372818040066
- Хаустов А.П., Редина М.М. Фракционирование полициклических ароматических углеводородов на геохимических барьерах // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Науки о Земле. 2021. Т. 66. № 1. С. 123–143. https://doi.org/10.21638/spbu07.2021.108
- Цибарт А.С., Геннадиев А.Н. Ассоциации полициклических ароматических углеводородов в пройденных пожарами почвах // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5, география. 2011. №. 3. С. 13–19.
- Цибарт А.С., Геннадиев А.Н. Полициклические ароматические углеводороды в почвах: источники, поведение, индикационное значение (обзор) // Почвоведение. 2013. № 7. С. 788–802. https://doi.org/10.7868/S0032180X13070125
- Цыбжитов Ц.Х., Мартынов В.П. Структура почвенного покрова Западного Забайкалья / Генезис и плодородие почв Западного Прибайкалья. Улан-Удэ, 1983. С. 3–22.
- Цыбжитов Ц.Х., Убугунова В.И. Генезис и география таежных почв бассейна озера Байкал. Улан-Удэ: Бурят.кн. изд-во, 1992. 240 с.
- Чернянский С.С., Геннадиев А.Н., Алексеева Т.А., Пиковский Ю.И. Органопрофиль дерново-глеевой почвы с высоким уровнем загрязнения полициклическими ароматическими углеводородами // Почвоведение. 2001. № 11. С. 1312–1322.
- Шатрова А.С., Богданов А.В., Шкрабо А.И., Алексеева О.В. Технология переработки отходов целлюлозно-бумажной промышленности в почвогрунты с использованием естественных природных процессов // Известия Томского политех. ун-та. Инжиниринг георесурсов. 2022. Т. 333. № 8. С. 153–162. https://doi.org/10.18799/24131830/2022/8/3658
- Шурубор Е.И., Геннадиев А.Н. Миграция и аккумуляция полициклических ароматических углеводородов в орошаемых почвах Черных земель (Калмыкия) // Почвоведение. 1992. № 10. С. 97–111.
- Экогеохимия городских ландшафтов. Под ред. Н.С. Касимова. М.: Изд-во Моск ун-та, 1995. 336 с.
- Экологический атлас бассейна озера Байкал. Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. 145 с.
- Яковлева Е.В., Габов Д.Н. Механизмы накопления полициклических ароматических углеводородов в почвах и растениях тундровой зоны Республики Коми под влиянием добычи и сжигания угля // Антропогенная трансформация природной среды. 2018. № 4. С. 207-211.
- Яковлева Е.В., Габов Д.Н., Безносиков В.А., Кондратенок Б.М. Накопление полициклических ароматических углеводородов в почвах и растениях тундровой зоны под воздействием угледобывающей промышленности // Почвоведение. 2016. № 11. С. 1402–1412. https://doi.org/10.7868/S0032180X16090148
- Ahmed T.M., Bergvall C., Westerholm R. Emissions of particulate associated oxygenated and native polycyclic aromatic hydrocarbons from vehicles powered by ethanol/gasoline fuel blends // Fuel. 2018. V. 214. P. 381–385. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.11.059
- Alegbeleye O.O., Opeolu B.O., Jackson V.A. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: A Critical Review of Environmental Occurrence and Bioremediation // Environ. Managem. 2017. V. 60. P. 758–783. https://doi.org/10.1007/s00267-017-0896-2
- Amato F., Favez O., Pandolfi M., Alastuey A., Querol X., Moukhtar S., Bruge B., Verlhac S., Orza J.A.G., Bonnaire N., Le Priol T., Petit J.-F., Sciare J. Traffic induced particle resuspension in Paris: Emission factors and source contributions // Atmospheric Environ. 2016. V. 129. P. 114–124. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.01.022
- Amato F., Pandolfi M., Moreno T., Furger M., Pey J., Alastuey A., Bukowiecki N., Prevot A.S.H., Baltensperger U., Querol X. Sources and variability of inhalable road dust particles in three European cities // Atmospheric Environment. 2011. V. 45. P. 6777–6787. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.06.003
- Aubin S., Farant J.P. Benzo(b)fluoranthene, a Potential Alternative to Benzo(a)pyrene as an Indicator of Exposure to Airborne PAHs in the Vicinity of Söderberg Aluminum Smelters // J. Air Waste Management Association. 2000. V. 50. P. 2093–2101. https://doi.org/10.1080/10473289.2000.10464236
- Borda-da-Agua L., Barrientos R., Beja P., Pereira H.M. Railway ecology. SpringerOpen, 2017. 320 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57496-7
- Demetriades A., Birke M. Urban geochemical mapping manual: sampling, sample preparation, laboratory analysis, quality control check, statistical processing and map plotting. Brussels: EuroGeoSurveys, 2015. 162 p. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2017.10.024
- Devos O., Combet E., Tassel P., Paturel L. Exhaust emissions of PAHs of passenger cars // Polycyclic Aromatic Compounds. 2006. V. 26. P. 69–78. https://doi.org/10.1080/10406630500519346
- Fang X., Wu L., Zhang Q., Zhang J., Mao H. Characteristics, emissions and source identifications of particle polycyclic aromatic hydrocarbons from traffic emissions using tunnel measurement // Transportation Research Part D. 2019. V. 67. P. 674–684. https://doi.org/10.1016/j.trd.2018.02.021
- Fengpeng H., Zhang Z., Yunyang W., Song L., Liang W., Qingwei B. Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils of Beijing and Tianjin region: Vertical distribution, correlation with TOC and transport mechanism // J. Environ. Sci. 2009. V. 21. P. 675–685. https://doi.org/10.1016/S1001-0742(08)62323-2
- Fu W., Xu M., Sun K., Hu L., Cai W., Dai C., Jia Y. Biodegradation of phenanthrene by endophytic fungus Phomopsis liquidambari in vitro and in vivo // Chemosphere. 2018. V. 203. P. 160–169. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.03.164
- Gevao B., Jones K.C. Kinetics and potential significance of polycyclic aromatic hydrocarbon desorption from creosote-treated wood // Environ. Sci. Technol. 1998. V. 32. № 5. P. 640–646. https://doi.org/10.1021/es9706413
- Hao X., Zhang X., Cao X., Shen X., Shi J., Yao Z. Characterization and carcinogenic risk assessment of polycyclic aromatic and nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons in exhaust emission from gasoline passenger cars using on-road measurements in Beijing, China // Sci. Total Environ. 2018. V. 645. P. 347–355. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.113
- Huang Y., Sui Q., Lyu S., Wang J., Huang S., Zhao W., Wang B., Xu D., Kong M., Zhang Y., Yu G. Tracking emission sources of PAHs in a region with pollution-intensive industries, Taihu Basin: from potential pollution sources to surface water // Environ. Pollut. 2020. V. 264. P. 114674. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114674
- Jacob J. The significance of polycyclic aromatic hydrocarbons as environmental carcinogens. 35 years research on PAH – a retrospective // Polycycl. Aromat. Compd. 2008. V. 28. P. 242–272. https://doi.org/10.1080/10406630802373772
- Kim A., Park M., Yoon T.K., Lee W.S., Ko J.J., Lee K., Bae J. Maternal exposure to benzo(b)fluoranthene disturbs reproductive performance in male offspring mice // Toxicol. Lett. 2011. V. 203. P. 54–61. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2011.03.003
- Kohler M., Künniger T. Emissions of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) from creosoted railroad ties and their relevance for life cycle assessment (LCA) // HolzalsRoh- und Werkstoff. 2003. V. 61. P. 117–124. https://doi.org/10.1007/s00107-003-0372-y
- Liu S., Zhan C., Zhang J., Liu H., Xiao Y., Zhang L., Guo J., Liu X., Xing X., Cao J. Polycyclic aromatic hydrocarbons in railway stations dust of the mega traffic hub city, central China: Human health risk and relationship with black carbon // Ecotoxicology and Environmental Safety. 2020. V. 205. P. 111155. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.111155
- Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A. Effects of anthropopressure and soil properties on the accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the upper layer of soils in selected regions of Poland // Appl. Geochem. 2009. V. 24. P. 1918–1926. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2009.07.005
- Manoli E., Chelioti-Chatzidimitriou A., Karageorgou K., Kouras A., Voutsa D., Samara C., Kampanos I.Polycyclic aromatic hydrocarbons and trace elements bounded to airborne PM 10 in the harbor of Volos, Greece: Implications for the impact of harbor activities // Atmospheric Environ. 2017. V. 167. P. 61–72. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.08.001
- Mętrak M., Chmielewska M., Sudnik-Wójcikowska B., Wiłkomirski B., Staszewski T., Suska-Malawska M. Does the function of railway infrastructure determine qualitative and quantitative composition of contaminants (PAHs, heavy metals) in soil and plant biomass? // Water, Air, Soil Poll. 2015. V. 226. P. 1–12. https://doi.org/10.1007/s11270-015-2516-1
- Nisbet C., LaGoy P. Toxic equivalency factors (TEFs) for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) // Regulatory Toxicology and Pharmacology. 1992. V. 16. P. 290–300. https://doi.org/10.1016/0273-2300(92)90009-X
- Qi P.Z., Qu C.K., Albanese S., Lima A., Cicchella D., Hope D., Cerino P., Pizzolante A., Zheng H., Li J.J., De Vivo B. Investigation of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils from Caserta provincial territory, southern Italy: Spatial distribution, source apportionment, and risk assessment // J. Hazardous Mater. 2020. V. 383. P. 121158. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121158
- Stogiannidis E., Laane R. Source characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons by using their molecular indices: An overview of possibilities // Rev. Environ. Contaminat. Toxicol. 2015. V. 234. P. 49–133. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10638-0_2
- Tang L., Tang X.-Y., Zhu Y.-G., Zheng M.-H., Maio Q.-L. Contamination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in urban soils in Beijing, China // Environ. Int. 2005. V. 31. P. 822–828. https://doi.org/10.1016/j.envint.2005.05.031
- Valavanidis A., Fiotakis K., Vlahogianni T., Bakeas E.B., Triantafillaki S., Paraskevopoulou V., Dassenakis M. Characterization of atmospheric particulates, particle-bound transition metals and polycyclic aromatic hydrocarbons of urban air in the centre of Athens (Greece) // Chemosphere. 2006. V. 65. P. 760–768. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.03.052
- Wang J., Liu X., Liu G., Zhang Z., Cui B., Bai J., Zhang W. Size effect of polystyrene microplastics on sorption of phenanthrene and nitrobenzene // Ecotox. Environ. Safe. 2019. V. 173. P. 331–338. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.02.037
- Wang Q., Li Q., Tsuboi Y., Zhang Y., Zhang H., Zhang J. Decomposition of pyrene by steam reforming: the effects of operational conditions and kinetics // Fuel Process. Technol. 2018. V. 182. P. 88–94. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2018.08.008
- Wiłkomirski B., Galera H., Staszewski T., Sudnik-Wojcikowska B., Malawska M. Railway tracks – habitat conditions, contamination, floristic settlement – a review // Environment and Natural Resources Research, 2012. V. 2. P. 86–95. https://doi.org/10.5539/enrr.v2n1p86
- Wiłkomirski B., Sudnik-Wójcikowska B., Galera H., Wierzbicka M., Malawska M. Railway transportation as a serious source of organic and inorganic pollution // Water Air Soil Poll. 2011. V. 218. P. 333–345. https://doi.org/10.1007/s11270-010-0645-0
- Yunker M.B., Macdonald R.W., Vingarzan R., Mitchell R.H., Goyette D., Sylvestre S. PAHs in the Fraser River Basin: a critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH source and composition // Org. Geochem. 2002. V. 33. P. 489–515. https://doi.org/10.1016/S0146-6380(02)00002-5
- Zhang J., Zhan C., Liu H., Liu T., Yao R., Hu T., Xiao W., Xing X., Xu H., Cao J. Characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), iron and black carbon within street dust from a steel industrial city, Central China // Aerosol Air Qual. Res. 2016. V. 16. P. 2452–2461. https://doi.org/10.4209/aaqr.2016.02.0085
Supplementary files