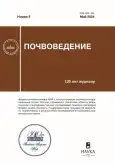Combustion Temperature and Soil Organic Horizons Composition Influence on the PAHs Content (Laboratory Experiment Results)
- Authors: Gorbach N.M.1,2, Yakovleva E.V.2, Dymov A.A.2,3
-
Affiliations:
- Pitirim Sorokin Syktyvkar State University
- Institute of Biology of Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 756-769
- Section: DEGRADATION, REHABILITATION, AND CONSERVATION OF SOILS
- URL: https://journal-vniispk.ru/0032-180X/article/view/270801
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24050084
- EDN: https://elibrary.ru/YLDEXC
- ID: 270801
Cite item
Full Text
Abstract
Fire induced changes in the content and composition of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in organic horizons of the boreal zone soils are considered. Experiment of combustion under oxygen deficient conditions were conducted. The organic horizons of soils as peat (sphagnum oligotrophic) and two types of forests (lichen pine and green-moss spruce) were selected. The PAHs content was determined by high-performance liquid chromatography. It was found that combustion conditions, composition of organic horizons and combustibility significantly affect the content and composition of PAHs. The formation of PAHs occurs to a greater extent at 300°C. Compared with the original samples, the content increases from 2.7 to 9.7 times. Compared with the peak PAHs content (in 300°C) samples, a decrease from 5.8 to 33.0 times is found at 500°C. It is likely that the significant decrease in the content of polycyclic aromatic hydrocarbons is due to the decomposition of substances to simpler ones. The ratio of low molecular to high molecular weight PAHs is indicated. The obtained ratio greater than 1.0 can serve as an indicator of pyrogenic origin of polyarenes.
Full Text
Введение
Лесные пожары являются одним из основных факторов, влияющим на бореальные экосистемы и образующим новые послепожарные экосистемы [29, 43, 48]. Огромную роль в круговороте веществ лесов бореальной зоны играют почвы. При низовых пожарах органогенный горизонт почв часто горит (тлеет) в условиях недостаточного доступа кислорода. В результате из сгоревшего материала способны образовываться устойчивые к разложению токсичные для экосистем вещества, в том числе полициклические ароматические углеводороды (полиарены или ПАУ) [28]. ПАУ – это группа высокомолекулярных органических веществ (ОВ), базовым элементом которых является бензольное кольцо [19]. Наличие конденсированных бензольных колец в структуре определяет основные химические и термодинамические свойства ПАУ, включая их крайне низкую растворимость (высокую гидрофобность), а также значительную стойкость в окружающей среде [18]. Соединения с 2–4 бензольными кольцами относятся к группе низкомолекулярных (легких), а с 5–6 кольцами – к группе высокомолекулярных (тяжелых) [22, 37]. Имеются работы, в которых к низко- и высокомолекулярным ПАУ относятся соединения, состоящие из 2–3 и 4–6 колец соответственно [10, 61]. Сложность в определении границы между низкомолекулярными и высокомолекулярными полиаренами заключается в резком изменении свойств в структурах, которые состоят из четырех колец (например, некоторые параметры пирена и бенз[а]антрацена отличаются на порядок и более).
Внесенные в списки приоритетных загрязнителей как Европейского союза, так и Агентства по охране окружающей среды США полиарены являются одними из наиболее экологически опасных загрязнителей, так как характеризуются высокой химической стабильностью и считаются канцерогенными, тератогенными и мутагенными веществами [16, 21, 63]. В Российской Федерации соблюдаются меры по контролю полиаренов в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, в перечень которых входят ПАУ. Санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации приоритетным загрязнителем (1 класса опасности) в почвах считается только один представитель полиаренов – бенз[a]пирен, для которого установлена ПДК в 20 мкг/кг [15].
Климатические условия бореальной зоны способствуют невысокой активности деструкторов, разлагающих растительный опад. Благодаря таким условиям, часть хранящегося в почвах углерода практически не возвращается обратно в круговорот питательных веществ. Среди типов почв бореальной зоны, наибольший запас ОВ и их дальнейшее захоронение характерно торфяникам [5]. Ожидается, что изменения климата приведет к повышению частоты и интенсивности пожаров в экосистемах высоких широт, что, вероятно, увеличит образование ПАУ в органогенных горизонтах почв [31, 76]. Последующий перенос ПАУ способен негативно повлиять на экосистемы. Учитывая особенности аккумуляции ОВ в почвах бореальных ландшафтов и устойчивость ПАУ к разложению, необходимо устранить пробелы в понимании того, как и в каких количествах ПАУ поступают в почвы. Можно предположить, что условия, интенсивность горения, и состав органогенных горизонтов почв в значительной степени влияют на уровень формировании ПАУ в результате пожаров.
Цель работы – исследовать содержание и состав ПАУ в органогенных горизонтах почв бореальных ландшафтов и выявить особенности изменения ПАУ в результате сгорания органического материала в условиях дефицита кислорода.
Задачи исследования: провести эксперимент по сжиганию органогенных горизонтов почв для имитации низкоинтенсивного пожара. Определить содержание и состав ПАУ в органогенных горизонтах почв, в результате эксперимента (до и после воздействия температур в 200, 300 и 500°С).
ОБъекты и методы
Описание территории и отбор проб органогенных горизонтов почв. Отбор образцов для эксперимента проводили на северо-востоке Европейской территории России в подзоне средней тайги Республики Коми. Современные среднегодовые температуры составляют от 0 до –2°C, а среднее количество осадков – 600–800 мм/год [17]. По международной классификации Кеппена климат исследуемой территории – умеренный, с относительно холодным летом и холодной, богатой снегом зимой “Dfc” [60]. Исследуемые территории расположены на высоте от 90 до 150 м над ур. м. Для отбора проб выбрали верховое сфагновое болото (ассоциация Lédum palústre – Sphagnum fuscum) (61°96′ N, 50°57′ E) и два древостоя – сосняк лишайниковый (61°67′ N, 51°06′ E) и ельник зеленомошный (61°66′ N, 50°69′ E), представленные ассоциациями Pinetum cladinosum и Piceetum hylocomium соответственно. Растительность на исследуемом участке болота представлена Sphagnum Fuscum (Schimp.) и S. angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow), S. Magellanicum (Brid.), Vaccinium uliginosum L., V. Oxycoccos (Hill), Rubus chamaemorus L., Ledum palustre L., Eriophorum vaginatum L. Исследуемые сосновые и еловые древостои расположены на типичных для бореальных лесов подзолах и подзолистых почвах соответственно. Наземные растительные слои характеризуются преобладанием зеленых мхов и лишайников: Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.), Hylocomium spledens (Hedw.), Cladonia stellaris (Opiz), Cladonia arbuscula (Wallr.) и др. В ельнике зеленомошном в травянисто-кустарниковый ярусе постоянно присутствует Vaccinium uliginosum L. и V. myrtillus L. Образцы органогенного горизонта отобрали в конце вегетационного сезона. На каждой из исследуемых территорий выделяли образцы площадью 20 см2. Отбор осуществляли в 15-кратной повторности равномерно с различных участков по всей исследуемой территории. Расстояние между участками варьировало от 2.5 до 20 м.
Образцы органогенного горизонта торфяной олиготрофной почвы (Ombric Histosols) извлекали из верхней части торфяной залежи (акротелм, или сфагновый очес), которая чаще подвергается пожарам [8, 70]. В сосняке лишайниковом и ельнике зеленомошном исследовали образцы органогенного горизонта почв. Образцы подразделяли на подгоризонты O(L), O(F), и O(H) [26, 62]. После отбора образцы сушили до воздушно-сухого состояния. Воздушно-сухое состояние было выбрано как наиболее подходящее при имитации естественного пожара. Подгоризонт O(L) для каждого из лесных подстилок разобрали на фракции для выявления массовой доли отдельных компонентов опада. Для сосняка лишайникового исследовали два типа образцов подгоризонта O(L), которые отличались долевым содержанием лишайника по массе. В O(L)–I доля лишайников составляла естественное содержание на исследуемом участке (21%). В O(L)–II дополнительно добавили лишайник, так чтобы его доля составила 51%. Два типа органогенного подгоризонта O(L) в сосняке лишайниковом были выделены, чтобы сравнить исследуемый участок с участком, где в органогенном горизонте лишайник преобладает по массе. В ельнике зеленомошном исследовали один образец подгоризонта O(L) с естественным содержанием мха (45%). Подгоризонты O(F) и O(H) в сосняке лишайниковом объединяли в один O(F+H), из-за отсутствия четкой границы между подгоризонтами и невозможности их точного разделения. Образцы органогенных горизонтов почв после разделения на подгоризонты гомогенизировали и просеивали через сито с диаметром ячеек 2 мм и хранили при комнатной температуре до проведения эксперимента.
Описание эксперимента по сжиганию. Образцы исследуемых органогенных подгоризонтов почв помещали в фарфоровые тигли и накрывали алюминиевой фольгой. Мембрана из алюминиевой фольги позволяла частично ограничить доступ кислорода и удержать выбросы в процессе горения. Согласно исследованиям [49], при высокой скорости ветра происходит тушение языков пламени, и в большем количестве выбрасываются продукты неполного сгорания, которые включают ПАУ. Каждый из фарфоровых тиглей с образцом нагревали в течение 3 ч в печи для озоления LV9/11 P330 (Nabertherm, Lilienthal, Германия), при температурах 200, 300 и 500°C. Время нагрева 3 ч выбрано в соответствии с недавними исследованиями [12, 13, 23]. Часто наибольшая трансформация органогенных горизонтов почв происходит в условиях низовых пожаров при большой массе древесных остатков, которые характеризуются длительным временем горения. Известно, что температура в этих условиях может достигать 500–700°C [32], но основные потери массы подстилки происходят при температурах от 200–250 до 400°С [14]. Выбрали температуры в 200, 300 и 500°C для имитации низкоинтенсивного пожара, чтобы иметь возможность проанализировать изменения содержания и состава ПАУ в органогенных горизонтах почв.
Определение содержания ПАУ. Для полного извлечения ПАУ из органического материала использовали установку для ускоренной экстракции растворителями ASE-350 (Thermo Fisher Scientific, США) в ЦКП хроматография Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Каждый анализируемый образец растирали через сито с диаметром ячеек 0.25 мм. Затем образец массой 1 г помещали в экстракционную ячейку и трижды экстрагировали смесью хлористый метилен : ацетон (1 : 1) при температуре 100°С. Экстракты концентрировали с применением аппарата Кудерна–Даниша при температуре в термостате 70°С и заменяли растворитель на гексан. Полученный концентрат пробы объемом 3 см3 очищали от неорганических примесей методом колоночной хроматографии, с использованием оксида алюминия(II) степени активности по Брокману. В качестве элюента использовали 50 см3 смеси гексан : хлористый метилен (4 : 1). Элюат концентрировали с применением аппарата Кудерна–Даниша при температуре в термостате 85°С, до объема 5 см3, затем добавляли 3 см3 ацетонитрила и упаривали при температуре 90°С до полного удаления гексана. Концентрат пробы в ацетонитриле анализировали на содержание ПАУ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением жидкостного хроматографа Маэстро (ООО “Интерлаб”, Россия) с ВЭЖХ-инжектором Rheodyne 7725i (петля для образца 10 мкл), детектором на диодной матрице (DAD) (модель PDA 5430), флуоресцентным детектором (FLD) (модель FLD 5440) и колоночным отделением (модель TCC 5310). Для разделения ПАУ применяли колонку Agilent Zorbax Eclipse PAH (размер частиц 5 мкм, 250 × 2.1 мм I.D.), соединенную с защитной колонкой (5 мкм, 12.5 × 2.1 мм I.D.) (Zorbax Eclipse PAH guard column). Разделение проводили при скорости потока 0.2 мл/мин и температуре 30°C. В качестве подвижной фазы использовали градиент ацетонитрила и воды (0 мин – 60/40, 5 мин – 60/40, 25 мин – 100/0, 50 мин – 100/0). Флуоресцентное детектирование проводили с использованием программы длин волн возбуждения (Ex) и испускания (Em): 270/330 нм от 0 до 16.1 мин (нафталин, аценафтен и флуорен), 250/375 нм от 16.1 до 20.4 мин (фенантрен и антрацен), 240/440 нм от 20.4 до 22.2 мин (флуорантен), 240/390 нм от 22.2 до 27.0 мин (пирен), 260/385 нм от 27.0 до 31.9 мин (бенз[a]антрацен, хризен), 290/410 нм от 31.9 до 44.3 мин (бенз[b]флуорантен, бенз[k]флуорантен, бенз[a]пирен, дибенз[a.h]антрацен, бенз[ghi]перилен), 245/460 нм от 44.3 до 50.0 мин (инденопирен). УФ-детектирование проводили с применением диодно-матричного детектирования при выбранной длине волны 251 нм. Определяли содержание 14 индивидуальных ПАУ. Степень канцерогенности ПАУ оценивали при помощи приведения всех изучаемых полиаренов к уровню канцерогенности бенз[а]пирена (бензпиреновый эквивалент KПАУ). KПАУ рассчитывали по индексу токсичности (It) и содержанию полиаренов в почвах, согласно [40]. Список индивидуальных ПАУ включал: NP – нафталин, ACE – аценафтен, FL – флуорен, PHE – фенантрен, ANT – антрацен, FLA – флуорантен, PYR – пирен, BaA – бенз[а]антрацен, CHR – хризен, BbF – бенз[b]флуорантен, BkF – бенз[к]флуорантен, BaP – бенз[а]пирен, DahA – [a,h]антрацен, BghiP – бенз[g,h,i]перилен.
Статистическую обработку данных проводили с использованием программных пакетов Excel 2010 (Microsoft, США) и Statistica 10.0 (Stat. Soft Inc., США). Матрицу корреляции Пирсона строили с использованием пакетов readxl [73] и corrplot [72] в среде программирования R.
Результаты и обсуждение
Широко известно, что при пожарах в подстилке происходят физические и химические изменения. В результате влияния высоких температур органический материал подвергается дегидрированию и последующему разложению, что часто приводит к тлению, обугливанию (образованию “черного углерода”) и полному окислению до CO2 и H2O. Значительную роль в трансформации органического материала играют влажность, температура горения и концентрация кислорода в окружающей среде [38, 42, 59]. В результате слабоинтенсивных пожаров ОВ разлагаются не полностью [50], часто образуя соединения ПАУ [3, 36]. Попадая на поверхность почвы, полиарены подвергаются двум группам разнонаправленных процессов. Первый – сорбция и, как следствие, аккумуляция. Второй – миграция, биодеградация и биотрансформация, т.е. рассеивание [55]. Учитывая высокую гидрофобность ПАУ и высокую сорбирующую способность верхнего гумусированного горизонта почв, полиарены в значительной степени остаются в органогенном горизонте и практически не переносятся водными потоками вниз по профилю, за исключением механического переноса [6, 24]. В значительной степени частичный переход продуктов пирогенного разложения органогенных горизонтов почв в минеральные горизонты может проходить в первые месяцы после пожара [34, 59]. Таким образом, остатки элементов, образованных в результате пожаров, с большей вероятностью будут равномерно распределены в хорошо разложенном органогенном горизонте почв.
Фракционный состав. В результате разделения подгоризонта O(L) появилась возможность изучить как фракционная составляющая образцов влияет на содержание и состав полиаренов. Вероятно, нижележащие подгоризонты O(F) и O(H), частично соответствуют составу вышележащего O(L) и отличаются степенью разложения и минерализации. Следовательно, данные соотношения органического материала по фракциям (табл. 1) отчасти можно использовать и для нижележащих подгоризонтов. Отчасти, так как в данном случае не учтен фактор вымывания органического материала, который происходит с различной скоростью для разных фракций. Для торфяных почв эксперимент проводили для акротелма, где преобладает сфагновый мох. Образцы подстилки сосняка лишайникового и ельника зеленомошного характеризуются высокой долей лишайников и мха соответственно. Наиболее подробное описание морфологических, физических и химических изменений органогенных подгоризонтов почв ельника зеленомошного и сосняка лишайникового в результате влияния высоких температур при недостаточном доступе кислорода представлено в работе [44].
Таблица 1. Фракционный состав исследуемых органогенных подгоризонтов почв (%, от общей массы) (n = 15)
Тип подгоризонта | Мох | Лишайник | Листва | Хвоя | Кора | Ветви |
Торфяная олиготрофная почва (акротелм) | ||||||
Акротелм | 90 ± 0.3 | – | – | – | – | 10 ± 0.1 |
Органогенный горизонт почв сосняка лишайникового | ||||||
O(L)–I | 31 ± 0.4 | 22 ± 0.4 | – | 21 ± 0.1 | 12 ± 0.1 | 14 ± 0.3 |
O(L)–II | 19 ± 0.2 | 51 ± 1.0 | – | 13 ± 0.1 | 8 ± 0.1 | 9 ± 0.2 |
Органогенный горизонт почв ельника зеленомошного | ||||||
O(L) | 45 ± 0.4 | – | 18 ± 0.2 | 13 ± 0.1 | 9 ± 0.2 | 15 ± 0.2 |
Общие свойства. Одним из наиболее существенных изменений в образцах органогенных горизонтов почв при нагревании является потеря массы. В торфяной олиготрофной почве потеря составила 28, 56 и 78% при 200, 300 и 500°C соответственно (рис. 1). В сосняке лишайниковом средняя потеря массы составила 10, 40 и 59% при 200, 300 и 500°C соответственно. В ельнике зеленомошном 12, 34 и 52% при 200, 300 и 500°C. Выявлено, что большая потеря веса характерна для верхних подгоризонтов органогенных горизонтов почв. Известно, что изменения при низких температурах (ниже 200°C) способны существенно влиять на биологические свойства [64, 65], особенно в органогенном горизонте почв. Физические свойства, такие как водоотталкивающая способность почвы и стабильность агрегатов, также могут быть изменены в результате горения [58]. Потеря веса при 200°C связана с дегидратацией, тогда как значительное снижение веса при 300 и 500°C объясняется разрушением органического вещества [47]. Известно, что значительная часть углерода может быть потеряна уже при температурах от 200 до 315°C при улетучивании органического материала [54]. В похожих работах, с применением термогравиметрического анализа, выявлено, что наиболее значительная часть органического материала способна выгорать уже при температуре близкой к 500°C [13, 41].
Рис. 1. Потеря массы органогенных горизонтов почв в результате влияния высоких температур.
ПАУ в акротелме торфа. В исходном образце торфяных олиготрофных почв обнаружено пять структур индивидуальных ПАУ, представленных легкими (71 нг/г) и тяжелыми ПАУ (4 нг/г) (табл. 2). В результате воздействия температуры в 200°C содержание ПАУ возросло более чем в два раза (до 189 нг/г), но представлено исключительно низкомолекулярными ПАУ (нафталин, флуорен, фенантрен, антрацен и хризен) (рис. 2). Вероятно, следовые количества более нестабильных тяжелых полиаренов распались до более стабильных легких ПАУ [19]. Распад полиаренов основан на последовательном разложении бензольных колец по процессу карбоксилирования [52, 53].
Рис. 2. Массовая доля ПАУ в торфяной олиготрофной почве.
Таблица 2. Содержание ПАУ в органогенных горизонтах почв до и после сжигания, нг/г
Образец | 2-ядерные | 3-ядерные | 4-ядерные | 5-ядерные | 6-ядерные | Σ | |||||||||
NP ± Δ | ACE ± Δ | FL ± Δ | PHE ± Δ | ANT ± Δ | FLA ± Δ | PYR ± Δ | BbA ± Δ | CHR ± Δ | BbF ± Δ | BkF ± Δ | BaP ± Δ | DahA ± Δ | BghiP ± Δ | ||
Торфяная олиготрофная почва (акротелм) | |||||||||||||||
Исходный | 30 ± 15 | – | – | 37 ± 19 | 4 ± 2 | – | – | – | – | – | 2 ± 1 | 2 ± 1 | – | – | 75 ± 37 |
200°C | 120 ± 60 | – | 13 ± 5 | 44 ± 22 | 3 ± 1 | – | – | – | 9 ± 4 | – | – | – | – | – | 189 ± 93 |
300°C | 510 ± 180 | 7 ± | 32 ± 13 | 180 ± 40 | 8 ± 4 | 49 ± 22 | – | – | – | – | 4 ± 2 | – | – | 11 ± 5 | 801 ± 269 |
500°C | 110 ± 50 | – | 13 ± 5 | 16 ± 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 139 ± 63 |
Органогенный горизонт почв сосняка лишайникового O(L)–I | |||||||||||||||
Исходный | 51 ± 26 | – | 14 ± 6 | 170 ± 40 | 8 ± 4 | 56 ± 26 | – | 9 ± 4 | 9 ± 5 | 9 ± 4 | 3 ± 1 | 4 ± 2 | – | 6 ± 3 | 339 ± 120 |
200°C | 39 ± 19 | – | – | 160 ± 40 | 22 ± 5 | 67 ± 25 | – | – | 32 ± 17 | 130 ± 30 | 18 ± 9 | 11 ± 5 | – | – | 479 ± 151 |
300°C | 900 ± 300 | – | 61 ± 25 | 370 ± 80 | 12 ± 6 | 41 ± 19 | 110 ± 50 | 80 ± 30 | 300 ± 100 | 120 ± 30 | 17 ± 8 | 45 ± 23 | – | 16 ± 7 | 2072 ± 678 |
500°C | 38 ± 19 | – | 11 ± 4 | 26 ± 13 | 1 ± 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 ± 37 |
Органогенный горизонт почв сосняка лишайникового O(L)–II | |||||||||||||||
Исходный | 22 ± 11 | – | 7 ± 3 | 130 ± 30 | 5 ± 2 | 34 ± 16 | – | – | 9 ± 5 | 6 ± 3 | 2 ± 1 | 4 ± 2 | – | – | 219 ± 72 |
200°C | 32 ± 16 | – | 14 ± 6 | 116 ± 25 | 15 ± 7 | 50 ± 23 | – | – | 49 ± 25 | 80 ± 30 | 9 ± 4 | 6 ± 3 | – | – | 371 ± 140 |
300°C | 1220 ± 195 | – | 115 ± 29 | 405 ± 90 | 22 ± 5 | 41 ± 19 | 125 ± 55 | – | 77 ± 34 | 65 ± 27 | 2 ± 1 | 14 ± 7 | – | 33 ± 15 | 2119 ± 477 |
500°C | 57 ± 29 | – | 8 ± 3 | 24 ± 12 | 1 ± 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 ± 45 |
Органогенный горизонт почв сосняка лишайникового O(F+H) | |||||||||||||||
Исходный | 170 ± 90 | – | 9 ± 3 | 310 ± 70 | 21 ± 5 | 130 ± 50 | 40 ± 19 | – | 26 ± 13 | 15 ± 6 | 13 ± 6 | 15 ± 8 | – | 35 ± 16 | 784 ± 286 |
200°C | 120 ± 60 | – | 19 ± 8 | 210 ± 50 | 37 ± 9 | 120 ± 40 | – | – | 130 ± 40 | 120 ± 30 | 23 ± 11 | 30 ± 15 | 84 ± 25 | 51 ± 22 | 944 ± 310 |
300°C | 660 ± 240 | – | 66 ± 26 | 480 ± 110 | 8 ± 4 | 72 ± 27 | 180 ± 60 | – | 280 ± 90 | 490 ± 130 | 10 ± 5 | 80 ± 19 | – | – | 2326 ± 712 |
500°C | 43 ± 22 | – | 7 ± 3 | 17 ± 9 | – | – | – | – | 3 ± 2 | – | – | – | – | – | 70 ± 35 |
Органогенный горизонт почв ельника зеленомошного O(L) | |||||||||||||||
Исходный | 30 ± 15 | – | – | 40 ± 20 | 5 ± 2 | 26 ± 12 | – | – | 8 ± 4 | – | 2 ± 1 | 2 ± 1 | – | – | 113 ± 55 |
200°C | 44 ± 22 | – | 14 ± 5 | 80 ± 40 | 18 ± 4 | 150 ± 60 | 37 ± 17 | 7 ± 3 | 22 ± 12 | 26 ± 11 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | – | 8 ± 4 | 412 ± 181 |
300°C | 640 ± 230 | – | 43 ± 17 | 200 ± 40 | 10 ± 5 | – | 31 ± 14 | – | 22 ± 12 | 30 ± 12 | 5 ± 2 | 6 ± 3 | – | – | 987 ± 335 |
500°C | 54 ± 27 | – | 15 ± 6 | 38 ± 19 | 3 ± 1 | – | – | – | 3 ± 2 | – | – | – | – | – | 113 ± 55 |
Органогенный горизонт почв ельника зеленомошного O(F) | |||||||||||||||
Исходный | 60 ± 30 | – | 6 ± 2 | 91 ± 20 | 9 ± 5 | 53 ± 24 | 26 ± 12 | – | 10 ± 5 | 21 ± 9 | 6 ± 3 | 7 ± 3 | – | 16 ± 7 | 305 ± 120 |
200°C | 58 ± 29 | – | 10 ± 4 | 70 ± 30 | 9 ± 5 | 31 ± 14 | – | – | 21 ± 11 | 28 ± 12 | 5 ± 2 | 5 ± 3 | – | 14 ± 6 | 251 ± 115 |
300°C | 500 ± 180 | – | 43 ± 17 | 290 ± 60 | 16 ± 8 | 24 ± 11 | 28 ± 13 | – | 120 ± 40 | – | – | 4 ± 2 | – | – | 1025 ± 331 |
500°C | 80 ± 40 | – | 13 ± 5 | 54 ± 27 | 3 ± 1 | – | – | – | 9 ± 5 | – | – | – | – | – | 159 ± 79 |
Органогенный горизонт почв ельника зеленомошного O(H) | |||||||||||||||
Исходный | 150 ± 70 | – | 15 ± 6 | 180 ± 40 | 16 ± 4 | 120 ± 40 | 62 ± 28 | – | 11 ± 6 | 47 ± 20 | 17 ± 8 | 22 ± 11 | – | 42 ± 18 | 682 ± 251 |
200°C | 80 ± 40 | – | 16 ± 6 | 124 ± 27 | 8 ± 4 | 40 ± 18 | – | – | 38 ± 20 | 60 ± 25 | 11 ± 5 | 10 ± 5 | – | 28 ± 12 | 415 ± 164 |
300°C | 610 ± 220 | – | 67 ± 27 | 510 ± 110 | 36 ± 9 | 200 ± 80 | 90 ± 40 | 43 ± 18 | 180 ± 60 | 15 ± 6 | 10 ± 5 | 24 ± 12 | – | 83 ± 20 | 1868 ± 606 |
500°C | 37 ± 19 | – | 10 ± 4 | 30 ± 15 | 2 ± 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 ± 39 |
Примечание. NP – нафталин; ACE – аценафтен; FL – флуорен; PHE – фенантрен; ANT – антрацен; FLA – флуорантен; PYR – пирен; BaA – бенз[а]антрацен; CHR – хризен; BbF – бенз[b]флуорантен; BkF – бенз[к]флуорантен; BaP – бенз[а]пирен; DahA – [a,h]антрацен; BghiP – бенз[g,h,i]перилен.
Воздействие температуры при 300°C привело к повышению содержания полиаренов в 10 раз, по сравнению с исходным образцом, и составило 801 нг/г с преобладанием легких ПАУ. Заметным отличием стало образование тяжелых ПАУ (до 15 нг/г). Вероятно, разложение естественных биополимеров в условиях высокой температуры и недостатка кислорода привело к образованию большего количества ПАУ [3]. При 500°C выявлено значительное уменьшение содержания ПАУ до 139 нг/г. Предположительно, в результате горения при температуре 500°C, ПАУ распадаются до более простых соединений либо высвобождаются в окружающую среду совместно с летучим материалом. Аналогичные данные об увеличении доли продуктов неполного сгорания при сжигании торфа в рамках эксперимента описаны ранее [11]. Было указано, что торф является потенциальным источником огромного количества продуктов неполного сгорания, включая ПАУ.
ПАУ в органогенных подгоризонтах почв сосняка лишайникового. В исходных образцах органогенных подгоризонтов почв O(L)–I и O(L)–II выявлена значительная разница в содержании ПАУ (рис. 3). Подгоризонт O(L)–I с меньшей долей лишайника представлен практически всем спектром определяемых полиаренов, за исключением аценафтена, пирена и дибенз[a,h]антрацена. Суммарное содержание ПАУ в образце составило 339 нг/г. В исходном образце с высокой долей содержания лишайника (O(L)–II) количество ПАУ в 1.5 раза меньше, чем в образце без добавления лишайника и составляет 219 нг/г. Исходные образцы O(L) сосняка лишайникового представлены в основном легкими соединениями ПАУ. Разница в большем содержании ПАУ в O(L)–I обусловлена фракционным составом. Ранее для северных широт выявлено, что в лишайниках содержится меньше ПАУ, чем в мхах [74].
Рис. 3. Массовая доля ПАУ в органогенных подгоризонтах почв сосняка лишайникового.
В исходном образце подгоризонта O(F+H) содержание ПАУ значительно больше, чем в исходных образцах подгоризонтов O(L) и составляет 784 нг/г. Вероятно, в результате привноса или естественных процессов разложения органический материал был трансформирован, в результате чего образовались полиарены. Несмотря на дискуссионность данного предположения, стоит указать, что ПАУ могли быть синтезированы в результате процессов жизнедеятельности живых организмов [2, 20]. Морфологически в исследуемых образцах не обнаружено частиц угля, но, согласно исследованиям [37, 66], в результате пройденных пожаров ПАУ способны столетиями накапливаться в нижней части органогенного горизонта почв. Таким образом, ПАУ, в образцах, не содержащих отличимые частицы угля, можно рассматривать как маркер пройденных пожаров [7].
При температурах 200 и 300°C наблюдается увеличение содержания ПАУ во всех образцах сосняка лишайникового. В образце O(L)–I и O(L)–II содержание полиаренов при 300°C достигло пиковых значений и составило 2072 и 2119 нг/г соответственно. В наибольшей степени содержание ПАУ при 300°C увеличилось в нижнем подгоризонте (до 2326 нг/г). Стоит подчеркнуть, что немалая доля ПАУ в данном подгоризонте представлена тяжелыми соединениями (до 580 нг/г). Показано, что частично разложившиеся органические остатки, в которых уровень полиаренов изначально выше, в процессе горения образовали большее количество ПАУ, по сравнению с верхними подгоризонтами. При 500°C во всех образцах сосняка установлено понижение содержания ПАУ.
Образование полиаренов в значительной мере зависит от изначального содержания биополимеров и степени разложения ОВ [3]. Учитывая, что исходные образцы представлены в основном неразложенным материалом, стало неожиданностью наблюдать столь высокие значения ПАУ в образцах. Вероятно, к такому результату привела высокая сорбционная способность лишайника и мха. Резкое изменение содержания полиаренов в результате влияния высоких температур могло явиться результатом высокой горючести исследуемого материала.
ПАУ в органогенном горизонте почв ельника зеленомошного. В исходном образце O(L) выявлено суммарное содержание ПАУ в 113 нг/г. При повышении температуры до 200 и 300°C происходит рост содержания полиаренов до 412 и 987 нг/г соответственно. Показано, что при 500°C содержание ПАУ резко уменьшается (до 113 нг/г), по сравнению с образцами, которые подверглись влиянию температур в 200 и 300°C. Во всех образцах ельника выявлено преобладание легких ПАУ.
Установлено, что суммарное содержание ПАУ в исходном образце подгоризонта O(F) составляет 305 нг/г, из них 255 нг/г представлены легкими ПАУ. При повышении температуры до 200°C происходит снижение содержания полиаренов до 250 нг/г. Видимо, в ельниках ОВ менее горючее, поэтому разложение при 200°C практически не происходит, а если и идет, то медленнее, не до легких, а до тяжелых структур. Это соответствует поведению полиаренов, согласно которому в первую очередь происходит высвобождение низкомолекулярных ПАУ. Вероятно, поэтому возросла доля высокомолекулярных ПАУ в образце (до 26%). Также повышение тяжелых полиаренов можно объяснить наличием смолистых веществ в образце. Уменьшение содержания ПАУ при 200°C, объяснимо процессами дегидрирования органического материала и попутного улетучивания ПАУ. При 300°C происходит резкое увеличение содержания полиаренов до 1025 нг/г, с преобладанием низкомолекулярных ПАУ (1021 нг/г). При 500°C содержание ПАУ снижается до 159 нг/г.
В исходном образце подгоризонта O(H) выявлено суммарное содержание ПАУ в 682 нг/г, из которых легкие 554 нг/г и тяжелые 128 нг/г. Изменение содержания ПАУ в результате воздействия высоких температур на подгоризонт O(H) ельника схоже с изменениями в подгоризонте O(F), за исключением состава полиаренов. При 200, 300 и 500°C установлено 415, 1868 и 79 нг/г соответственно. При температурах в 200 и 300°C выявлено высокое содержание тяжелых ПАУ.
Изменение содержания и состава ПАУ в результате влияния высоких температур. В результате сравнения исходных образцов органогенных горизонтов почв (25°С) и образцов, подвергшихся влиянию высоких температур (200, 300 и 500°С), выявлены значительные различия в содержании и составе ПАУ. Для всех образцов выявлено резкое увеличение содержания ПАУ 300°C и дальнейшее уменьшение к 500°C. Вероятно, горение при 500°C способствовало минерализации [30] и улетучиванию [46] полиаренов, включая термическое разложение более тяжелых ПАУ. Выявлено, что процесс сгорания проходит с образованием преимущественно легких ПАУ при более низких температурах (200 и 300°C) и разложением до простых веществ при высоких (500°C). Это также подтверждается полученными данными о потерях массы при сжигании при 500°C (рис. 4). Однако не стоит исключать, что в описанных в рамках эксперимента условиях могли образовываться полиарены, не входящие в перечень анализируемых.
Рис. 4. Массовая доля ПАУ в органогенных подгоризонтах почв ельника зеленомошного.
Установлено, что суммарное содержание ПАУ больше в ферментированном и гумусированном подгоризонтах подстилок. Исходя из того, что в минеральном слое наибольшее накопление полиаренов происходит в верхней части (лишь незначительная часть ПАУ способно к перераспределению вниз по профилю, в зависимости от времени пройденного пожара) [6]. Также учитывая способность полиаренов адсорбироваться на почвенных частицах, в частности, в почвенном ОВ [67]. Согласно литературным данным, значительная часть ПАУ концентрируются непосредственно на границе минерального и органогенного слоев почв и способна играть важную роль в процессах гумификации [1]. С другой стороны, полиарены являются высокотоксичными компонентами, которые способны негативно влиять на микрофлору и растительность и приводить к деформации процесса почвообразования [9].
Считается, что биоуголь, образующийся в результате сжигания, является подходящим материалом для накопления углерода в почвах [33]. Повышение содержания ПАУ в почвах после пожаров указано во множестве работ [6, 35, 69]. Однако до сих пор имеются пробелы в понимании поведения полиаренов, куда они переносятся, и как протекают процессы разложения. На содержание ПАУ в значительной степени влияют условия протекания пожара. Согласно исследованиям после лесных пожаров, с увеличением интенсивности пожара концентрации ПАУ в почве либо уменьшаются [30], либо увеличиваются [51] или не претерпевают значительных изменений вовсе [27]. Схожие с результатами текущей работы данные об увеличении содержания ПАУ при сжигании ОВ в лабораторных условиях при 350°C, и заметным уменьшением ПАУ при температурах 500°C и выше представлены в работах [33, 45, 75]. Считается, что путь к образованию ПАУ в диапазоне температур 300–650°C протекает через процесс карбонизации, при котором твердый остаток подвергается химическому превращению и перегруппировке с образованием более конденсированной полициклической ароматической структуры [56].
Согласно данным корреляции фракционного состава и индивидуальных ПАУ (рис. 5) выявлены некоторые закономерности. Проверка на значимость коэффициента корреляции выявила сильную положительную взаимосвязь между высоким содержанием хвои и содержанием пирена, бенз[a]антрацена, хризена, бенз[b]флуорантена, бенз[k]флуорантена и бензапирена в исходных образцах (r ~ 0.8, p < 0.05). Вероятно, кутикула хвоинок, содержащая воск, способна накапливать полиарены из атмосферы либо синтезировать их. Похожая, но менее сильная положительная корреляция выявлена между вышеназванными индивидуальными ПАУ и древесной корой.
Рис. 5. Коэффициенты корреляции между фракционным составом и ПАУ в исходных образцах органогенных горизонтов почв.
Содержание и состав ПАУ часто используют как информационный ресурс для индикации источников полиаренов и геохимических процессов, происходящих в почвах [4]. Согласно более ранним работам [39, 57, 76], значения отношений отдельных полиаренов можно использовать для того, чтобы установить к какому источнику относятся ПАУ (пирогенному, биогенному или петрогенному). Для расчета отношений выбирают такие соединения, которые имеют определенные сходства в строении и физико-химических свойствах [71].
Согласно работе [78], отношение низкомолекулярных ПАУ к высокомолекулярным менее единицы говорит о пирогенном источнике полиаренов. В настоящем случае практически во всех образцах, во многом из-за высокого содержания нафталина, отношение превышает единицу. Возможно, при сгорании подстилки бореальных лесов о пирогенном источнике полиаренов можно говорить даже тогда, когда отношение легких ПАУ к тяжелым становится более единицы. Стоит подчеркнуть, что реакции, происходящие с ПАУ, например, во время их атмосферного переноса, могут менять диагностические отношения между ними. Таким образом, стоит учитывать, что диагностические индексы могут сильно изменяться из-за процессов окисления и биодеградации в почвах, что уменьшает достоверность такой диагностики [25, 68].
Заключение
Проведен пирогенный эксперимент, в рамках которого сымитировано влияние низкоинтенсивных пожаров на органогенные горизонты болотных и лесных почв средней тайги северо-востока Европейской территории России. В рамках эксперимента проанализировано содержание и состав ПАУ в акротелме торфяной олиготрофной почвы и органогенных подгоризонтах почв сосняка лишайникового и ельника зеленомошного до и после сжигания. Выявлено, что изменения, происходящие в органогенных горизонтах почв, зависят от природы и состава сжигаемого материала. Установлено, что при пожарах низкой интенсивности вероятно значительное изменение содержания и состава ПАУ. При различном фракционном составе ОВ исследуемых почв отмечена общая тенденция, тогда как при 300°C наблюдается наибольшее повышение, а при 500°C резкое снижение содержания ПАУ. В результате оценки изменения состава полиаренов показано, что процесс сгорания проходит с образованием преимущественно легких ПАУ при более низких температурах (200 и 300°C) и разложением до простых веществ при высоких (500°C). Выявлено, что состав ПАУ в значительной степени зависит от фракционного состава ОВ. Показано, что наличие хвои и коры приводит к высокой доле содержания тяжелых ПАУ. Соотношение схожих полиаренов часто используют для установления источника ПАУ. В рамках работы получено отношение легких к тяжелым ПАУ больше единицы. Вероятно, данное отношение может послужить примером определения пирогенных полиаренов.
Финансирование работы
Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 122040600023-8.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии у них конфликта интересов.
About the authors
N. M. Gorbach
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University; Institute of Biology of Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: nikolay.tbo@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-5099-6868
Russian Federation, Syktyvkar, 167001; Syktyvkar, 167982
E. V. Yakovleva
Institute of Biology of Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: nikolay.tbo@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-0793-1468
Russian Federation, Syktyvkar, 167982
A. A. Dymov
Institute of Biology of Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; Lomonosov Moscow State University
Email: nikolay.tbo@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-1284-082X
Faculty of Soil Science
Russian Federation, Syktyvkar, 167982; Moscow, 119991References
- Безносиков В.А., Лодыгин Е.Д., Габов Д.Н., Василевич Р.С. Гуминовые вещества и полициклические ароматические углеводороды в тундровых почвах // Теоретическая и прикладная экология. 2015. № 1. С. 44–52.
- Габов Д.Н., Безносиков В.А., Кондратенок Б.М., Яковлева Е.В. Закономерности формирования полициклических ароматических углеводородов в почвах северной и средней тайги // Почвоведение. 2008. № 11. С. 1334–1343.
- Геннадиев А.Н., Пиковский Ю.И., Цибарт А.С., Смирнова М.А. Углеводороды в почвах: происхождение, состав, поведение (обзор) // Почвоведение. 2015. № 10. С. 1195–1195. https://doi.org/10.7868/S0032180X15100020
- Геннадиев А.Н., Цибарт А.С. Факторы и особенности накопления пирогенных полициклических ароматических углеводородов в почвах заповедных и антропогенно-измененных территорий // Почвоведение. 2013. № 1. С. 32–32. https://doi.org/10.7868/S0032180X13010024
- Головацкая Е.А., Никонова Л.Г. Разложение растительных остатков в торфяных почвах олиготрофных болот // Вестник Томск. гос. ун-та. Биология. 2013. № 3(23). С. 137–151. https://doi.org/10.17223/19988591/23/13
- Дымов А.А., Дубровский Ю.А., Габов Д.Н. Пирогенные изменения подзолов иллювиально-железистых (средняя тайга, республика Коми) // Почвоведение. 2014. № 2. С. 144–144. https://doi.org/10.7868/S0032180X14020051
- Дымов А.А., Милановский Е.Ю., Холодов В.А. Состав и гидрофобные свойства органического вещества денсиметрических фракций почв Приполярного Урала // Почвоведение. 2015. № 11. С. 1335–1335. https://doi.org/10.7868/S0032180X15110052
- Инишева Л.И. Торфяные почвы: их генезис и классификация // Почвоведение. 2006. № 7. С. 781–786
- Казеев К.Ш., Одабашян М.Ю., Трушков А.В., Колесников С.И. Оценка влияния разных факторов пирогенного воздействия на биологические свойства чернозема // Почвоведение. 2020. № 11. С. 1372–1382. https://doi.org/10.31857/S0032180X20110064
- Константинова Е.Ю., Сушкова С.Н., Минкина Т.М., Антоненко Е.М., Константинов А.О., Хорошавин В.Ю. Полициклические ароматические углеводороды в почвах промышленных и селитебных зон Тюмени // Известия Томского политех. ун-та. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 8. С. 66–79.
- Косяков Д.С., Ульяновский Н.В., Мазур Д.М., Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в исследовании загрязнения атмосферы Арктики // Лаборатория и производство. 2020. № 3–4. С. 56–68.
- Масягина О.В., Токарева И.В., Прокушкин А.С. Моделирование термического воздействия пожаров на физико-химические свойства и микробную активность подстилки криогенных почв // Почвоведение. 2014. № 8. С. 971–971. http://doi.org/10.7868/S0032180X14080097
- Прокушкин А.С., Токарева И.В. Влияние нагревания на органическое вещество лесных подстилок и почв в условиях эксперимента // Почвоведение. 2007. № 6. С. 698–706
- Прокушкин С.Г., Богданов В.В., Прокушкин А.С., Токарева И.В. Послепожарное восстановление органического вещества в напочвенном покрове лиственничников криолитозоны центральной Эвенкии // Известия. РАН. Сер. биологическая. 2011. № 2. С. 227–234.
- СанПиН 1.2.3685–21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания”. 2021. https://docs.cntd.ru/document/573500115#6540IN (дата обращения 04.09.2023)
- Сушкова С.Н., Яковлева Е.В., Минкина Т.М., Габов Д.Н., Антоненко Е.М., Дудникова Т.С., Барбашев А.И., Минникова Т.В., Колесников С.И., Раджпут В.Д. Накопление бенз(а)пирена в растениях разных видов и органогенном горизонте почв степных фитоценозов при техногенном загрязнении // Известия Томского политех. ун-та. Инжиниринг георесурсов. 2020. Т. 331. № 12. С. 200–214. https://doi.org/10.18799/24131830/2020/12/2953
- Таскаев А.И. Атлас Республики Коми по климату и гидрологии. М.: Дрофа, 1997. 115 c.
- Хаустов А.П., Редина М.М. Индикаторные соотношения концентраций полициклических ароматических углеводородов в объектах сжигания угольного топлива и биомассы // Антропогенная трансформация природной среды. 2019. № 5. С. 64–71.
- Цибарт А.С., Геннадиев А.Н. Полициклические ароматические углеводороды в почвах: источники, поведение, индикационное значение (обзор) // Почвоведение. 2013. № 7. С. 788–788. https://doi.org/10.7868/S0032180X13070125
- Яковлева Е.В., Безносиков В.А., Кондратенок Б.М., Габов Д.Н., Василевич М.И. Биоаккумуляция полициклических ароматических углеводородов в системе почва растение // Агрохимия. 2008. № 9. С. 66–74.
- Яковлева Е.В., Габов Д.Н., Василевич Р.С., Гончарова Н.Н. Участие растений в формировании состава полициклических ароматических углеводородов торфяников // Почвоведение. 2020. № 3. С. 316–329. https://doi.org/10.31857/S0032180X20030107
- Яковлева Е.В., Габов Д.Н., Василевич Р.С. Формирование состава полициклических ароматических углеводородов бугристых болот в зональном ряду лесотундра–северная тундра // Почвоведение. 2022. № 3. С. 296–314. https://doi.org/10.31857/S0032180X22030145
- Araya S.N., Fogel M.L., Berhe A.A. Thermal alteration of soil organic matter properties: A systematic study to infer response of Sierra Nevada climosequence soils to forest fires // Soil. 2017. V. 3. P. 31–44. https://doi.org/10.5194/soil-3-31-2017
- Atanassova I., Brümmer G.W. Polycyclic aromatic hydrocarbons of anthropogenic and biopedogenic origin in a colluviated hydromorphic soil of Western Europe // Geoderma. 2004. V. 120. № 1. P. 27–34. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2003.08.007
- Biache C., Mansuy-Huault L., Faure P. Impact of oxidation and biodegradation on the most commonly used polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) diagnostic ratios: Implications for the source identifications // J. Hazardous Mater. 2014. V. 267. P. 31–39. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.12.036
- Broll G., Brauckmann H.J., Overesch M., Junge B., Erber C., Milbert G., Baize D., Nachtergaele F. Topsoil characterization: recommendations for revision and expansion of the FAO-draft (1998) with emphasis on humus forms and biological factors // J. Plant Nutrition Soil Sci. 2006. V. 169. № 3. P. 453–461. https://doi.org/10.1002/jpln.200521961
- Campos I., Abrantes N., Pereira P., Micaelo A.C., Vale C., Keizer J.J. Forest fires as potential triggers for production and mobilization of polycyclic aromatic hydrocarbons to the terrestrial ecosystem // Land Degrad. Dev. 2019. V. 30. № 18. P. 2360–2370. https://doi.org/10.1002/ldr.3427
- Certini G. Effects of fire on properties of forest soils: A review // Oecologia. 2005. T. 143. P. 1–10. https://doi.org/10.1007/s00442-004-1788-8
- Certini G. Fire as a soil-forming factor // Ambio. 2014. V. 43. № 2. P. 191–195. https://doi.org/10.1007/s13280-013-0418-2
- Chen H., Chow A.T., Li X.W., Ni H.G., Dahlgren R.A., Zeng H., Wang J.J. Wildfire burn intensity affects the quantity and speciation of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils // ACS Earth and Space Chemistry. 2018. V. 2. № 12. P. 1262–1270. https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.8b00101
- Chen Y., Hu F.S., Lara M.J. Divergent shrub-cover responses driven by climate, wildfire, and permafrost interactions in Arctic tundra ecosystems // Glob. Change Biol. 2021. V. 27. № 3. P. 652–663. https://doi.org/10.1111/gcb.15451
- DeBano L.F. The role of fire and soil heating on water repellency in wildland environments: A review // J. Hydrol. 2000. V. 231. P. 195–206. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(00)00194-3
- Devi P., Saroha A.K. Effect of pyrolysis temperature on polycyclic aromatic hydrocarbons toxicity and sorption behaviour of biochars prepared by pyrolysis of paper mill effluent treatment plant sludge // Bioresour. Technol. 2015. V. 192. P. 312–320. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.05.084
- Dymov A.A., Abakumov E.V., Bezkorovaynaya I.N., Prokushkin A.S., Kuzyakov Y.V., Milanovsky E.Y. Impact of forest fire on soil properties (review) // Theor. Appl. Ecol. 2018. № 4. P. 13–23. https://doi.org/10.25750/1995-4301-2018-4-013-023
- Dymov A.A., Gabov D.N. Pyrogenic alterations of Podzols at the North-east European part of Russia: Morphology, carbon pools, PAH content // Geoderma. 2015. V. 241. P. 230–237.
- Dymov A.A., Grodnitskaya I.D., Yakovleva E.V., Dubrovskiy Y.A., Kutyavin I.N., Startsev V.V., Prokushkin A.S. Albic Podzols of Boreal Pine Forests of Russia: Soil Organic Matter, Physicochemical and Microbiological Properties across Pyrogenic History // Forests. 2022. V. 13. № 11. P. 1831. https://doi.org/10.3390/f13111831
- Dymov A.A., Startsev V.V., Yakovleva E.V., Dubrovskiy Y.A., Milanovsky E.Y., Severgina D.A., Prokushkin A.S. Fire-Induced Alterations of Soil Properties in Albic Podzols Developed under Pine Forests (Middle Taiga, Krasnoyarsky Kray) // Fire. 2023. V. 6. № 2. P. 67. https://doi.org/10.3390/fire6020067
- Frandsen W.H. Ignition probability of organic soils // Can. J. Forest Res. 1997. V. 27. P. 1471–1477. https://doi.org/10.1139/x97-106
- Froehner S., de Souza D.B., Machado K.S., Falcao F., Fernandes C.S., Bleninger T., Neto D.M. Impact of coal tar pavement on polycyclic hydrocarbon distribution in lacustrine sediments from non-traditional sources // Int. J. Environ. Sci. Technol. 2012. V. 9. P. 327–332. https://doi.org/10.1007/s13762-012-0044-8
- Gabov D., Yakovleva E., Vasilevich R. Vertical distribution of PAHs during the evolution of permafrost peatlands of the European arctic zone // Appl. Geochem. 2020. V. 123. P. 104790. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2020.104790
- Giovannini G., Lucchesi S., Giachetti M. Effect of heating on some physical and chemical parameters related to soil aggregation and erodibility // Soil Sci. 1988. V. 146. № 4. P. 255–261. https://doi.org/10.1097/00010694-198810000-00006
- Gleixner G., Czimczik C.J., Kramer C., Lühker B., Schmidt M.W. Plant compounds and their turnover and stabilization as soil organic matter // Glob. Biogeochem. Cycles Clim. Syst. 2001. P. 201–215. https://doi.org/10.1016/B978-012631260-7/50017-0
- Goldammer J.G., Furyaev V.V. Fire in ecosystems of boreal Eurasia: Ecological impacts and links to the global system // Fire in ecosystems of Boreal Eurasia. Dordrecht: Springer Netherlands. 1996. P. 1–20. https://doi.org/10.1007/978-94-015-8737-2_1
- Gorbach N.M., Startsev V.V., Mazur A.S., Milanovskiy E.Y., Prokushkin A.S., Dymov A.A. Simulation of smoldering combustion of organic horizons at pine and spruce boreal forests with lab-heating experiments // Sustainability. 2022. V. 14. № 24. P. 16772. https://doi.org/10.3390/su142416772
- Hale S.E., Lehmann J., Rutherford D., Zimmerman A.R., Bachmann R.T., Shitumbanuma V., O’Toole A., Sundqvist K.L., Arp H.P.H., Cornelissen G. Quantifying the total and bioavailable polycyclic aromatic hydrocarbons and dioxins in biochars // Environ. Sci. Technol. 2012. V. 46. № 5. P. 2830–2838. https://doi.org/10.1021/es203984k
- Harper A.R., Santín C., Doerr S.H., Froyd C.A., Albini D., Otero X.L., Pérez-Fernández B. Chemical composition of wildfire ash produced in contrasting ecosystems and its toxicity to Daphnia magna // Int. J. Wildland Fire. 2019. V. 28. № 10. P. 726–737. https://doi.org/10.1071/WF18200
- Iglesias T., Cala V., Gonzalez J. Mineralogical and chemical modifications in soils affected by a forest fire in the Mediterranean area // Sci. Total Environ. 1997. V. 204. № 1. P. 89–96. https://doi.org/10.1016/S0048-9697(97)00173-3
- Ivanov A.V., Neumann M., Darman G.F., Danilov A.V., Susloparova E.S., Solovyov I.D., Bryanin S. Vulnerability of larch forests to forest fires along a latitudinal gradient in eastern Siberia // Can. J. For. Res. 2022. Т. 52. № 12. P. 1543–1552. https://doi.org/10.1139/cjfr-2022-0161
- Jenkins B.M., Jones A.D., Turn S.Q., Williams R.B. Particle concentrations, gas-particle partitioning, and species intercorrelations for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) emitted during biomass burning // Atmos. Environ. 1996. V. 30. № 22. P. 3825–3835. https://doi.org/10.1016/1352-2310(96)00084-2
- Jian M., Berhe A.A., Berli M., Ghezzehei T.A. Vulnerability of physically protected soil organic carbon to loss under low severity fires // Front. Environ. Sci. 2018. V. 6. P. 66. http://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00066
- Kim E.J., Choi S.D., Chang Y.S. Levels and patterns of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils after forest fires in South Korea // Environ. Sci. Pollut. Res. 2011. V. 18. P. 1508– 1517. http://doi.org/10.1007/s11356-011-0515-3
- Knicker H. Pyrogenic organic matter in soil: Its origin and occurrence, its chemistry and survival in soil environments // Quat. Int. 2011. Т. 243. № 2. P. 251–263. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2011.02.037
- Kosyakov D.S., Ul’yanovskii N.V., Latkin T.B., Pokryshkin S.A., Berzhonskis V.R., Polyakova O.V., Lebedev A.T. Peat burning – An important source of pyridines in the earth atmosphere // Environ. Pollut. 2020. Т. 266. P. 115109. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115109
- Lide D.R. CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press: Boca Raton. 2004. V. 85. P. 2712.
- Lodygin E., Abakumov E., Nizamutdinov T. The content of polyarenes in soils of antarctica: Variability across landscapes // Land. 2021. V. 10. № 11. P. 1162. https://doi.org/10.3390/land10111162
- McGrath T.E., Chan W.G., Hajaligol M.R. Low temperature mechanism for the formation of polycyclic aromatic hydrocarbons from the pyrolysis of cellulose // J. Anal. Appl. Pyrolysis. 2003. V. 66. № 1–2. P. 51–70. https://doi.org/10.1016/S0165-2370(02)00105-5
- Mizwar A., Trihadiningrum Y. PAH contamination in soils adjacent to a coal-transporting facility in Tapin District, South Kalimantan, Indonesia // Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 2015. V. 69. P. 62–68. https://doi.org/10.1007/s00244-015-0141-z
- Negri S., Stanchi S., Celi L., Bonifacio E. Simulating wildfires with lab-heating experiments: Drivers and mechanisms of water repellency in alpine soils // Geoderma. 2021. V. 402. P. 115357. http://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115357
- Ngole-Jeme V.M. Fire-induced changes in soil and implications on soil sorption capacity and remediation methods // Appl. Sci. 2019. V. 9. № 17. P. 3447. http://doi.org/10.3390/app9173447
- Peel M.C., Finlayson B.L., McMahon T.A. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification // Hydrol. Earth Syst. Sci. 2007. V. 11. № 5. P. 1633–1644. http://doi.org/10.5194/hess-11-1633-2007
- Peng C., Ouyang Z., Wang M., Chen W., Li X., Crittenden J.C. Assessing the combined risks of PAHs and metals in urban soils by urbanization indicators // Environ. Pollut. 2013. V. 178. P. 426–432. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.03.058
- Potapov A.M., Sun X., Barnes A.D., Briones M.J., Brown G.G., Cameron E.K., Chang C.-H., Cortet J., Eisenhauer N., Franco A.L., Fujii S., Geisen S., Guerra C., Gongalsky K., Haimi J., Handa I.T., Janion-Sheepers C., Karaban K., Lindo Z., Wall D. Global monitoring of soil animal communities using a common methodology // Soil Org. 2022. V. 94. № 1. P. 55–68. https://doi.org/10.25674/so94iss1id178
- Qu Y., Gong Y., Ma J., Wei H., Liu Q., Liu L., Chen Y. Potential sources, influencing factors, and health risks of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the surface soil of urban parks in Beijing, China // Environ. Pollut. 2020. V. 260. P. 114016. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114016
- Santín C., Knicker H., Fernández S., Menéndez-Duarte R., Álvarez M.Á. Wildfires influence on soil organic matter in an Atlantic mountainous region (NW of Spain) // Catena. 2008. V. 74. № 3. P. 286–295. https://doi.org/10.1016/j.catena.2008.01.001
- Santín C., Doerr S.H. Fire effects on soils: The human dimension // Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 2016. V. 371. P. 20150171. http://doi.org/10.1098/rstb.2015.0171
- Startsev V.V., Yakovleva E.V., Kutyavin I.N., Dymov A.A. Fire impact on carbon pools and basic properties of retisols in native spruce forests of the European North and Central Siberia of Russia // Forests. 2022. V. 13. № 7. P. 1135. https://doi.org/10.3390/f13071135
- Tang L., Tang X., Zhu Y.G., Zheng M.H., Miao Q.L. Contamination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in urban soils in Beijing, China // Environ. Int. 2005. V. 31. P. 822–828. https://doi.org/10.1016/j.envint.2005.05.031
- Tobiszewski M., Namieњnik J. PAH diagnostic ratios for the identification of pollution emission sources // Environ. Pollut. 2012. V. 162. P. 110–119. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.10.025
- Tsibart A.S., Gennadiev A.N., Koshovskii T.S. Polycyclic aromatic hydrocarbons in post-fire soils of drained peatlands in western Meshchera (Moscow region, Russia) // Solid Earth. 2014. V. 5. № 2. P. 1305–1317. https://doi.org/10.5194/se-5-1305-2014
- Turetsky M.R., Benscoter B., Page S., Rein G., Van Der Werf G.R., Watts A. Global vulnerability of peatlands to fire and carbon loss // Nat. Geosci. 2015. V. 8. № 1. P. 11–14. https://doi.org/10.1038/NGEO2325
- Uhler A.D., Emsbo-Mattingly S.D. Environmental stability of PAH source indices in pyrogenic tars // Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2006. V. 76. P. 689–696. https://doi.org/10.1007/s00128-006-0975-1
- Wei T., Simko V.R. Package “Corrplot”: Visualization of a Correlation Matrix (Version 0.92). Package Corrplot for R Software. 2021. 26 p.
- Wickham H., Bryan J. Readxl: Read Excel Files R Package Version 1.3.1. R Package. Vienna, Austria. 2019. P. 10.
- Yakovleva E.V., Gabov D.N. Polyarenes accumulation in tundra ecosystem influenced by coal industry of Vorkuta // Pol. Polar Res. 2020. V. 41. № 3. P. 237–267. https://doi.org/10.24425/ppr.2020.134122
- Yang B., Shi Y., Xu S., Wang Y., Kong S., Cai Z., Wang J. Polycyclic aromatic hydrocarbon occurrence in forest soils in response to fires: a summary across sites // Environ. Sci.: Process. Impacts. 2022. V. 24. № 1. P. 32–41. https://doi.org/10.1039/D1EM00377A
- Young A.M., Higuera P.E., Duffy P.A., Hu F.S. Climatic thresholds shape northern high-latitude fire regimes and imply vulnerability to future climate change // Ecography. 2016. V. 40. P. 606–617. http://doi.org/10.1111/ecog.02205
- Yunker M.B., Macdonald R.W., Vingarzan R., Mitchell R.H., Goyette D., Sylvestre S. PAHs in the Fraser River basin: a critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH source and composition // Org. Geochem. 2002. V. 33. № 4. P. 489–515. https://doi.org/10.1016/S0146-6380(02)00002-5
- Zhang W., Zhang S., Wan C., Yue D., Ye Y., Wang X. Source diagnostics of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban road runoff, dust, rain and canopy throughfall // Environ. Pollut. 2008. V. 153. № 3. P. 594–601. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2007.09.004
Supplementary files