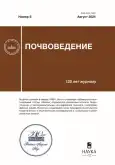Микроэлементы в маршевых почвах Поморского берега Белого моря
- Авторы: Багдасаров И.Е.1, Конюшкова М.В.1, Крюкова Ю.А.1, Ладонин Д.В.1, Цейц М.А.1, Красильников П.В.1
-
Учреждения:
- МГУ им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: № 8 (2024)
- Страницы: 1077-1086
- Раздел: ХИМИЯ ПОЧВ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0032-180X/article/view/275722
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24080032
- EDN: https://elibrary.ru/KNNKUF
- ID: 275722
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Почвы морских побережий функционируют на контакте терригенного стока и воздействия морской воды, что обеспечивает уникальную геохимическую обстановку. Отчасти процессы миграции и аккумуляции элементов могут обеспечиваться процессами формирования и окисления сульфидов железа. Исследовали содержание и пространственное распределение Fe и Mn и микроэлементов в почвах маршей Поморского берега Белого моря. Работы вели вблизи села Колежма, Беломорский район, Республика Карелия. Исследование показало, что для изученных почв характерно повышенное содержание таких микроэлементов, как As и Se, которые обычно ассоциируют с наличием сульфидов металлов в морских отложениях. Отмечено высокое содержание Fe (до 27 300 ppm) и Mn (до 1500 ppm), что типично для таежных ландшафтов. При этом в почвах побережий геохимическая судьба Fe и Mn расходится, вероятно, отчасти за счет участия Fe в минеральных переходах из сульфидов в сульфаты. Такие микроэлементы, как Ni и Cr, присутствуют в почвах в концентрациях, сравнимых с фоновыми в зональных почвах региона. Только As и Se могут представлять потенциальную опасность в случае использования томболо под сенокос.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Отложения, почвы и экосистемы побережий морей и океанов являются объектом мультидисциплинарных исследований во всем мире [20, 30, 31]. Известен особый режим накопления осадков, гидрологический и солевой режимы почв побережий; в международной почвенной классификации эти почвы обычно выделяются как Tidalic Fluvisols [26]. В России почвы маршевых лугов и, шире, морских побережий исследовались несколькими специалистами, однако уровень знаний об этих почвах, учитывая длину морских побережий страны, явно недостаточен. По сути, исследования проводились только в Приморье [6, 16] и на берегах Белого и Баренцева морей [8, 10, 13, 14, 15, 34]. Заметим, что в последние годы появились статьи по маршевым почвам восточной части Российской Арктики [4, 5], которые показывают специфику берегов мерзлотных областей. В этих работах преимущественно рассматриваются вопросы генезиса, географии и классификации маршевых почв. В отдельных публикациях рассматривались проблемы пространственного распределения и состава солей в профиле почв [6], их кислотно-основных свойств и распределения разных форм углерода [15], эволюционные ряды почв от маршевых до зональных [8], а также связи растительности и свойств почвы [11]. Отметим хорошую изученность почв берегов Белого моря; что касается Балтийского моря, то работ по маршевым почвам для его побережий в пределах российской территории почти нет, что связано преимущественно со слабым колебанием уровня воды на балтийском побережье, и, соответственно, с незначительным развитием приливно-отливной зоны [2]. Финские ученые исследования проводили по побережью Ботнического залива, в том числе по распространению растительности маршевых лугов в зависимости от состава и концентрации солей в почвах [32]. Практически не уделялось внимания формированию кислых сульфатных почв на побережьях российских морей. Единственное подробное исследование кислых сульфатных почв в стране [7] посвящено объектам, формирующимся на внебереговых отложениях, где сульфиды имеют эндогенное происхождение. В мировой литературе береговые кислые сульфатные почвы исследованы подробно. Хотя отрывочные сведения о кислых сульфатных почвах встречались в литературе с XVI в., когда осушение голландских польдеров привело к активному окислению сульфидов в морских отложениях, реальное научное исследование кислых сульфатных почв началось с 1970-х годов [29]. В эти годы удалось подробно охарактеризовать процессы накопления пирита в береговых отложениях за счет микробиологического восстановления железа и серы сульфатредуцирующими бактериями Desulfovibrio и Desulfotomakulum и его дальнейшего окисления при контакте почв с кислородом, которое также в значительной степени проходит с участием хемотрофных бактерий, преимущественно Thiobacillus ferrooxidans и рядом сходных организмов. Окисление пирита приводит к выбросу в раствор свободной серной кислоты и образованию целого ряда своеобразных минералов из группы сульфидов, прежде всего, ярозита, которые затем разрушаются, оставляя оксиды и гидроксиды железа [19]. Характерной особенностью береговых кислых сульфатных почв является стремительность почвообразовательных процессов в них: переход от темных почв, насыщенных дисперсным пиритом, с восстановительным режимом и щелочной реакцией среды к экстремально кислым почвам с яркими желтыми пятнами ярозита происходит в течение месяцев или даже недель. В литературе принято различать потенциальные кислые сульфатные почвы (Protothionic Tidalic Fluvisols) и актуальные кислые сульфатные почвы (Orthothionic Tidalic Fluvisols), которые коренным образом отличаются друг от друга по свойствам [26]. Быстрое окисление сульфидов с выделением сильной минеральной кислоты приводит к активному гидролизу силикатов, высвобождению и высокой подвижности Al [25]; соответственно, минералогия кислых сульфатных почв определяется соединениями Fe, Al в том числе их сложных сульфатов [18], а также продуктами трансформации слоистых силикатов [23]. Существенно влияние резкого подкисления среды на подвижность макро- и микроэлементов в почвах [28]. При этом надо иметь в виду, что валовое содержание многих микроэлементов в кислых сульфатных почвах выше, чем в фоновых почвах, за счет их аккумуляции при формировании сульфидов, обычно за счет изоморфного замещения железа и серы, в результате поступления большого количества вещества с морскими водами и терригенным стоком [27, 36]. Хотя наиболее ярко повышенная активность многих микроэлементов выражена, и соответственно лучше изучена, в кислом стоке сульфидсодержащих отвалов шахт [21], для береговых кислых сульфатных почв отмечалось повышение активности многих химических элементов, в том числе до токсичных концентраций [24, 28, 37]. Сменяющие друг друга фазы окисления и восстановления приводят к повышению мобильности очень разных по геохимическому поведению элементов [32]. С точки зрения токсичности особого внимания в кислых сульфатных почвах заслуживает As – элемент, который активно накапливается на маршах в результате изоморфного замещения серы в пирите и затем высвобождается при окислении последнего [22]. При этом изменение содержания и подвижности микроэлементов может наблюдаться и при незначительном влиянии окисления пирита на свойства почвы, при котором не происходит значительного увеличения кислотности почв. Хотя общие закономерности поведения основных макро- и микроэлементов в областях распространения кислых сульфатных почв могут быть выведены из общих соображений, ситуация в конкретных регионах и ландшафтах требует экспериментального исследования. На настоящий момент побережья морей северо-запада России остаются практически неисследованными с точки зрения географии и геохимии кислых сульфатных почв. Также с практической точки зрения приморские маршевые луга являются важным источником кормов для скота, как минимум, в маргинальном животноводстве Поморского берега Белого моря, и знание свойств почв, которые могут влиять на состав и урожайность трав, важно для сохранения биопродуктивности маршей.
Цель работы – исследование содержания нескольких микроэлементов в верхних горизонтах почва маршей Поморского берега Белого моря. Рабочая гипотеза заключается в том, что почвы маршей, содержащие сульфиды и продукты их окисления, имеют большее валовое содержание микроэлементов, чем зональные почвы.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объекты исследований. Работы проводили вблизи села Колежма, Беломорский район, Республика Карелия; территория относится к Поморскому берегу Белого моря (рис. 1а), географические координаты 64°14′11″ N, 35°52′27″ E. Климат – умеренно морского северного типа с прохладным летом и мягкой снежной зимой, в год выпадает в среднем 435 мм осадков, среднегодовая температура 1°С (рис 1b). Исследуемый участок представляет собой томболо – перемычку между небольшим, размером около 200 × 300 м, островом Лопский и материком. Томболо обычно характеризуются высокой степенью неоднородности отложений, почв и растительности из-за сложного движения приливных и нагонных волн между островом и сушей. На данном объекте наибольшее распространение имеют почвы, относящиеся к реферативным группам Fluvisols, Gleysols и Stagnosols [26]. Объект исследуется в течение нескольких лет; ранее были охарактеризованы морфология, гранулометрический состав и кислотность почв [2], а также запасы углерода в почве и биомассе [17]. Для почв характерна оглеенность профиля, наличие железистых новообразований, большое количество включений, слоистость с прослоями разного гранулометрического состава. В верхних горизонтах почв гранулометрический состав варьировал в пространстве от опесчаненного легкого суглинка до пылеватого среднего суглинка; только в одной точке почва была песчаной и в одной точке – тяжелосуглинистой [2]. Практически вся площадь ключевого участка затапливается в прилив соленой морской водой, что обусловливает особый амфибиальный водный режим почв. Значения pH верхних почвенных горизонтов находятся в диапазоне от 5.5 до 7.5, что выше, чем в зональных почвах Карелии. Почвы с самыми высокими значениями pH приурочены к наиболее мористым участкам, а также к центральной части томболо, которая находится в понижении рельефа и где образуются так называемые соленые лужи – зоны с наибольшим содержанием солей в почвенном растворе и максимальными значениями рН. Значения pH снижаются на участках у леса на коренном берегу, что связано с поступлением на данные территории кислого пресного стока с лесных болот.
Рис. 1. Географическое положение (а) и климатические характеристики (b) района исследований
Растительный покров на территории зарастающего томболо вблизи села Колежма представлен сообществами как галофитных (Juncus gerardii L., Carex salina Wahlend), так и влаголюбивых видов, способных выдерживать засоление (Calamagrostis neglecta Ehrh., Sonchus arvensis L.). Растительный покров на объекте можно разделить на уровни маршевой растительности. Часть томболо, ежедневно затопляемая в прилив, и на которой в составе растительных сообществ доминируют галофитные виды (Triglochin maritima L., Carex salina Wahlend, Salicornia europaea L., Plantago maritima L., Juncus gerardi L., Glaux maritima L. и др.), относится к маршам низкого уровня. Именно растительностью маршей низкого уровня занята большая часть ключевого участка. В зоне соленых луж произрастают сообщества S. europaea L. – пионерного вида маршей, галофита, способного существовать в условиях наибольшего засоления. Территория, до которой приливная волна доходит только во время сизигийных приливов, и на которой в составе растительных сообществ могут доминировать как галофитные, так и негалофитные виды (Festuca rubra L., Sonchus arvensis L., Carex mackensiei Krecz., Calamagrostis neglecta Ehrh., Leymus arenarius Hochst., Vicia cracca L. и др.), относится к маршам среднего уровня. Марши среднего уровня в большей степени приурочены к участкам у леса, откуда поступает пресная вода с поверхностным стоком, что смягчает воздействие талассогенного фактора. Отдельно стоит выделить сообщества Phragmites australis Cav. (communis (Trin)), которые способны развиваться на маршах всех уровней, однако наилучших параметров роста тростник достигает на наиболее удаленных от моря участках.
Методы исследований. Полевые исследования проводили в летние сезоны 2022 и 2023 гг. На территории томболо было заложено 30 почвенных разрезов, каждый из которых соответствовал явно выраженному растительному сообществу. Для всех профилей проводили морфологическое описание и отбирали образцы для проведения анализов физических и химических свойств почвы по горизонтам. Результаты исследований химических и физических свойств почвы и их пространственное распределение опубликованы ранее [2, 17]. Для определения содержания микроэлементов отбирали образцы из верхних 10 см минеральной части профиля.
Разложение почвы царской водкой, т.е. смесью концентрированных азотной HNO3 (65–68 мас. %) и соляной HCl (32–35 мас. %) кислот, взятых в соотношении 1 : 3 по объему, проводили следующим образом. Помещали 1 г почвы во фторопластовые стаканы, приливали 10 мл свежеприготовленной царской водки, нагревали 3 ч при 95°С на электроплитке при перемешивании. Затем стаканы охлаждали, содержимое количественно переносили в мерные колбы на 100 мл, доводили до метки дистиллированной водой и перемешивали. Отстоявшийся в течение суток раствор осторожно сливали в пробирки автосемплера [8]. При данном виде пробоподготовки из почвы извлекаются почти все тяжелые металлы (до 95%), за исключением прочносвязанных в некоторых устойчивых минералах, поэтому результаты анализа таких вытяжек можно условно считать валовым содержанием. Определение содержания тяжелых металлов и металлоидов в полученных растворах проводили методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на приборе Plasmaquant MS Elite (Analytik Jena, Германия) в соответствии с ГОСТ ISO 22036-20141. Прибор настроен на работу с высокоматричными растворами по наименьшему уровню оксидов (по церию, <1%) и двухзарядных ионов (по барию, <2%). Для устранения полиатомных интерференций использовали встроенную коллизионную ячейку в режиме с водородом (для определения хрома, мышьяка и селена) и в режиме с гелием (для определения всех остальных элементов). Высокую временная стабильность и устойчивость к влиянию матрицы обеспечивали коррекцией результатов по внутренним стандартам в соответствии с [8].
На основании полученных данных для исследованного участка составляли картограммы распределения микроэлементов в программе MapInfo Pro 15.2. методом обратного взвешивания расстояний. Использование более точных методов пространственной интерполяции было ограничено количеством точек пробоотбора.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Пространственное распределение содержания некоторых микроэлементов в почвах представлено на рис. 2. Из большого набора определений выбрали данные по тем элементам, содержание которых связано с окислением сульфидов (Fe, As и Se), с изменяющимися окислительно-восстановительными условиями (Fe, Mn) и со значениями рН почвенного раствора (Ni, Cr и Se).
Рис. 2. Пространственное распространение отдельных микроэлементов на томболо в районе поселка Колежма
При рассмотрении результатов следует учитывать, что северная часть томболо характеризуется меньшим воздействием морских волн, чем южная его часть, отчасти из-за насыпи и дороги, которые проходят вдоль северной части томболо. В южной и центральной части приливные воды застаиваются и формируют соленые озера и лужи [2].
Пространственное распределение As, который является одним из элементов, сопутствующих пириту, показывает преимущественную приуроченность к южной береговой линии, где наблюдались черные иловатые отложения, типичные для литоралей в регионе исследований [14, 15]. В этой зоне содержания As составило до 8.4 ppm против кларка As в почве – 5 ppm [3]. Присутствие сульфидов не было подтверждено тестом на снижение значений рН после обработки перекисью водорода, но стойкий запах сероводорода указывал на присутствие сульфидов в почвах. Аномально высокие значения содержания мышьяка, до 15.3 ppm, были отмечены на границе леса в северной части томболо на границе с лесом, что, очевидно, связано с выносом ручьем As из отложений морских террас. Поскольку по российскому законодательству ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)2 As составляют 5 ppm, можно отметить, что на части территории содержание As повышено и может представлять потенциальную опасность при использовании почв под сенокосы.
Пространственное распределение Fe и Mn. Содержание Fe в почвах велико по сравнению с другими микроэлементами, достигая местами 27 300 ppm, что соответствует валовому содержанию Fe в автоморфных зональных почвах [1]. Пространственное распределение Fe показывает приуроченность максимальных концентраций к южному побережью и центральной части томболо, которая находится в понижении, т.е. соответствует заливаемым почвам, в том числе соленых луж и озер. Теоретически, должен происходить вынос Fe из переувлажненных позиций за счет его восстановления, в реальности наблюдаем обратную картину. Характерно, что распространение Fe не соответствует распределению его обычного спутника по геохимии в почве – Mn, который концентрируется только на южной береговой линии. При этом содержание Mn составляло от 30 до 377 ppm, что практически укладывается в диапазон концентраций, сообщаемых для автоморфных почв региона – от 36 до 1500 ppm [1]. Мы приписываем разное геохимическое поведение Fe и Mn отчасти различной подвижности этих элементов в разных диапазонах рН и Eh, отчасти – связанности Fe с распространением пирита на томболо. Предельно допустимая концентрация Mn составляет 1500 ppm, т.е. на исследованном участке она нигде не превышена.
Пространственное распределение Ni и Cr. Распределение Ni и Cr сходно с пространственным распределением кислотности. Наиболее щелочные значения pH верхних горизонтов отмечались в верхних горизонтах почв, которые подвергаются воздействию морских соленых вод [2]. Это почвы у уреза воды и в центральной части томболо, где морская вода задерживается. Самые низкие значения pH верхнего горизонта наблюдаются в разрезах у коренного берега и у острова Лопский. Оба элемента, Ni и Cr, показали приуроченность к южной и центральной частям томболо, где почвы имеют самые высокие значения рН, несмотря на то что геохимическое поведение этих элементов различно: подвижность Ni возрастает с уменьшением значений рН, тогда как Cr в наиболее распространенной трехвалентной форме выпадает в осадок в кислых условиях. Концентрация Ni варьирует от 3 до более 26 ppm, а Cr – от 2.6 до более 39 ppm. Объяснения для подобного распределения может быть два. С одной стороны, эти ионы могут сорбироваться на глинистых минералах, что приводит к тому, что они в меньшей степени мобилизуются и вымываются из почвы. Однако это не объясняет их пространственного распределения: в целом гранулометрический состав участка относительно однороден, и отсутствует градиент по содержанию илистой фракции по направлению к морю. С другой стороны, возможно, что они также находятся в составе сульфидов, которые накапливаются в часто заливаемых частях томболо. Абсолютные содержания Ni в почвах уступают кларку в почвах (40 ppm) [3], но близки к значениям, сообщаемым для суглинистых почв России в целом (27.6 ppm) и Карелии в частности (4.5–14.4 ppm) [12]. ОДК Ni для суглинистых почв составляет 40 ppm, т.е. на исследованном участке нигде концентрация этого элемента не достигает опасных концентраций. Содержание Cr оказалось существенно ниже кларка для почв в целом (70 ppm) [3], но неплохо согласуется с данными для суглинистых и глинистых почв Карелии – в среднем 27.9–44.0 ppm [1]. Для Cr в Российской Федерации не предусмотрены ПДК и ОДК, но низкие относительно кларка концентрации указывают на то, что содержание этого элемента на исследованном участке не представляет опасности. Таким образом, в целом для почв томболо накопление Ni и Cr не характерно.
Пространственное распределение Se. Se является одним из наиболее рассеянных элементов с кларком в почвах 0.4 ppm. В настоящем случае его концентрации колебались от 0 до более 6.1 ppm: последнее значение является крайне высоким для почв. Ранее сообщалось, что концентрации Se в почвах таежной зоны увеличивались при приближении к морю, в связи с чем делался вывод о том, что Se имеет морское происхождение [27]. Но ситуация более сложная: на фоне высоких концентраций этого элемента в почвах томболо в области соленых луж его содержание резко уменьшается, что, очевидно, связано с высокой подвижностью Se в щелочных условиях. Значения ПДК и ОДК для Se в России не разработаны.
ОБСУЖДЕНИЕ
Источники микроэлементов в маршевых почвах. Почвы маршей таежной зоны являются уникальными, поскольку именно в этих почвах сталкиваются потоки кислых терригенных вод со щелочными, сильноминерализованными морскими водами [20]. Именно в маршевых почвах образуется геохимический барьер, который обеспечивает аккумуляцию различных элементов, растворимость которых регулируется кислотностью и ионной силой раствора. В связи с этим ожидалось, что целый ряд ионов металлов, которые хорошо растворимы в кислой среде, будет выпадать в осадок и накапливаться в приливно-отливной зоне северных маршей. Однако подобной закономерности не было выявлено. Очевидно, это связано с низкой концентрацией таких металлов, как Ni и Cr, в терригенном стоке. Поморский берег Белого моря характеризуется большой растянутостью, т.е. береговая линия оторвана на много десятков километров от коренных пород, богатых микроэлементами. Поверхностный сток с морских глин и песков, и особенно с олиготрофных болот, занимающих обширные пространства на Поморском берегу, беден микроэлементами. Исключением являются Fe, As и Se, которые показывают максимальные концентрации в зоне выклинивания родника на точке Т01К. Однако высокие концентрации этих элементов связаны, скорее, с окислением сульфидов в морских отложениях.
Роль образования и окисления сульфидов. Кислые сульфатные почвы являются одним из самых необычных почвенных объектов с точки зрения их геохимии, минералогии, микробиологии, химических свойств и экологических функций. Их эволюция определяется процессами формирования сульфидов железа в почвообразующей породе и последующем окислением сульфидов с выделением свободной серной кислоты. Большинство кислых сульфатных почв в мире находится на морских берегах: именно на литорали в ходе осадконакопления активно идет процесс формирования сульфидов железа, преимущественно пирита, за счет восстановления серы из морской воды и Fe, поступающего с терригенным стоком. В приливно-отливной зоне и на обширных побережьях в стадии регрессии морей происходит окисление сульфидов, что приводит к резкому подкислению почвенной среды и к формированию ряда минералов группы сульфатов, прежде всего, ярозита. Хотя максимальное распространение береговые кислые сульфатные почвы имеют в тропических областях, на севере Европы также обнаружены сульфидсодержащие береговые отложения, на которых при их экспозиции на поверхность формируются кислые сульфатные почвы. Значительная их часть связана с отложениями Литориновой трансгрессии, однако имеются указания и на то, что процессы современного накопления сульфидов также достаточно активны.
Исследованные почвы вряд ли можно отнести к категории кислых сульфатных почв, поскольку они не показывают ни экстремально низких значений рН, ни существенного изменения рН при обработке перекисью водорода. Однако ряд признаков, например, устойчивый запах сероводорода, присутствие черных илистых осадков и, местами, снижение значений рН в почвах указывают на наличие дисперсных сульфидов железа в осадках и почвах. Наличие продуктов сульфатредукции не меняет общей геохимической картины в ландшафте, однако даже при малых концентрациях сульфидом может существенно корректировать распределение микроэлементов в почвах. Например, существенно возрастает в маршевых почвах концентрация элементов, замещающих серу в сульфидах, таких как As и Se. Вместе с ними растет и концентрация Fe – элемента, обычного в почвах автоморфных таежных ландшафтах, однако обычно дефицитного в гидроморфных почвах. Таким образом, можно говорить о заметной роли сульфидов железа в аккумуляции As, Fe и Se в маршевых почвах.
Особенности пространственного распределения микроэлементов на томболо. Обычно исследования на берегах проводятся на относительно простых геомофрологических элементах берегов [11, 15]; в некоторых работах показано, как различаются маршевые почвы открытых участков и заливов [8, 36], в том числе с точки зрения формирования сульфидов в береговых отложениях [34]. Простые томболо с этой точки зрения также не вызывают большого интереса, поскольку представляют собой всего лишь песчано-гравийные косы, сформировавшиеся из-за дифракции волн между островом и материковой частью. Однако в ряде случаев образуются сложные, двойные и тройные томболо, где между грубыми наносами формируются озерца, лужи, в которых накапливается тонкодисперсный материал, и тогда томболо превращается в мозаику отложений со специфическими почвами и растительностью. Собственно, объект исследований представлял собой именно сложное томболо [2]. В пределах изученного томболо между материком и островом Лопский выделяются разные зоны, отличающиеся по геохимической обстановке. Условно можно выделить узкую северную приливно-отливную полосу, зону контакта с терригенным стоком, южную приливно-отливную зону и область застоя морской воды (соленые озерца и лужи) в центральной части томболо. Северная приливно-отливная зона характеризуется пониженным содержанием всех исследованных элементов, кроме Se. Зона контакта с терригенным стоком показывает некоторое повышение концентраций Se, местами Fe и As. Южная приливно-отливная зона характеризуется повышенным содержанием практически всех элементов. Наконец, центральная область содержит повышенные концентрации Ni, Cr и, отчасти, Fe. Таким образом, особенности амфибиального водного режима и варьирование в гранулометрическом составе отложений определяют перераспределение микроэлементов в почвах томболо.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование показало, что для изученных почв маршей Поморского берега Белого моря характерно повышенное содержание таких микроэлементов, как As и Se, которые обычно ассоциируют с наличием сульфидов металлов в морских отложениях. Отмечено высокое содержание Fe и Mn, что в целом типично для таежных ландшафтов. При этом в почвах побережий геохимическая судьба Fe и Mn расходится, вероятно, отчасти за счет участия Fe в последовательном окислении сульфидов в сульфаты. Такие микроэлементы, как Ni и Cr присутствуют в почвах в концентрациях, сравнимых с фоновыми в почвах региона.
Из всех изученных элементов потенциальную опасность с точки зрения поступления в трофические цепи при использовании почв в сельском хозяйстве, например, под сенокосы, могут представлять As и Se, аккумуляция которых связана с формированием и окислением сульфидов. На части исследованной территории содержание As превышает установленные ОДК, а содержание Se, при отсутствии официальных нормативов, многократно превышает фоновые концентрации, что может оказывать негативное воздействие на качество продукции.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа проведена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда “Накопление и окисление сульфидов в маршевых почвах побережий Белого и Балтийского морей”, № 22-27-00420.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
В данной работе отсутствуют исследования человека или животных.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии у них конфликта интересов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Онлайн-версия содержит дополнительные материалы, доступные по адресу https://doi.org/10.31857/S0032180X24080032.
1 ГОСТ ISO 22036-2014. Межгосударственный стандарт качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС) Soil quality. Determination of trace elements in extracts of soil by inductively coupled plasma – atomic emission spectrometry (ICP-AES) МКС 13.080.10 Дата введения 2015-07-01.
2 ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2042-06 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии, 2006.
Об авторах
И. Е. Багдасаров
МГУ им. М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: krasilnikov@soil.msu.ru
Россия, Москва
М. В. Конюшкова
МГУ им. М.В. Ломоносова
Email: krasilnikov@soil.msu.ru
Россия, Москва
Ю. А. Крюкова
МГУ им. М.В. Ломоносова
Email: krasilnikov@soil.msu.ru
Россия, Москва
Д. В. Ладонин
МГУ им. М.В. Ломоносова
Email: krasilnikov@soil.msu.ru
Россия, Москва
М. А. Цейц
МГУ им. М.В. Ломоносова
Email: krasilnikov@soil.msu.ru
Россия, Москва
П. В. Красильников
МГУ им. М.В. Ломоносова
Email: krasilnikov@soil.msu.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Ахметова Г.В. Географические особенности распределения микроэлементов в почвах среднетаежной подзоны Республики Карелия // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 10-4. С. 572–576.
- Багдасаров И.Е., Цейц М.А., Крюкова Ю.А., Таскина К.Б., Конюшкова М.В. Сравнительная характеристика почвенного и растительного покрова томболо побережий Белого и Балтийского морей // Вестник Моск. ун-та. Сер. 17, почвоведение. 2023. № 1. C. 3–15. https://doi.org/10.55959/MSU0137-0944-17-2023-78-1-3-15
- Виноградов Б.В., Орлов В.П., Снакин В.В. Биотические критерии выделения зон экологического бедствия России // Изв. РАН. Сер. географическая. 1993. № 5. С. 13–27.
- Губин С.В., Лупачев А.В. Подходы к классификации почв аккумулятивных берегов морей восточного сектора Российской Арктики // Почвоведение. 2022. № 1. С. 25–32. https://doi.org/10.31857/S0032180X22010051
- Губин С.В., Лупачев А.В., Ходжаева А.К. Почвы аккумулятивных берегов Восточно-Сибирского моря // Почвоведение. 2022. № 9. С. 1073–1085. https://doi.org/10.31857/S0032180X22090076
- Костенкова А.Ф. Маршевые почвы юга Приморья и особенности их солевого состава // Почвоведение. 1979. № 2. C. 22–29.
- Красильников П.В., Шоба С.А. Сульфатнокислые почвы Восточной Фенноскандии. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 1997. 160 с.
- Кузнецова А.М. Эволюция морских отложений в маршевые почвы на различных типах берегов // Вестник Моск. ун-та. Сер. 17, почвоведение. 1999. № 2. С. 20–27.
- Ладонин Д.В., Пляскина О.В., Кучкин А.В., Коваль Е.В. Методика выполнения измерений массовой доли элементов в твердых минеральных объектах методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на масс-спектрометре Agilent ICP-MS 7500. М., 2009. 56 с.
- Орешникова Н.В., Красильников П.В., Шоба С.А. Маршевые почвы Карельского берега Белого моря // Вестник Моск. ун-та. Сер. 17, почвоведение. 2012. № 4. С. 13–20.
- Сидорова В.А., Святова Е.Н., Цейц М.А. Пространственное варьирование свойств маршевых почв и их влияние на растительность (Кандалакшский залив) // Почвоведение. 2015. № 3. С. 259–267. https://doi.org/10.7868/S0032180X15030119
- Федорец Н.Г., Бахмет О.Н., Медведева М.В., Ахметова Г.В., Новиков С.Г., Ткаченко Ю.Н., Солодовников А.Н. Тяжелые металлы в почвах Карелии. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. 222 с.
- Цейц М.А., Добрынин Д.В. Морфогенетическая диагностика и систематика маршевых почв Карельского Беломорья // Почвоведение. 1997. № 4. С. 411–416.
- Цейц М.А., Добрынин Д.В., Белозерова Е.А. Структурная организация почвенного и растительного покрова маршей Поморского берега Белого моря // Экологические функции почв Восточной Фенноскандии. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2000. С. 95–107.
- Шамрикова Е.В., Денева С.В., Панюков А.Н., Кубик О.С. Свойства почв и характер растительности побережья Хайпудырской губы Баренцева моря // Почвоведение. 2018. № 4. С. 402–412. https://doi.org/10.7868/S0032180X18040020
- Шляхов С.А., Костенков Н.М. Почвы Тихоокеанского побережья России, их классификация, оценка и использование. Владивосток: Дальнаука, 2000. 177 с.
- Bagdasarov I., Tseits M., Kryukova I., Taskina K., Bobrik A., Ilichev I., Cheng J., Xu L., Krasilnikov P. Carbon stock in coastal ecosystems of tombolos of the white and baltic seas // Land. 2024. V. 13. № 1. P. 49.
- Bouza P.J., Ríos I., Idaszkin Y.L., Bortolus A. Patagonian salt marsh soils and oxidizable pedogenic pyrite: solid phases controlling aluminum and iron contents in acidic soil solutions // Environmental Earth Sci. 2019. V. 78. № 1. P. 1–14. https://doi.org/10.1007/s12665-018-7991-4
- van Breemen N. Soil forming processes in acid sulphate soils // Acid sulphate soils. 1973.V. 1. P. 66–130.
- Demas G.P., Rabenhorst M.C. Factors of subaqueous soil formation: a system of quantitative pedology for submerged environments // Geoderma. 2001. V. 102. № 2. P. 189–204. https://doi.org/10.1016/S0016-7061(00)00111-7
- Douglas G., Adeney J., Johnston K., Wendling L., Coleman S. Major element, trace element, nutrient, and radionuclide mobility in a mining by-product-amended soil // J. Environ. Quality. 2012. V. 41. № 6. P. 1818–1834. https://doi.org/10.2134/jeq2012.0139
- Dudas M.J., Warren C.J., Spiers G.A. Chemistry of arsenic in acid sulphate soils of northern Alberta // Comm. Soil Sci. Plant Analysis. 1988. V. 19. № 7-12. P. 887–895. https://doi.org/10.1080/00103628809367982
- Fanning D.S., Rabenhorst M.C., Balduff D.M., Wagner D.P., Orr R.S., Zurheide P.K. An acid sulfate perspective on landscape/seascape soil mineralogy in the U.S. Mid-Atlantic region // Geoderma. 2010. V. 154. № 3-4. P. 457–464. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.04.015
- Ghosh S., Bakshi M., Mitra S., Mahanty S., Ram S.S., Banerjee S., Chakraborty A., Sudarshan M., Bhattacharyya S., Chaudhuri P. Elemental geochemistry in acid sulphate soils – A case study from reclaimed islands of Indian Sundarban // Marine Poll. Bull. 2019. V. 138. P. 501–510. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.11.057
- Houben G.J., Kaufhold S., Dietel J., Röhm H., Gröger-Trampe J., Sander J. Investigation of the source of acidification in an aquifer in Northern Germany // Envir. Earth Sci. 2019. V. 78. № 3. P. 73. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8096-4
- IUSS Working Group WRB. World reference base for soil resources 2014, update 2015: International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. FAO, Rome, 2015.
- Låg J., Steinnes E. Regional distribution of selenium and arsenic in humus layers of Norwegian forest soils // Geoderma. 1978. V. 20. № 1. P. 3–14. https://doi.org/10.1016/0016-7061(78)90045-9
- Morgan B., Rate A.W., Burton E.D. Trace element reactivity in FeS-rich estuarine sediments: Influence of formation environment and acid sulfate soil drainage // Sci. Total Envir. 2012. V. 438. P. 463–476. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.08.088
- Pan Y., Bonten L.T.C., Koopmans G.F., Song J., Luo Y., Temminghoff E.J.M., Comans R.N.J. Solubility of trace metals in two contaminated paddy soils exposed to alternating flooding and drainage // Geoderma, 2016. V. 261. P. 59–69. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.07.011
- Pons L.J. Outline of genesis, characteristics, classification and improvement of acid sulphate soils // Acid sulphate soils. 1973. Vol. 1. P. 3–65.
- Ranwell D.S. Ecology of salt marshes and sand dunes. London: Chapman & Hall, 1972. 258 p.
- Ríos I., Bouza P.J., Bortolus A., Alvarez M.D.P. Soil-geomorphology relationships and landscape evolution in a southwestern Atlantic tidal salt marsh in Patagonia, Argentina // J. South Amer. Earth Sci. 2018. V. 84. P. 385–398. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2018.04.015
- Shaheen S.M., Rinklebe J., Frohne T., White J.R., DeLaune R.D. Redox effects on release kinetics of arsenic, cadmium, cobalt, and vanadium in Wax Lake Deltaic freshwater marsh soils // Chemosphere. 2016. V. 150. P. 740–748. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.12.043
- Siira J. Studies in the ecology of the sea-shore meadows of the Bothnian Bay with special reference to the Liminka area // Aquilo. Ser. Botanica. 1970. V. 9. P. 1–100.
- Tseits M.A., Dobrynin D.V. Classification of marsh soils in Russia // Eurasian Soil Sci. 2005. V. 38. P. 44–48.
- Tseits M.A., Marechek M.S. The formation of soil cover patterns on tidal marshes of the Arctic of Russia // Moscow University Soil Sci. Bull. 2021. V. 76. № 5. P. 273–282.
- Virtasalo J.J., Österholm P., Kotilainen A.T., Åström M.E. Enrichment of trace metals from acid sulfate soils in sediments of the Kvarken Archipelago, eastern Gulf of Bothnia, Baltic Sea // Biogeosciences. 2020. V. 17. № 23. P. 6097–6113. https://doi.org/10.5194/bg-17-6097-2020
- Vithana C.L., Ulapane P.A.K., Chandrajith R., Sullivan L.A., Bundschuh J., Toppler N., Ward N.J., Senaratne A. Acid sulfate soils on the west coast of Sri Lanka: A review // Geoderma Regional. 2021. V. 25. P. e00382. https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2021.e00382
Дополнительные файлы