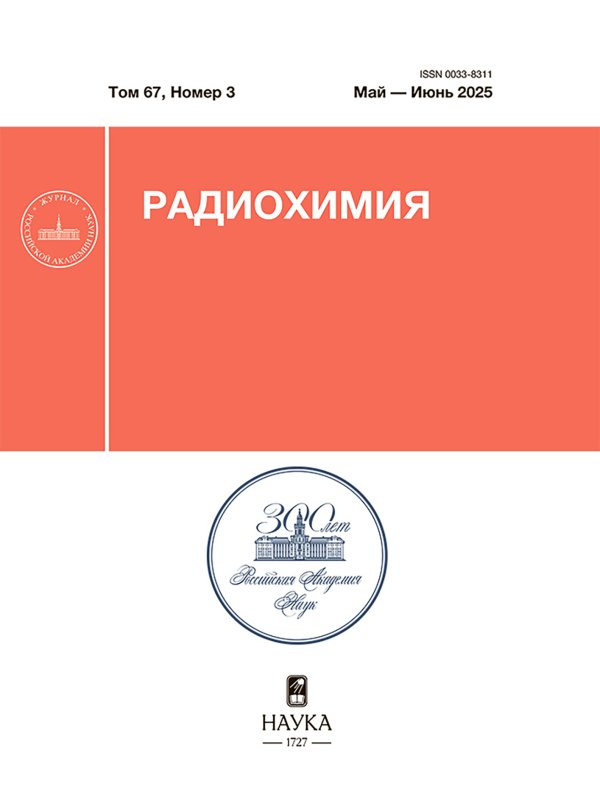Nanodiamonds as lutetium-177 carriers for nuclear medicine
- Authors: Kazakov A.G.1, Babenya J.S.1, Ekatova T.Y.1, Vinokurov S.E.1, Khvorostinin E.Y.1, Ushakov I.A.2, Zukau V.V.2, Stasyuk E.S.2, Nesterov E.A.2, Sadkin V.L.2, Rogov A.S.2, Myasoedov B.F.1,3
-
Affiliations:
- Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences
- National Research Tomsk Polytechnic University
- Interdepartmental Center for Analytical Research in Physics, Chemistry and Biology, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 66, No 2 (2024)
- Pages: 171-177
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0033-8311/article/view/263862
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033831124020088
- ID: 263862
Cite item
Full Text
Abstract
The work investigated the sorption of carrier-free 177Lu isolated from neutron-irradiated 176Yb2O3, and with a carrier obtained by irradiation of natLu2O3, by commercial and oxidized nanodiamonds (NDs) of various brands from aqueous solutions to identify among them a promising carrier for further research for the purposes of nuclear medicine. A promising sorbent was found: oxidized NDs of the STP brand (ox-STP); conditions for the rapid sorption of lutetium by it in an amount equivalent to 1.2 GBq of carrier-free 177Lu were determined, which corresponds to the activity used in therapy.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Используемые в ядерной медицине радиофармпрепараты (РФЛП) в настоящее время имеют в своем составе хелатор, прочно связывающий короткоживущий изотоп, и биологический вектор, обеспечивающий адресную доставку к пораженным органам и тканям. В то же время для адресной доставки изотопов все больше исследуются наноразмерные носители, применение которых не требует присутствия ни хелатора, ни вектора [1]. При использовании наночастиц в качестве носителя радионуклидов эффективность терапии или диагностики обеспечивается EPR-эффектом (Enhanced Permeability and Retention), заключающимся в том, что в отличие от здоровых тканей сосудистая сеть опухоли пропускает и затем удерживает в пораженной области только наночастицы или их агрегаты размером от 100 до 600 нм [2].
Наночастицы подразделяются на органические (липосомы, ферритин, дендримеры и др.), неорганические (металлы и их оксиды) и углеродные (углеродные нанотрубки, оксид графена, наноалмазы, фуллерены и др.) [3], при этом многие исследования показали, что последние можно использовать для доставки лекарственных веществ [4, 5]. В то же время количество работ, в которых углеродные наноматериалы используют в качестве носителей медицинских радионуклидов, ограничено [6–10]. Нами ранее показано, что углеродные наноматериалы сорбируют и прочно удерживают в модельных биологических средах широкий спектр изотопов медицинского назначения [11–14], прежде всего трехвалентных, что может быть использовано для разработки РФЛП на их основе. Установлено, что среди изученных нами углеродных наноматериалов наиболее перспективными носителями данных изотопов являются наноалмазы (НА), а также их окисленные формы [15–18]. Показано, что основным механизмом сорбции является взаимодействие катионных форм радионуклидов в растворе с анионами карбоксильных групп, при этом установлено, что окисление НА приводит к образованию большего количества карбоксильных групп на поверхности, а также к удалению с нее неорганических примесей, что повышает степень сорбции радионуклидов из растворов и устойчивость конъюгатов к десорбции.
Развитие данного направления включает два этапа исследований. Во-первых, необходимо получить устойчивый в биологических средах конъюгат НА с изотопами медицинского назначения, содержащий их в количестве, достаточном для диагностики или терапии. Во-вторых, при разработке прототипов РФЛП на основе наночастиц важно получить конъюгаты с агрегатами определенного размера, поскольку именно размер влияет на дальнейшее биораспределение и эффективность терапии или диагностики [19].
В настоящей работе исследовали сорбцию широко используемого в медицине изотопа 177Lu (T1/2 6.34 сут) [20] без носителя и с носителем, в том числе в количестве, соответствующем используемым в терапии, НА двух коммерческих марок с целью оценки перспективности их использования в дальнейших экспериментах по разработке РФЛП.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Физико-химические свойства изучаемых НА
В работе использовали хорошо изученные ранее, в том числе и нами, коммерческие образцы НА производства СКТБ «Технолог» (Санкт-Петербург, Россия) марок UDA-TAN и DND-STP [21–25] (далее TAN и STP соответственно), отличающиеся количеством различных функциональных групп на поверхности и, как следствие, размерами агрегатов в суспензиях и их ζ-потенциалом. Также проводили окисление TAN и STP в смеси кислот (ок-TAN и ок-STP соответственно), для этого навески НА выдерживали в смеси концентрированных кислот HNO3/H2SO4 в соотношении 1 : 3 по объему при 120°С в течение 24 ч. Все перечисленные образцы охарактеризованы в наших ранних работах [11–14], а также в работах других авторов, и ниже мы приводим только наиболее важные для данной работы свойства. Так, размеры первичных частиц НА составляют 4–6 нм, а в водных растворах происходит их агрегация до размеров от десятков нм до единиц мкм. Удельная поверхность сухих порошков всех изучаемых НА мало отличается и составляет 215–250 м2/г. Химический состав поверхности НА, согласно данным ИК спектрометрии, типичен для НА детонационного синтеза и одинаковый на качественном уровне, но интенсивность пиков отличается, что означает различия в количестве функциональных групп. При этом провести точное отнесение пиков к конкретным группам невозможно ввиду наложения пиков. Количество карбоксильных групп на поверхности (участвующих в сорбции радионуклидов из растворов), согласно кислотно-основному титрованию, у коммерческих НА составляет около 300–400 мкмоль/г, а при окислении, как правило, возрастает в 2–3 раза. Содержание металлических примесей на поверхности в коммерческих образцах, по данным ИСП-МС, мало и составляет не более 1.4 мг/г, а при окислении снижается минимум на два порядка.
Получение 177Lu без носителя и с носителем
В работе исследовали сорбцию 177Lu без носителя (далее 177Lu-бн), выделенного из облученного нейтронами 176Yb2O3, а также сорбцию 177Lu с носителем (далее 177Lu-сн), полученным при облучении natLu2O3.
176Yb2O3 получен от ФГУП Комбинат «Электрохимприбор» (Лесной, Россия), содержание 176Yb составляло 99.6% массы металлов; основной примесью был 174Yb с содержанием 0.3%. Мишень массой 13 мг, запаянную в кварцевую ампулу, облучали потоком тепловых нейтронов 2.2 × 1014 н/(см2·с) в реакторе ИРТ-Т Томского политехнического института в течение 99 ч. При этом из 176Yb нарабатывался 177Yb (T1/2 = 1.9 ч), распадающийся в 177Lu, а из 174Yb – гамма-излучающий изотоп 175Yb (T1/2 = 4.19 сут). Кварцевую ампулу вскрывали после выдержки в течении 2.5 сут, после чего содержимое ампулы растворяли в 2 мл 6 М HCl. Затем кислоту выпаривали и осадок растворяли в 10–4 М HCl. Наработанную активность 177Lu и 175Yb определяли с использованием гамма-спектрометра с детектором из высокочистого германия Canberra GC2018 (Canberra Ind., США). Активности радионуклидов, рассчитанные по линиям 208.4 (177Lu) и 396.3 кэВ (175Yb), составили 5.3 ГБк и 0.8 МБк соответственно в пересчете на всю мишень, а удельная активность 177Lu составила 3.2 ТБк/мг. Полученный при растворении мишени раствор пропускали через колонку Dowex 50WX8 (NH4+-форма, 200–400 меш, высота 25 см, диаметр 1.5 см), элюируя затем через нее раствор 0.125 М α-гидроксиизомаслянной кислоты (α-HIBA, «Вектон», Москва, Россия). Фракции элюата по 5 мл собирали, регистрируя гамма-спектры их аликвот; полученные кривые элюирования приведены на рис. 1. Фракции 177Lu-бн затем концентрировали на колонке Dowex 50WX8 (H+-форма, 200–400 меш, высота 3 см, диаметр 0.8 см) с последующим элюированием 177Lu-бн раствором 6 М HCl, который затем выпаривали и растворяли в 0.04 М HCl, получив раствор, содержащий 177Lu-бн с объемной активностью 5.2 ГБк/мл.
Рис. 1. Кривая элюирования 177Lu-бн без носителя и Yb раствором α-HIBA на колонке Dowex 50WX8.
177Lu-сн получали при облучении 8.5 мг natLu2O3 (ООО «Ланхит», Москва, Россия, чистота 99.999%) в открытой кварцевой ампуле потоком тепловых нейтронов 3.7 × 1013 н/(см2·с) в течение 24 ч. При этом из 176Lu нарабатывались 177Lu и 177mLu (T1/2 = 160.4 сут). После выдержки в течение 5 сут содержимое ампулы растворяли в 1 мл 6 М HCl; кислоту затем выпаривали и осадок растворяли в 0.04 M HCl, получив раствор, содержащий 177Lu-сн с активностью 1.3 ГБк.
Сорбция 177Lu-бн и 177Lu-сн изучаемыми НА
Сорбцию 177Lu-бн и 177Lu-сн образцами НА изучали из бидистиллированной воды с рН 5.6 и растворов HCl с рН от 1.6 до 5, а также фосфатно-солевого буфера (ФБ, концентрация фосфатов 0.01 М, содержит также 0.137 М NaCl и 0.0027 М KCl; pH 7.1), который является изотоническим и пригоднен для введения в кровь. Суспензию НА готовили путем добавления к навеске сухих НА бидистиллированной воды и дальнейшего перемешивания в течение 30 с ультразвуковым диспергатором МЭФ93.Т (Мэлфиз-ультразвук, Москва, Россия), получая суспензию с содержанием НА 1 г/л. Сразу после этого суспензию НА использовали для изучения сорбции 177Lu. Аликвоту суспензии добавляли к раствору заданной среды, после чего вносили аликвоту раствора, содержащего 177Lu. Объем раствора при сорбции составлял 1 мл, содержание НА – 100 мкг/мл. Контакт фаз достигался путем постоянного перемешивания на термошейкере при 1100 об/мин; фазы после контакта разделяли центрифугированием при 18 000 g в течение 10 мин, отбирали аликвоту и регистрировали ее гамма-спектр. Исследование сорбции 177Lu в зависимости от отношения массы сорбента к объему раствора (m/V) проводили аналогичным образом, отбирая аликвоты свежеприготовленных суспензий НА с содержанием наночастиц от 0.5 до 10 г/л.
Устойчивость 177Lu-бн и 177Lu-сн, сорбированных на НА, исследовали путем определения степени десорбции в ФБ, который в том числе является модельной биологической средой, имитирующей солевой фон крови человека. Для этого содержимое пробирки после центрифугирования и отбора аликвоты взмучивали, добавляли ФБ, перемешивали, центрифугировали и снова регистрировали гамма-спектр аликвоты.
В экспериментах по исследованию сорбции 177Lu-бн масса последнего в каждом образце не превышала 5 × 10–11 г (2.5 × 10–9 М), а при изучении сорбции 177Lu-сн масса составляла 20 или 300 нг на образец (1.1 × 10–7 и 1.7 × 10–6 М соответственно), что по массе соответствует 177Lu-бн с активностью 80 МБк и 1.2 ГБк (здесь и далее приведены расчеты для 177Lu-бн c максимальной удельной активностью 4.2 ТБк/мг).
Все эксперименты проводили при 25°С.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сорбция 177Lu-бн и 177Lu-сн наноалмазами TAN и ок-TAN
Нами изучена сорбция 177Lu-бн наноалмазами TAN и ок-TAN из воды, растворов HCl с рН 3 и 4 и из ФБ в течение 5, 30 и 60 мин; данные представлены на рис. 2, а, б (здесь и далее на рисунках указано время контакта фаз до центрифугирования). Установлено, что в каждом случае сорбционное равновесие достигалось в первые минуты контакта сорбента с раствором, что характерно для сорбции многих изученных ранее трехвалентных радионуклидов использованными НА [21]. Максимальная сорбция для обоих НА наблюдалась в воде и составила 85–90%, в то время как при рН 4 и в ФБ сорбция была ниже и составила около 70%. Наконец, при рН 3 сорбция составила около 50% для TAN и около 60% для ок-TAN.
Рис. 2. Сорбция 177Lu-бн образцами TAN (a) и ок-TAN (б), 100 мкг/мл
Для изучения влияния m/V на степень сорбции 177Lu-бн исследовали сорбцию при рН 5.6 в течение 5 мин при содержании НА от 50 до 500 мкг/мл, данные приведены на рис. 3. Установлено, что в изученном диапазоне значения сорбции не изменялись.
Рис. 3. Сорбция 177Lu-бн TAN и ок-TAN при рН 5.6 в течение 5 мин в зависимости от отношения m/V.
Поскольку при изучении сорбции 177Lu-бн установлено, что степень сорбции 177Lu-бн образцами TAN и ок-TAN в изученных условиях отличается несущественно (рис. 2, 3), изучали сорбцию 177Lu-сн только образцом TAN; результаты представлены на рис. 4. Установлено, что сорбция 177Lu-сн в первый час контакта сорбента с раствором ниже, чем сорбция 177Lu-бн, и не превышает 35% при рН 5–5.6 за 1 ч, а в остальных средах не превышает 10% за это же время. В то же время при 15 ч контакта сорбция в каждом случае постепенно возрастает и составляет не более 45–55% при рН 5–5.6 и около 35–45% в остальных изученных средах. Таким образом, при изучении сорбции 20 нг 177Lu-сн показано, что сорбция существенно замедляется, а степень сорбции уменьшается, в сравнении с поведением 177Lu-бн. В то же время 20 нг 177Lu-сн соответствуют 80 МБк 177Lu-бн, что по активности примерно в 15 раз меньше, чем используется для терапии [26]. Вероятно, при увеличении массы лютеция в эксперименте до 300 нг (эквивалент 1.2 ГБк 177Lu-бн) скорость и степень сорбции будут еще меньше, поэтому можно заключить, что TAN и ок-TAN не являются перспективными сорбентами для 177Lu.
Рис. 4. Сорбция 177Lu-сн (20 нг) образцом TAN, 100 мкг/мл.
Сорбция 177Lu наноалмазами STP и ок-STP. Устойчивость полученных конъюгатов
На примере TAN нами показано, что присутствие носителя может существенно влиять на скорость и степень сорбции 177Lu, поэтому для образцов STP и ок-STP исследовали только сорбцию 177Lu-сн; данные приведены на рис. 5. Установлено, что, как и в случае с TAN, в первые минуты контакта раствора с сорбентом достигаются значения сорбции, которые сохраняются в течение часа, но после 15 ч контакта степень сорбции возрастает (рис. 5). Так, STP сорбируют 90% 177Lu-сн при рН 5–5.6 уже за 5 мин, а ок-STP сорбируют его количественно за это время, при этом степень сорбции обоими образцами за 15 ч не изменяется. При рН 4 STP сорбируют около 45% 177Lu-сн за 1 ч, а за 15 ч сорбция возрастает до 70%, в то время как ок-STP уже в первые минуты сорбирует 80% 177Lu-сн, а за 15 ч сорбция незначительно возрастает до 85%. При рН от 1.6 до 3 степень сорбции обоими образцами НА не превышает 20% в первый час, но за 15 ч возрастает до 35% в случае STP и до 35–50% в случае ок-STP.
Рис. 5. Сорбция 177Lu-сн (20 нг) образцами STP (a) и ок-STP (б), 100 мкг/мл.
Таким образом, показано, что окисление STP существенно влияет на сорбцию ими 177Lu, так как во всех изученных средах ок-STP сорбируют быстрее и степень сорбции при одних и тех же условиях на ок-STP выше, чем на STP.
Исследована зависимость степени сорбции 177Lu-сн от отношения m/V при содержании STP и ок-STP от 50 до 500 мкг/мл из воды в течение 30 мин, данные представлены на рис. 6. Из данных рис. 6 видно, что в случае сорбции 177Lu-сн в изученном диапазоне содержание сорбента оказывает влияние на сорбцию. Так, сорбция для STP при 50 мкг/мл составляет около 80% и при 100 мкг/мл возрастает до 90%, тогда как при дальнейшем увеличении содержания до 250 и 500 мкг/мл возрастает до 95%. В случае ок-STP сорбция 177Lu-сн при 50 мкг/мл составляет 90%, а при 100 мкг/мл и более становится количественной.
Рис. 6. Сорбция 177Lu-сн (20 нг) образацми STP и ок-STP при рН 5.6 в течение 30 мин в зависимости от отношения m/V.
Таким образом, среди изученных НА ок-STP является наиболее перспективным для дальнейших исследований, в том числе in vivo. С учетом того, что 20 нг 177Lu-сн эквивалентны 177Lu-бн с активностью 80 МБк, достаточной для проведения in vivo исследований, для экспериментов с лабораторными животными достаточно использовать не более 100 мкг НА на одну инъекцию.
Для определения количества носителя, необходимого для сорбции 1.2 ГБк 177Lu-бн, изучали сорбцию 300 нг 177Lu-сн в зависимости от отношения m/V при рН 5.6 за 30 мин и 15 ч; данные представлены на рис. 7. Из этих данных видно, что сорбция не зависит от выбранного времени, а следовательно, сорбционное равновесие достигается в пределах 30 мин. Установлено, что минимальное содержание ок-STP для количественной сорбции 300 нг Lu-сн составляет 500 мкг/мл.
Рис. 7. Сорбция 177Lu-сн (300 нг) ок-STP при рН 5.6 в зависимости от отношения m/V.
Также нами изучена устойчивость сорбированного на ок-STP 177Lu с носителем в ФБ в течение 5 мин, 1 и 15 ч, при этом установлено, что десорбция в каждом случае не превышает 4%. Таким образом, ок-STP является оптимальным носителем 177Lu из изученных, так как быстро и количественно сорбирует 177Lu-сн в количестве, эквивалентном 177Lu-бн с активностью 1.2 ГБк, при этом конъюгат устойчив в изотоническом растворе, пригодном к введению в кровь.
Таким образом, нами изучена зависимость сорбции 177Lu-сн и 177Lu-бн различными коммерческими и окисленными НА от рН, отношения m/V и количества носителя, при этом установлено, что все перечисленные факторы оказывают существенное влияние на сорбцию. Показано, что при небольших отличиях физико-химических свойств коммерческих и окисленных НА сорбция ими 177Lu может как быть одинаковой (в случае TAN и ок-ТАN), так и отличаться (в случае STP и ок-STP). Установлено, что лучшим сорбентом из изученных НА является ок-STP, а оптимальной средой являются растворы с рН 5.0–5.6, при этом количественная сорбция 177Lu-сн и 177Lu-бн наблюдается в первые 30 мин контакта. Установлено, что для сорбции 1.2 ГБк 177Lu-бн достаточно 500 мкг ок-STP, при этом сорбированный на ок-STP 177Lu-бн устойчив в изотоническом растворе в течение 15 ч. В то же время для сорбции 80 МБк 177Lu-бн, что достаточно для in vivo экспериментов, достаточно использовать 100 мкг ок-STP. Таким образом, по сорбционным свойствам ок-STP является наиболее перспективным НА из изученных для дальнейших экспериментов, в первую очередь направленных на разработку конъюгатов НА с 177Lu с оптимальными размерами агрегатов в растворе, что планируется нами к изучению в дальнейшем.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-13-00449. https://rscf.ru/project/21-13-00449/
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
A. G. Kazakov
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Moscow
J. S. Babenya
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Moscow
T. Y. Ekatova
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Moscow
S. E. Vinokurov
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Moscow
E. Y. Khvorostinin
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Moscow
I. A. Ushakov
National Research Tomsk Polytechnic University
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Tomsk
V. V. Zukau
National Research Tomsk Polytechnic University
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Tomsk
E. S. Stasyuk
National Research Tomsk Polytechnic University
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Tomsk
E. A. Nesterov
National Research Tomsk Polytechnic University
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Tomsk
V. L. Sadkin
National Research Tomsk Polytechnic University
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Tomsk
A. S. Rogov
National Research Tomsk Polytechnic University
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Tomsk
B. F. Myasoedov
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences; Interdepartmental Center for Analytical Research in Physics, Chemistry and Biology, Russian Academy of Sciences
Email: adeptak92@mail.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
References
- Phua V.J.X., Yang C.-T., Xia B., Yan S.X., Liu J., Aw S.E. et al. // Nanomaterials. 2022. Vol. 12. N 4. Article 582.
- Islam W., Niidome T., Sawa T. // JPM. 2022. Vol. 12. N 12. Article 1964.
- Abd Elkodous M., El-Sayyad G.S., Abdelrahman I.Y., El-Bastawisy H.S., Mohamed A.E., Mosallam F.M. et al. // Colloids Surf. B: Biointerfaces. 2019. Vol. 180. P. 411–428.
- Lisik K., Krokosz A. // Int. J. Mol. Sci. 2021. Vol. 22. N 15. Article 8341.
- Bayda S., Hadla M., Palazzolo S., Kumar V., Caligiuri I., Ambrosi E. et al. // J. Controlled Release. 2017. Vol. 248. P. 144–152.
- Jeon J. // Int. J. Mol. Sci. 2019. Vol. 20. N 9. Article 2323.
- Matson M.L., Villa C.H., Ananta J.S., Law J.J., Scheinberg D.A., Wilson L.J. // J. Nucl. Med. 2015. Vol. 56. N 6. P. 897–900.
- Mulvey J.J., Villa C.H., McDevitt M.R., Escorcia F.E., Casey E., Scheinberg D.A. // Nature Nanotech. 2013. Vol. 8. N 10. P. 763–771.
- Chen L., Zhong X., Yi X., Huang M., Ning P., Liu T. et al. // Biomaterials. 2015. Vol. 66. P. 21–28.
- Peltek O.O., Muslimov A.R., Zyuzin M.V., Timin A.S. // J. Nanobiotechnol. 2019. Vol. 17. N 1. Article 90.
- Kazakov A.G., Garashchenko B.L., Yakovlev R.Y., Vinokurov S.E., Kalmykov S.N., Myasoedov B.F. // Diam. Relat. Mater. 2020. Vol. 104. Article 107752.
- Kazakov A.G., Garashchenko B.L., Yakovlev R.Y., Vinokurov S.E., Myasoedov B.F. // Radiochemistry. 2020. Vol. 62. P. 752–758.
- Kazakov A.G., Garashchenko B.L., Ivanova M.K., Vinokurov S.E., Myasoedov B.F. // Nanomaterials. 2020. Vol. 10. N 6. Article 1090.
- Babenya J.S., Kazakov A.G., Ekatova T.Y., Yakovlev R.Y. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2021. Vol. 329. N 2. P. 1027–1031.
- Turcheniuk K., Mochalin V.N. // Nanotechnology. 2017. Vol. 28. N 25. Article 252001.
- Jović D., Jaćević V., Kuča K., Borišev I., Mrdjanovic J., Petrovic D. et al. // Nanomaterials. 2020. Vol. 10. N 8. Article 1508.
- Chung P.-H., Perevedentseva E., Tu J.-S., Chang C.C., Cheng C.-L. // Diam. Relat. Mater. 2006. Vol. 15. P. 622–625.
- Tsai L.-W., Lin Y.-C., Perevedentseva E., Lugovtsov A., Priezzhev A., Cheng C. L. // Int. J. Mol. Sci. 2016. Vol. 17. N 7. Article 1111.
- Winter G., Eberhardt N., Löffler J., Raabe M., Alam M.N.A., Hao L. et al. // Nanomaterials. 2022. Vol. 12. N 24. Article 4471.
- Burkett B.J., Dundar A., Young J.R., Packard A.T., Johnson G.B., Halfdanarson T.R. et al. // Radiology. 2021. Vol. 298. N 2. P. 261–274.
- Kazakov A.G., Babenya J.S., Ekatova T.Y., Vinokurov S. E., Myasoedov B.F. // Advances in Geochemistry, Analytical Chemistry and Planetary Sciences. 2023. P. 595–601.
- Yakovlev R.Y., Dogadkin N.N., Kulakova I.I., Lisichkin G.V., Leonidov N.B., Kolotov V.P. // Diam. Relat. Mater. 2015. Vol. 55. P. 77–86.
- Karpukhin A.V., Avkhacheva N.V., Yakovlev R.Y., Kulakova I.I., Yashin V.A., Lisichkin G.V., Safronova V.G. // Cell. Biol. Int. 2011. Vol. 35. N 7. P. 727–733.
- Dolmatov V.Y., Rudenko D.V., Burkat G.K., Aleksandrova A.S., Vul’ A.Yu., Aleksenskii A.E. et al. // J. Superhard Mater. 2019. Vol. 41. N 3. P. 169–177.
- Yeap W.S., Tan Y.Y., Loh K.P. // Anal. Chem. 2008. Vol. 80. N 12. P. 4659–4665.
- Inagaki M., Sekimoto, S., Tanaka, W., Tadokoro Т., Ueno Y., Kani Y., Tsutomu O. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2019. Vol. 322. P. 1703–1709.
Supplementary files