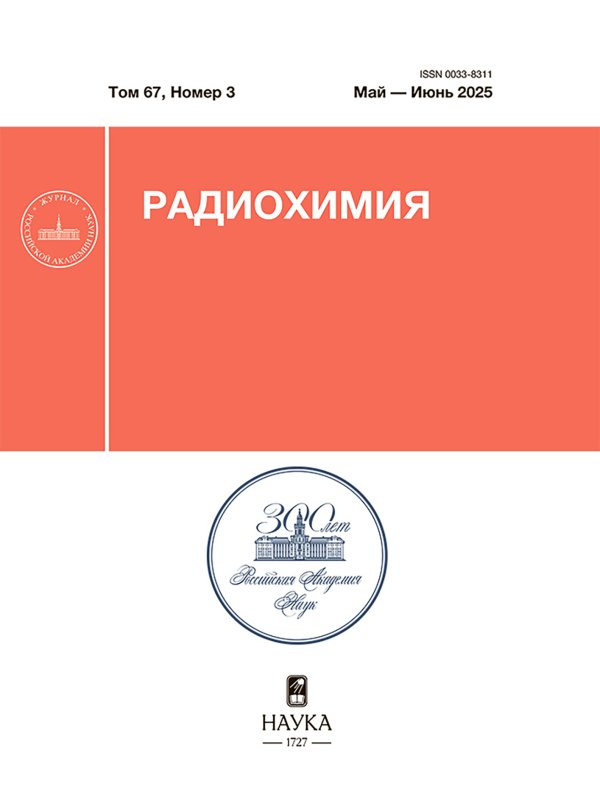Crystal structure of new iodacetatouranylates R[UO2(CH2ICOO)3]2∙2CH2ICOOH∙4H2O (R = Sr or Ba)
- Authors: Serezhkina L.B.1, Grigoriev M.S.2, Mitinа D.S.1, Serezhkin V.N.1
-
Affiliations:
- Samara National Research University
- Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 66, No 4 (2024)
- Pages: 307-313
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0033-8311/article/view/279392
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033831124040019
- ID: 279392
Cite item
Full Text
Abstract
Synthesis, IR spectroscopic, and X-ray diffraction studies of R[UO2(mia)3]2·2Hmia·4H2O crystals, where R = Sr2+ (I) or Ba2+ (II), and mia is the monoiodoacetate ion CH2ICOO−, have been carried out. The [UO2(mia)3]– complexes correspond to the crystal chemical formula A(B01)3, where A = UO 22 +, B01 = mia. It has been established that a common feature of I and II is the presence of trinuclear electrically neutral clusters {R[UO2(mia)3]2(Hmia)2(H2O)2}. At the centers of the clusters there are trigonal RO8 dodecahedra; half of their oxygen atoms belong to four different mia anions of two [UO2(mia)3]– complexes. In addition, each R atom coordinates the oxygen atoms of two water molecules and the carbonyl oxygen atoms of two Hmia molecules. Using the method of molecular Voronoi–Dirichlet polyhedra, an analysis of noncovalent interactions in the structure of I was carried out.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Как известно, взаимодействие ионов уранила UO 22 + с анионами алифатических монокарбоновых кислот L– чаще всего приводит к образованию моноядерных ацидокомплексов [UO2L3]– [1–3]. В таких комплексах карбоксилат-ионы реализуют бидентатно-циклический тип координации, поэтому атомы U(VI) проявляют координационное число (КЧ) 8. Реальным примером вещества, содержащего такие комплексы, может служить Na[UO2(CH3COO)3] [4]. Именно на примере ацетатоуранилата натрия было впервые установлено, что в кубическом 3D каркасе этой структуры каждый ион [UO2(CH3COO)3]– координирует три катиона Na+, при этом каждый ион Na+, имеющий КЧ 6, связывает по три уранилацетатных комплекса [UO2(CH3COO)3]–. Позднее была охарактеризована обширная группа карбоксилатов уранила, в которых роль компенсаторов заряда играли октаэдрические аквакомплексы [R(H2O)6]2+, где R = Mg, Ni, Fe и некоторые другие катионы [5, 6]. В кристаллах таких уранилкарбоксилатов тоже имеются 3D каркасы, в которых катионы [R(H2O)6]2+ и анионы [UO2L3]– связаны за счет электростатических взаимодействий и водородных связей. Результаты исследования карбоксилатоуранилатов некоторых других двухвалентных металлов, в частности, Sr и Ba, позволили предположить [7, 8], что в водных растворах, содержащих аквакатионы [R(H2O)n]2+ и трикарбоксилатные анионы [UO2L3]–, существует динамическое равновесие между моно- и гетероядерными комплексами, которое в общем случае можно упрощенно описать уравнением
[R(H2O)n]2+ + k[UO2L3]– ↔ {R(H2O)n–m[UO2L3]k}(2–k) + mH2O. (1)
Согласно уравнению (1), состав и строение кристаллов, возникающих при изотермическом испарении указанных растворов, зависят от природы катионов R2+ и карбоксилатных лигандов L–. Например, в ацетатсодержащих растворах равновесие (1) обычно сдвинуто влево, так как кристаллизующиеся соединения построены из моноядерных комплексов [UO2(CH3COO)3]– и [R(H2O)n]2+ в соотношении 2 : 1 (например, при R = Be [9], Ni [5], Mg, Co и Zn [10]). Однако в некоторых случаях, в частности, при R = Sr, кристаллизующиеся соединения помимо моноядерных комплексов содержат трех- или пятиядерные комплексы, соответствующие равновесию (1), причем такие гетероядерные комплексы {Sr(H2O)4[UO2(L)3]2} и {Sr[UO2(L)3]4}2–образуются не только при L = ацетат, но и при L = н-бутират [7]. Кроме превращений, соответствующих равновесию (1), при кристаллизации указанных растворов возможны и другие типы супрамолекулярных перегруппировок. Например, в кристаллических соединениях KR2(H2O)8[UO2L3]5, где R = Sr или Ba, а L – пропионат, обнаружены уникальные восьмиядерные кластеры [8]. Имеющиеся данные позволяют предположить, что образование электронейтральных гетероядерных кластеров состава {R(H2O)x[UO2L3]2}, содержащих в качестве L анионы фульвокислот, может способствовать миграции урана в биосфере.
Целью данной работы явилось исследование особенностей строения впервые полученных Sr[UO2(CH2ICOO)3]2·2CH2ICOOH·4H2O (I) и Ba[UO2(CH2ICOO)3]2·2CH2ICOOH·4H2O (II), которые содержат в своем составе моноиодацетат-ионы CH2ICOO– (далее – mia). Из-за присутствия в составе этих веществ ионов Sr2+ и Ba2+ планировалось проверить предположение о наличии в их структурах гетероядерных кластеров.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Синтез. В водный раствор моноиодуксусной кислоты (0.558 г (3 ммоль) в 10 мл воды) вносили навеску оксида урана(VI) (0.143 г, 0.5 ммоль) и перемешивали до полного растворения. Затем приливали 10 мл водного раствора гексагидрата хлорида стронция (1.335 г, 5 ммоль). Полученный ярко-желтый раствор (pH 2) оставляли для медленной кристаллизации на воздухе при комнатной температуре. Через 6–7 сут выделялись желтые кристаллы состава I.
Найдено, %: U 23.5; вычислено для Sr[UO2(CH2ICOO)3]2∙2CH2ICOOH∙4H2O, %: U 21.81. Выход около 55%.
Замена хлорида стронция на нитрат бария (1.305 г, 5 ммоль) приводила к выделению кристаллов состава II.
Найдено, %: U 21.9; вычислено для Ва[UO2(CH2ICOO)3]2∙2CH2ICOOH∙4H2O, %: U 21.34. Выход около 61%.
ИК спектры соединений записаны на Фурье-спектрометре ФТ-801 в диапазоне 4000–500 см-1. Измерения проводили при комнатной температуре. Образцы для измерений готовили по стандартной методике прессованием тонкодисперсной смеси соединения с KBr. Содержание исследуемого вещества в матрице составляло около 1%. В табл. 1 приведены волновые числа максимумов основных полос поглощения и их предполагаемое отнесение, сделанное с учетом литературных данных [11, 12].
Таблица 1. Волновые числа и отнесение колебаний в ИК спектрах Sr[UO2(CH2ICOO)3]2∙2CH2ICOOH∙4H2O (I) и Ba[UO2(CH2ICOO)3]2∙2CH2ICOOH∙4H2O (II)
Волновое число, см–1 | Отнесение | |
I | II | |
3645 сл. 3443 ср. ш. | 3389 ср. ш. | ν(H2О) |
3052 сл. | 3050 сл. | νas(CH2), ν(ОН)Hmia |
2989 сл. | 2953 сл. | νs(CH2), ν(ОН)Hmia |
1684 с. | 1692 ср. | νas(CОО)Hmia |
1630 ср. | 1614 ср. | δ(H2О) |
1546 с. | 1545 с. | νas(COO)mia |
1444 с. | 1444 с. | νs(COO)mia, νs(C–С) |
1396 ср. | 1397 ср. | δ(СH2)sciss, δ(C–IH), δ(ОН)Hmia(ор) |
1282 ср. 1254 сл. | 1279 сл. 1259 сл. | ν(СОO)Hmia(ор) |
1168 ср. | 1169 ср. | δ(СH2)twist, δ(СH2)rock |
1160 ср. | 1160 ср. | ν(СОO)Hmia(ip) |
1095 ср. | 1091 ср. | δ(СHI)twist, δ(СHI)rock |
948 сл. | 948 сл. | ν(СС) |
929 с. | 927 с. 912 с. | νas(UO22 +) |
844 сл. | 844 сл. | γ(ОH)Hmia(ip) |
779 сл. | 779 сл. | ν(C–С), ν(C–О) |
688 с. | 686 с. | ν(С−I), δ(СО2)sciss |
622 сл. | 635 сл. | δ(С–СН)rock |
Примечание. с. – сильная, ср. – средняя, сл. – слабая, ш. – широкая; Hmia – иодуксусная кислота, mia – иодацетат-ион; sciss – ножничные, twist – крутильные, rock – маятниковые, op – внеплоскостные, ip – плоскостные.
Рентгенодифракционные эксперименты проведены на автоматическом четырехкружном дифрактометре с двумерным детектором Bruker Kappa Apex II при 100(2) К. Параметры элементарных ячеек уточнены по всему массиву данных [13]. В экспериментальные интенсивности рефлексов внесены поправки на поглощение с использованием программ TWINABS [14] для двойникового кристалла I и SADABS [15] для II. Структуры расшифрованы прямым методом (SHELXS 97 [16]) и уточнены полноматричным методом наименьших квадратов (SHELXL-2018 [17]) по F2 по всем данным в анизотропном приближении для всех неводородных атомов. При уточнении структуры I использовали только рефлексы, относящиеся к основному домену. Атомы H групп CH2I размещены в геометрически вычисленных позициях с Uизо(H) = 1.2Uэкв(C). Атомы H карбоксильных групп и молекул воды локализованы из разностных Фурье-синтезов электронной плотности. В структуре I их координаты были фиксированы, в структуре II они уточнены с ограничением расстояний O–H и углов H–O–H.
Параметры рентгеноструктурного эксперимента и окончательные значения факторов недостоверности для кристаллов I, II приведены в табл. 2, характеристики основных длин связей и валентных углов полиэдров UO8 – в табл. 3. Координационные числа (КЧ) атомов в структурах рассчитаны с помощью метода пересекающихся сфер [18]. Координаты атомов и величины температурных параметров депонированы в Кембриджском центре кристаллографических данных под номерами CCDC 2348467 и 2348266 для I и II соответственно.
Таблица 2. Кристаллографические данные, параметры эксперимента и уточнения структур M[UO2(CH2ICOO)3]2∙ ∙2CH2ICOOH∙4H2O (M = Sr, Ba)
Параметр | M = Sr | M = Ba |
Сингония, пространственная группа, Z | Моноклинная, C2/c, 4 | Моноклинная, Р21/с, 4 |
a, Å | 26.450(6) | 18.8361(11) |
b, Å | 12.259(2) | 12.0847(7) |
c, Å | 18.789(4) | 20.5021(12) |
β, град | 131.328(7) | 93.729(2) |
V, Å3 | 4575.0(16) | 4657.0(5) |
Dx, г/см3 | 3.167 | 3.182 |
μ, мм–1 | 13.694 | 13.148 |
F000 | 3840 | 3912 |
Излучение, λ, Å | MoKα, 0.71073 | |
Размер образца, мм | 0.16 × 0.04 × 0.03 | 0.10 × 0.08 × 0.08 |
θmax, град | 27.270 | 29.999 |
Область h, k, l | −26 < h < 25 −15 < k < 15 −24 < l < 24 | −26 < h < 26 −16 < k < 17 −28 < l < 28 |
Число отражений: измеренных/независимых (N1), Rint/с I > 2σ(I) (N2) | 16011/5040, 0.1477/2432 | 81083/13533, 0.1495/7724 |
Метод уточнения | Полноматричный МНК по F2 | |
Число уточняемых параметров | 246 | 514 |
Весовая схема | w = 1/[σ2(F o2 ) + (0.0964Р)2], где P = (F o2 + 2F с2 )/3 | w = 1/[σ2(F o2 )] |
wR2 по N1 | 0.2212 | 0.1003 |
R1 по N2 | 0.0923 | 0.0523 |
S | 0.970 | 0.999 |
Остаточная электронная плотность Δρmax/Δρmin, э/Å3 | 2.526/–3.125 | 1.719/–2.343 |
Таблица 3. Основные длины связей и валентные углы полиэдра UO8 в структурах Sr[UO2(CH2ICOO)3]2∙ ∙2CH2ICOOH∙4H2O (I) и Ba[UO2(CH2ICOO)3]2∙2CH2ICOOH∙4H2O (II)
Связь | d, Å | Ω, %* | Угол | ω, град |
Структура I | ||||
Гексагональная бипирамида U1O8 | ||||
U1−O1 | 1.757(14) | 22.18 | O2 U1 O1 | 179.3(8) |
U1−O2 | 1.752(14) | 21.83 | O6 U1 O5 | 52.6(5) |
U1–O3 | 2.493(14) | 9.18 | O6 U1 O7 | 69.1(5) |
U1–O4 | 2.495(14) | 9.06 | O7 U1 O8 | 52.0(4) |
U1–O5 | 2.453(14) | 9.43 | O8 U1 O3 | 66.9(5) |
U1–O6 | 2.444(14) | 9.63 | O5 U1 O4 | 67.0(5) |
U1–O7 | 2.456(13) | 9.53 | O3 U1 O4 | 52.6(5) |
U1–O8 | 2.482(15) | 9.15 | ||
Структура II | ||||
Гексагональная бипирамида U1O8 | ||||
U1−O1 | 1.760(7) | 21.81 | O2 U1 O1 | 178.8(3) |
U1−O2 | 1.759(7) | 22.11 | O6 U1 O5 | 51.8(2) |
U1–O5 | 2.505(6) | 9.03 | O10 U1 O9 | 52.1(2) |
U1–O6 | 2.482(7) | 9.21 | O5 U1 O10 | 68.2(2) |
U1–O7 | 2.455(7) | 9.45 | O7 U1 O6 | 66.5(2) |
U1–O8 | 2.445(7) | 9.73 | O8 U1 O9 | 68.6(2) |
U1–O9 | 2.479(7) | 9.29 | O8 U1 O7 | 52.9(2) |
U1–O10 | 2.473(6) | 9.38 | ||
Гексагональная бипирамида U2O8 | ||||
U2−O3 | 1.763(7) | 22.01 | O4 U2 O3 | 179.1(3) |
U2−O4 | 1.767(6) | 21.75 | O14 U2 O15 | 67.9(2) |
U2–O11 | 2.472(7) | 9.29 | O15 U2 O16 | 52.5(2) |
U2–O12 | 2.475(6) | 9.33 | O16 U2 O11 | 67.8(2) |
U2–O13 | 2.498(6) | 9.06 | O11 U2 O12 | 52.0(2) |
U2–O14 | 2.452(6) | 9.61 | O14 U2 O13 | 52.4(2) |
U2–O15 | 2.456(6) | 9.52 | O12 U2 O13 | 68.1(2) |
U2–O16 | 2.465(6) | 9.43 | ||
Примечание. * Ω − телесный угол (в процентах от полного телесного угла 4π стерадиан), под которым общая грань полиэдров ВД соседних атомов видна из ядра любого из них.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Хорошее разрешение ИК спектров и высокая интенсивность основных полос поглощения позволяют отнести их к определенным типам колебаний молекул и групп: –СОО–, –СООН, –СI, –СН2, CH2ICOOH, Н2О, входящих в состав соединений. ИК спектры соединений I и II близки во всем исследованном диапазоне частот, что отвечает как аналогичному составу соединений, так и сходству их кристаллического строения. Начиная с высоко характеристических валентных колебаний иодацетатогрупп, максимумы полос поглощения в спектрах либо совпадают, либо их различие не превышает нескольких обратных сантиметров. Полосы поглощения при 1684 (I) и 1692 (II) см–1 отвечают антисимметричному валентному колебанию неионизированной иодуксусной кислоты [11]. Иодуксусной кислоте отвечает также группа полос, обусловленная плоскостными и внеплоскостными валентными и деформационными колебаниями карбоксильной группы ([11], табл. 1). Антисимметричные и симметричные валентные колебания иодацетат-ионов проявляются в областях, отвечающих их характеристическим колебаниям (табл. 1). Полосы поглощения антисимметричного валентного колебания иона уранила наблюдаются при 929 (I) и 927, 912 см–1 (II). Появление хорошо разрешенного дублета νas(UO22 +) в спектре бариевого комплекса (табл. 1), по-видимому, связано с наличием в его структуре двух кристаллографически разных атомов U. Присутствию молекул воды в составе соединений отвечают поглощение при 3645–3443 (I) и 3389 см–1 (II) (валентное колебание) в виде широких диффузных полос и поглощение в виде узких полос с максимумами при 1630 (I) и 1614 см–1 (II) (деформационное колебание).
Изученные кристаллы R[UO2(CH2ICOO)3]2· ·2CH2ICOOH·4H2O отличаются только природой двухзарядного катиона R, однако они оказались неизоструктурными, поскольку принадлежат к разным пространственным группам моноклинной сингонии. Не исключено, что это различие вызвано разной природой анионов (хлорид или нитрат) – компенсаторов заряда ионов R2+, присутствовавших в маточных растворах в процессе кристаллизации. Так, при R = Sr2+ (I) и Ba2+ (II) кристаллы относятся соответственно к пространственным группам C2/c и P21/c (табл. 2). В связи с этим отметим, что только атомы Sr в структуре I занимают частные позиции 4(e) c точечной симметрией С2. Атомы всех остальных элементов располагаются только по общим позициям (8(f) в I и 4(e) в II) с точечной симметрией С1.
Все три кристаллографически разных атома урана (один в I и два в II), по данным метода пересекающихся сфер [18], имеют КЧ 8 и образуют координационные полиэдры (КП) UO8 в виде гексагональных бипирамид. На главной оси этих бипирамид находятся атомы кислорода почти линейных и равноплечных ионов UO22+, для которых значения d(U=O) лежат в области 1.751–1.767 Å (в среднем 1.759(5) Å, табл. 3). В экваториальной плоскости всех бипирамид находятся атомы кислорода бидентатно-циклических анионов mia, для которых значения d(U–O) изменяются от 2.444 до 2.505 Å, в среднем 2.471(19) Å (табл. 3). По отношению к ионам уранила все девять кристаллографически неэквивалентных анионов mia имеют одинаковый тип координации В01-4, и поэтому одноядерным комплексам [UO2(mia)3]– (согласно работе [19]) соответствует кристаллохимическая формула А(В01)3, где A = UO22 +, В01 = mia. Объем полиэдров Вороного–Дирихле (ПВД) атомов урана(VI) в соединениях I и II находится в диапазоне 9.33–9.39 Å3 (в среднем 9.37(3) Å3) и в пределах s согласуется со средней величиной 9.2(2) Å3 для атомов U(VI) в КП UOn при n = 5–8 [20].
По данным метода пересекающихся сфер [18] атомы R в структурах I и II имеют одинаковое КЧ 8. Однако ПВД этих атомов имеют разное число граней (10 и 12 соответственно при R = Sr и Ва) и, как следствие, разный состав: SrO8H2 и BaO8H3I. Восемь граней ПВД, которые эквивалентны связям R–O, «видны» из ядер атомов R под телесными углами W в диапазоне 10–14% от полного телесного угла, равного 4π стерадиан. Этим же граням отвечают контакты с d(Sr–O) и d(Ba–O) в диапазонах 2.54–2.64 и 2.71–2.78 Å. В то же время граням ПВД, которые эквивалентны невалентным взаимодействиям R/Z (Z = H или I, слэш указывает наличие общей грани у ПВД атомов R и Z), отвечают длинные контакты с d(Sr–H) = 3.77 Å или d(Ba–H) в диапазоне 3.12–3.79 Å и d(Ba–I) = 4.11 Å, а также маленькие W в области от 0.01 до 1.78%.
При отнесении КП RO8 к определенному геометрическому типу использовали «упрощенные» ПВД, которые не учитывают невалентные взаимодействия R/Z. Согласно полученным данным, «упрощенные» ПВД атомов Sr и Ba относятся к одному и тому же комбинаторно-топологическому типу (КТТ) {4454}. В символе КТТ строчные числа указывают число вершин у грани, а надстрочные – общее число соответствующих граней. Для «упрощенных» ПВД определяется также топологический тип вершин (ТТВ) {3/12}. В обозначении ТТВ первое число указывает ранг вершины (число ребер ПВД, пересекающихся в вершине), а второе (после слеша) – общее количество таких вершин. Так, запись {3/12} означает, что ПВД RO8 имеют 12 вершин третьего ранга. Поскольку «упрощенные» ПВД дуальны КП (число вершин одного полиэдра равно числу граней другого и наоборот), то ТТВ одновременно характеризует тип и число граней КП. Так, запись {3/12} указывает, что соответствующий КП RO8 имеет 12 треугольных граней, т.е. представляет собой тригональный додекаэдр.
В структурах I и II половина из 8 атомов кислорода каждого додекаэдра RO8 принадлежит четырем разным анионам mia двух соседних комплексов [UO2(mia)3]–. Кроме того, каждый катион R2+ координирует атомы кислорода двух молекул воды и карбонильные атомы кислорода двух молекул Hmia. В итоге в изученных кристаллах образуются гетероядерные электронейтральные кластеры состава {R[UO2(mia)3]2(Hmia)2(H2O)2} (рис. 1, 2), между которыми находятся две внешнесферные молекулы воды, участвующие в образовании водородных связей с указанными кластерами. Экваториальные плоскости двух ионов уранила каждого кластера располагаются под углом »76° в комплексе I и »75° в комплексе II.
Рис. 1. Строение трехъядерного кластера {Sr[UO2(mia)3]2 (Hmia)2(H2O)2}. Для упрощения рисунка атомы Н не указаны. Для правого атома U(VI) в кластере показан КП (гексагональная бипирамида), а для левого – соответствующий ПВД (гексагональная призма).
Рис. 2. Строение трехъядерного кластера {Ba[UO2(mia)3]2 (Hmia)2(H2O)2}. Для упрощения рисунка атомы Н не указаны. Для правого атома U(VI) в кластере показан КП (гексагональная бипирамида), а для левого – соответствующий ПВД (гексагональная призма).
Для структуры I установлены координаты всех атомов, поэтому для количественной оценки межмолекулярных невалентных взаимодействий можно использовать метод молекулярных ПВД [21], реализованный в комплексе программ Topos-Intermol. Отметим, что в рамках этого метода обязательно учитывается ранг граней (РГ) ПВД, равный минимальному числу химических связей, соединяющих атомы, ПВД которых имеют общую грань. В зависимости от числа таких связей грани относятся к одному из трех возможных типов: химическим связям (при РГ = 1) и невалентным внутримолекулярным (при РГ > 1) или межмолекулярным (при РГ = 0) взаимодействиям. Существенно, что этот метод учитывает все возможные типы невалентных контактов, а не только те, которые принято считать важными или значимыми. Поскольку в комплексе I содержатся атомы 6 разных элементов, то теоретически между ними возможен 21 тип межатомных контактов. Однако, согласно полученным данным, в структуре I реализуются только 9 типов межмолекулярных контактов с РГ = 0 (табл. 4).
Таблица 4. Характеристики межмолекулярных невалентных взаимодействий в структуре Sr [UO2(CH2ICOO)3]2∙ ∙2CH2ICOOH∙4H2O (I)*
Контакт A/Z | kA/Z | d, Å | SAZ, Å2 | Δ, % |
H/H | 98 | 1.73–4.43 | 156.86 | 17.17 |
H/O | 140 | 1.80–5.10 | 330.65 | 36.19 |
H/I | 84 | 3.33–4.96 | 189.53 | 20.74 |
H/C | 28 | 3.19–4.11 | 5.71 | 0.63 |
C/O | 16 | 3.46–3.97 | 7.88 | 0.86 |
C/I | 8 | 3.67–4.86 | 7.87 | 0.86 |
O/I | 32 | 3.91–5.13 | 65.38 | 7.15 |
O/O | 24 | 3.11–4.45 | 13.63 | 1.49 |
I/I | 38 | 3.50–5.30 | 136.25 | 14.91 |
сумма | 468 | 1.73– 5.30 | 913.77 | 100.00 |
Примечание. *kA/Z – общее число граней ПВД с РГ = 0; d − диапазон соответствующих межатомных расстояний A–Z; 1AZ – общая площадь всех граней указанного типа у ПВД атомов, содержащихся в одной формульной единице вещества; ΔAZ – парциальный вклад соответствующих невалентных контактов A/Z в величину интегрального параметра 0S = ΣSAZ молекулярного ПВД (указан в нижней строке).
Основной вклад во взаимное связывание трехъядерных кластеров в структуре I вносят водородные связи (контакты H/O и H/I) и дисперсионные взаимодействия (контакты H/H, I/I и O/I), на которые приходится соответственно »57 и »39% общей площади поверхности молекулярных ПВД (0S, табл. 4). Остальные типы взаимодействий (Н/С, C/O, C/I и O/O), на которые в сумме приходится около 4% 0S, играют незначительную роль в организации супрамолекулярной структуры I. Отметим также, что в отличие от ранее охарактеризованных одноядерных комплексов уранила с ионами mia, галогенные связи [22–24] U=O×××I−C, в которых роль акцептора галогенной связи играет один из атомов кислорода иона уранила, в кристаллах I отсутствуют (dmin(O×××I) > 3.9 Å). Возможно, что этот результат является следствием успеха конкурирующих более многочисленных водородных связей.
Заметим, что в родственной структуре II не удалось установить позиции атомов Н молекул воды, которые в трехъядерных кластерах {Ba[UO2(mia)3]2(Hmia)2(H2O)2} координированы ионами бария или располагаются между кластерами. Однако имеющиеся данные позволяют считать, что основные особенности супрамолекулярной структуры кристаллов II и I принципиально не отличаются.
В целом полученные данные о строении комплексов I и II являются дополнительным свидетельством образования гетероядерных кластеров в структурах карбоксилатоуранилатов, содержащих в своем составе ионы стронция или бария.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Рентгенодифракционные эксперименты проведены в Центре коллективного пользования физическими методами исследования ИФХЭ РАН при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (номер проекта 122011300061-3).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
L. B. Serezhkina
Samara National Research University
Author for correspondence.
Email: lserezh@samsu.ru
Russian Federation, Samara 443011
M. S. Grigoriev
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences
Email: lserezh@samsu.ru
Russian Federation, Moscow, 119071
D. S. Mitinа
Samara National Research University
Email: lserezh@samsu.ru
Russian Federation, Samara 443011
V. N. Serezhkin
Samara National Research University
Email: lserezh@samsu.ru
Russian Federation, Samara 443011
References
- Loiseau T., Mihalcea I., Henry N., Volkringer C. // Coord. Chem. Rev. 2014. Vol. 266. P. 69.
- Lermontov A.S., Lermontova E.K., Wang Y.Y. // Inorg. Chim. Acta. 2009. Vol. 362. P. 3751.
- Ramos Silva M., Matos Beja A., Paixao J.A., Alte da Veiga L., Martin-Gil J. // Acta Crystallogr., Sect. C. 1999. Vol. 55. P. 2039.
- Zachariasen W.H., Plettinger H.A. // Acta Crystallogr. 1959. Vol. 12. P. 526.
- Zalkin A., Ruben H., Templeton D.H. // Acta Crystallogr., Sect. B. 1982. Vol. 38. P. 610.
- Anisimova N., Hoppe R., Serafin M. // Z. Anorg. Allg. Chem. 1997. Vol. 623. P. 35.
- Savchenkov A.V., Klepov V.V., Vologzhanina A.V., Serezhkina L.B., Pushkin D.V., Serezhkin V.N. // CrystEngComm. 2015. Vol. 17. P. 740.
- Serezhkin V.N., Grigoriev M.S., Abdulmyanov A.R., Fedoseev A.M., Savchenkov A.V., Stefanovich S.Yu., Serezhkina L.B. // Inorg. Chem. 2017. Vol. 56. P. 7151.
- Клепов В.В., Вологжанина А.В., Сережкина Л.Б., Сережкин В.Н. // Радиохимия. 2012. Т. 54. № 6. С. 500. https://doi.org/10.1134/S1066362213010074 (Klepov V.V., Vologzhanina A.V., Serezhkina L.B., Serezhkin V.N. // Radiochemistry. 2013. Vol. 55. № 1. P. 36.).
- Klepov V.V., Peresypkina E.V., Serezhkina L.B., Karasev M.O., Virovets A.V., Serezhkin V.N. // Polyhedron. 2013. Vol. 61. P. 137.
- Katon J.E., Carll T.P. // J. Mol. Struct. 1971. Vol. 7. P. 391.
- Nakamoto K. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. Wiley, 2009. Parts A, B.
- SAINT-Plus (Version 7.68). Madison, Wisconsin (USA): Bruker AXS, 2007.
- Sheldrick G.M. TWINABS. Madison, Wisconsin (USA): Bruker AXS, 2012.
- Krause L., Herbst-Irmer R., Sheldrick G.M., Stalke D. // J. Appl. Crystallogr. 2015. Vol. 48. Part 1. P. 3.
- Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr., Sect. A. 2008. Vol. 64. N 1. P. 112. https://doi.org/10.1107/S0108767307043930
- Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr., Sect. C. 2015. Vol. 71. N 1. P. 3. https://doi.org/10.1107/S2053229614024218
- Cережкин В.Н., Михайлов Ю.Н., Буслаев Ю.А. // ЖНХ. 1997. Т. 42. № 12. С. 2036.
- Serezhkin V.N., Vologzhanina A.V., Serezhkina L.B., Smirnova E.S., Grachova E.V., Ostrova P.V., Antipin M.Yu. // Acta Crystallogr., Sect. B. 2009. Vol. 65. N 1. P. 45.
- Serezhkin V.N., Savchenkov A.V., Pushkin D.V., Serezhkina L.B. // Appl. Solid State Chem. 2018. N 2. P. 2. https://doi.org/10.18572/2619-0141-2018-2-3-2-16
- Serezhkin V.N., Yu L., Savchenkov A.V. // Cryst. Growth Des. 2022. Vol. 22. N 11. P. 6717. https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c00884
- Сережкина Л.Б., Митина Д.С., Вологжанина А.В., Григорьев М.С., Пушкин Д. В., Сережкин В.Н. // ЖНХ. 2022. Т. 67. № 11. С. 1581. (Serezhkina L.B., Mitina D.S., Vologzhanina A.V., Grigoriev M.S., Pushkin D.V., Serezhkin V.N. // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. Vol. 67. P. 1769. https://doi.org/10.1134/S0036023622600915).
- Desiraju G.R., Ho P.S., Kloo L., Legon A.C., Marquardt R., Metrangolo P., Politzer P., Resnati G, Rissanen K. // Pure Appl. Chem. 2013. Vol. 85. N 8. P. 1711. http://dx.doi.org/10.1351/PAC-REC-12-05-10
- Cavallo G., Metrangolo P., Milani R., Pilati T., Priimagi A., Resnati G., Terraneo G. // Chem. Rev. 2016. Vol. 116. P. 2478. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00484
Supplementary files