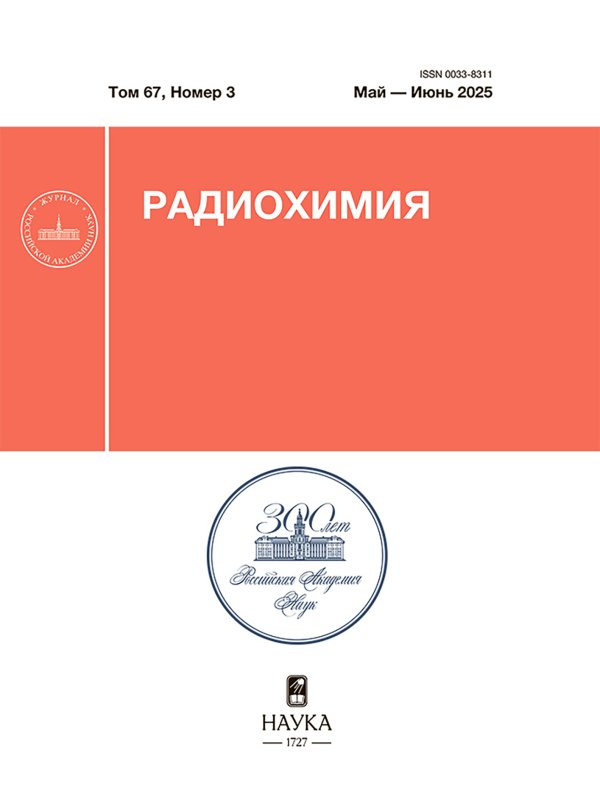Method of coupled processes in studying diffusion of radioactive waste elements in the pore solution of clay materials
- Authors: Martynov K.V.1, Zakharova E.V.2
-
Affiliations:
- Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry
- Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 66, No 4 (2024)
- Pages: 388-398
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0033-8311/article/view/279447
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033831124040114
- ID: 279447
Cite item
Full Text
Abstract
A method of coupled processes was proposed to maintain concentrations in the model leachate of the radioactive waste phosphate matrix, which served as a source of elements in the study of through-diffusion of P, Se, Br, Mo, Cs, and U in the pore solution of compacted clay materials. The method consisted in adding an leachatable solid phase to the solution in the source chamber of the diffusion cell. The use of this method made it possible to stabilize the boundary conditions and expand the range of element concentrations in the source chamber of diffusion cells. The new as-obtained data on the effective diffusion coefficients of radioactive waste elements in clay rocks were used to refine the empirical models of diffusion transfer. It is shown that in different geochemical systems (model groundwater and phosphate glass leachate) for some elements (Br, Mo, Cs) it is possible to use unified models in the form of effective diffusion coefficients as a function of factors influencing this process: sample porosity, smectite content in the sample, and concentration of radionuclide (element) in pore solution, while for Se and U, diffusion models for various geochemical systems differ. The specificity of diffusion behavior of elements is associated with structural features and physicochemical properties of particles of these elements in aqueous solutions.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Одной из сложностей использования метода сквозной диффузии [1] при изучении мобильных, но сильно сорбирующихся на образце или осаждающихся в поровом растворе трассеров является значительное понижение их концентрации в растворе-источнике при отсутствии заметного выхода в раствор-приемник диффузионной ячейки. Даже если удается зафиксировать диффузионный выход трассеров через исследуемый образец, неопределенность результатов экспериментов, а вместе с ней и погрешности определяемых диффузионных характеристик, увеличиваются из-за сильного изменения в ходе экспериментов граничных условий, даже при использовании методов коррекции переменных концентраций на границах образца, например, предложенных в работе [2].
Эту проблему можно решить, значительно увеличив объем раствора и суммарную активность (массу) трассера в источнике [3]. Однако такое решение ограничено приемлемыми габаритами экспериментальной установки, особенно когда количество одновременных экспериментов исчисляется десятками. Альтернатиным способом поддержания концентрации в растворе, являющимся источником элементов при изучении сквозной диффузии, может стать добавление в раствор источника диффузионной ячейки выщелачиваемой твердой фазы, содержащей значительно большую по сравнению с растворами активность (массу) исследуемых трассеров. Этот метод в зависимости от соотношения скоростей сопряженных процессов – растворения твердой фазы в растворе источника и диффузии элементов в поровом растворе образца – дает возможность поддерживать и даже увеличивать концентрации трассеров в источнике, тем самым стабилизируя граничные условия и расширяя диапазон исходных концентраций. Он может быть особенно эффективен для элементов, которые не включены в другой сопряженный с диффузией процесс – осаждение в поровом растворе. Кроме того, такая конфигурация эксперимента фактически является моделью реальных процессов по выщелачиванию и диффузии радионуклидов из объектов захоронения и консервации РАО.
Предложенный метод сопряженных процессов был использован для изучения сквозной диффузии элементов РАО (P, Se, Br, Mo, Cs, U) из модельных выщелатов фосфатных матриц через уплотненные образцы барьерных глинистых материалов с целью уточнения численных моделей диффузионного переноса элементов РАО и подтверждения выявленных ранее закономерностей диффузии элементов из разных по солевому составу растворов [4, 5].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве фосфатной матрицы было использовано модельное многокомпонентное стекло с имитаторами элементов РАО, близкое по составу к остеклованным высокоактивным РАО ФГУП ПО «Маяк» [6], которое предполагается размещать в глубинном пункте захоронения на Енисейского участке Нижнеканского массива (НКМ) [7], где начаты работы по строительству подземной исследовательской лаборатории для обоснования безопасности будущего объекта для окончательной изоляции РАО [8]. Методика синтеза и результаты рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) фосфатного стекла с имитаторами элементов РАО (ФС), использованного в диффузионных экспериментах (табл. 1), приведены в работе [9].
Таблица 1. Состав фосфатного стекла по данным РСМА [9], приведенный к 100 мас%
Оксид | Na2O | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | SO3 | CaO | Cr2O3 | Fe2O3 | CoO |
Среднее | 22.15 | 14.87 | 0.30 | 51.19 | 0.69 | 0.96 | 0.18 | 1.35 | 0.58 |
Стандартное отклонение | 0.48 | 0.52 | 0.13 | 0.59 | 0.33 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
Оксид | NiO | SrO | MoO3 | Cs2O | La2O3 | Ce2O3 | Nd2O3 | ThO2 | UO3 |
Среднее | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 0.48 | 1.09 | 0.56 | 0.95 | 0.59 | 1.03 |
Стандартное отклонение | 0.22 | 0.17 | 0.83 | 0.14 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.30 |
Так же, как в работах [4, 5], глинистые материалы были представлены бентонитами месторождений Камалинское (Красноярский край) – КВ и «10-й Хутор» (Хакасия) – ХБ, смесями 30 мас% хакасского бентонита с 70 мас% каолина (КБ) или полиминеральной тугоплавкой глины (ТБ) Кампановского месторождения (Красноярский край), а также измельченным глинистым заполнителем зоны милонитизации в долеритах Енисейского участка НКМ (ТЗ). Минеральный и химический составы глинистых материалов, использованных в экспериментах, подробно описаны в работе [4]. Главными фазами в материалах были: для КВ и ХБ – монтмориллонит (61 и 71 мас%, соответственно), для смешенных материалов – монтмориллонит и каолинит (КБ – 33 и 41 мас%, соответственно, ТБ – 36 и 31 мас%, соответственно), для милонита ТЗ – серицит и гейландит (24 и 31 мас%, соответственно).
Для диффузионных экспериментов в качестве рабочих растворов использовали (табл. 2): модельную подземную воду (МПВ), аналогичную подземной воде Енисейского участка НКМ, и три различавшихся по концентрациям элементов модельных раствора выщелата фосфатного стекла (СМВ), в которых концентрации варьировались исходя из данных о выщелачивании стекла при температуре 25°С в статическом режиме [9]. Растворы СМВ готовили смешиванием в разных соотношениях растворов МПВ, модельной подземной воды с элементами-имитаторами РАО (МПВИ) и модельного выщелата (МВ). Методика приготовления и составы модельных растворов МПВ, МПВИ и МВ подробно описаны в работе [5].
Таблица 2. Элементный состав (мг/л) и значения рН модельных растворов
Раствор | Na | Mg | Al | Si | P | S |
МПВ | 73 | 8.1 | <0.002* | 0.22 | <0.09* | 11 |
СМВ-1 | 90.7 | 11 | 0.94 | 10.7 | 4.5 | 12.3 |
СМВ-3 | 129.5 | 10.5 | 0.615 | 11.35 | 31.95 | 11.55 |
СМВ-8 | 168 | 10 | 0.29 | 12 | 59.4 | 10.8 |
Раствор | K | Ca | Cr | Mn | Fe | Co |
МПВ | <0.012* | 15 | 0.003 | 0.0004 | <0.006* | <0.001* |
СМВ-1 | 1.5 | 23.2 | < 0.006* | 0.006 | <0.06* | 0.052 |
СМВ-3 | 1.85 | 14 | < 0.006* | 0.005 | <0.06* | 0.0535 |
СМВ-8 | 2.2 | 4.8 | < 0.006* | 0.0036 | <0.06* | 0.055 |
Раствор | Ni | Br | Se | Sr | Mo | Cs |
МПВ | 0.0006 | <0.07* | <0.003* | 0.0076 | <0.00017* | 0.00065 |
СМВ-1 | 0.13 | 0.71 | 0.16 | 0.79 | 0.63 | 0.8 |
СМВ-3 | 0.15 | 0.935 | 0.27 | 0.48 | 0.435 | 0.625 |
СМВ-8 | 0.17 | 1.16 | 0.38 | 0.17 | 0.24 | 0.45 |
Раствор | La | Ce | Nd | Th | U | pH |
МПВ | 0.000013 | 0.000041 | 0.000012 | 0.000006 | 0.00002 | 8.64 |
СМВ-1 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0065 | 0.0028 | 0.91 | 8.97 |
СМВ-3 | 0.0028 | 0.0039 | 0.0047 | 0.0024 | 0.505 | 8.65 |
СМВ-8 | 0.00190 | 0.0033 | 0.00280 | 0.002 | 0.102 | 8.44 |
Примечание. * – ниже предела обнаружения.
Содержания химических элементов в водных растворах определяли методами масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП МС) на масс-спектрометре Elan-6100 (Perkin Elmer, США) и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП АЭС) на эмиссионном спектрометре Optima-4300 DV (Perkin Elmer, США) в ИПТМ РАН (г. Черноголовка).
Для изучения сквозной диффузии элементов РАО в поровом растворе уплотненных образцов глинистых материалов при комнатной температуре была использована те же конструкция экспериментальной ячейки, методика подготовки и проведения экспериментов, а также обработки результатов, которые были описаны в работе [5].
Подготовленные уплотненные образцы глинистых материалов помещали в тефлоновые перфорированные контейнеры, которые устанавливали в держатель, разделявший камеры ячейки объемом 140–180 см3, заполненные модельными растворами: камера-источник – модельным выщелатом фосфатного стекла СМВ с элементами-имитаторами РАО, камера-приемник – модельной подземной водой МПВ. Все соединения деталей ячейки герметизировали силиконовыми прокладками. Таким образом, средой, соединявшей растворы источника и приемника, был поровый раствор образцов. В результате диффузии в поровом растворе компоненты переносились из источника (с большей концентрацией) в приемник (с меньшей концентрацией). Периодически из камеры-источника ячеек отбирали пробы объемом 1 мл. Их разбавляли для анализа раствором 0.1 моль/л HNO3. Одновременно из приемника сливали весь раствор и заменяли на такой же объем раствора МПВ. Из слитого раствора отбирали пробу для анализа элементного состава.
Отличие от проведенных ранее экспериментов заключалось в добавлении в камеру-источник диффузионных ячеек кроме растворов СМВ (около 180 см3) примерно 2 г измельченного порошка многокомпонентного фосфатного стекла (табл. 1). Это повлияло на динамику изменения концентраций главных матричных элементов (Na, P), создающих солевой фон в модельных выщелатах, и имитаторов элементов РАО (Se, Br, Mo, Cs, U) в растворах камеры-источника диффузионных ячеек (рис. 1).
Рис. 1. Изменение концентраций элементов в растворе камеры-источника при сквозной диффузии из модельных растворов МВ (серые символы) по данным [5] и СМВ (черные символы) с разной исходной концентрацией через образцы глинистых материалов КБ (а), ТЗ (б) и ХБ (в).
Во всех экспериментах за счет выщелачивания ФС, помещенного в камеру-источник, удалось поддержать или даже увеличить концентрации элементов в растворе по сравнению с экспериментами по диффузии из однофазных модельных выщелатов МВ, описанных в работе [5]. Снижение скорости понижения концентраций происходило в случаях, когда скорость диффузии превышала скорость выщелачивания (для брома, селена, цезия, урана). Повышение концентраций с выходом на постоянные значения наблюдалось для молибдена и урана, когда выщелачивание сначала опережало диффузию, но постепенно сравнивалось с ней. При изначально равных и не изменявшихся скоростях этих процессов концентрация элементов не менялась на протяжении всего эксперимента (натрий). На динамику уменьшения концентрации фосфора выщелачивание ФС заметно не повлияло.
Площадь сечения образцов глинистых материалов (S) составляла 9.62 см2. Исходные и конечные массово-габаритные характеристики, абсолютная влажность образцов, и массовая доля смектита в материалах представлены в табл. 3. Плотность скелета рассчитывались по массе скелета (m) и объему водонасыщенных образцов. Влажность и масса скелета определяли по потере массы образцов при температуре 105°С. Исходные характеристики (плотность скелета и влажность) экспериментальных образцов были оценены приблизительно по значениям влажности для параллельно приготовленных дубликатов и приведены в табл. 3 справочно.
Таблица 3. Массовая доля смектита в материалах, исходные/конечные массово-габаритные характеристики и влажность образцов для изучения сквозной диффузии
Материал | Массовая доля смектита, Cсм | Толщина образца, L (cм) | Плотность скелета, ρт (г/см3) | Влажность, мас% |
КБ | 0.33 | 0.43/0.40 | 1.47/1.46 | 24/24 |
ТБ | 0.36 | 0.46/0.43 | 1.33/1.31 | 28/29 |
ТЗ | 0.06 | 0.39/0.35 | 1.86/1.98 | 15/12 |
ХБ | 0.71 | 0.31/0.42 | 1.90/0.97 | 14/40 |
КВ | 0.61 | 0.30/0.43 | 1.89/1.22 | 14/31 |
Изменения объема (толщины), плотности скелета и влажности образцов происходили до начала экспериментов при предварительном заполнении водой и проверке герметичности диффузионных ячеек в течение одной недели. В процессе экспериментов, начинавшихся после замены растворов в камерах ячеек на рабочие, эти характеристики больше не изменялись. Их конечные значения, определенные после завершения экспериментов, были использованы при обработке и интерпретации результатов. Из табл. 3 видно, что при водонасыщении заметно увеличилась влажность и уменьшилась плотность скелета только у бентонитовых образцов ХБ и КВ. Смешанные материалы КБ и ТБ и милонит ТЗ изменили влажность и плотность скелета незначительно, в пределах погрешности определения.
Для расчета эффективного коэффициента диффузии (De) использовали наклон линейного участка кривой выхода, соответствующего стационарному этапу диффузии:
De = (mL)/(∆CtSt),
где m – масса элемента (г), диффундировавшего через образец за время t (с), ∆Ct – усредненное значение разницы концентраций элемента (г/мл) в поровом растворе по разные стороны образца к этому моменту времени, L – толщина образца (см), S – геометрическая площадь сечения образца (см2). Значения ∆Ct рассчитывались как
∆tn = tn – tn–1,
где n – номер шага опробования, подстрочные символы ист и пр относятся к источнику и приемнику диффузионной ячейки.
Наличие осадительного процесса в поровом растворе образцов устанавливалось по понижению суммарной массы элемента в растворах камер диффузионной ячейки при стационарном выходе радионуклида в приемник. Значения для периодов времени, в течение которых происходило осаждение в поровом растворе, принимались равными концентрации в источнике на момент прекращения понижения суммарной массы элемента в ячейке. При отсутствии осаждения за концентрацию элемента в поровом растворе образца со стороны источника принимали концентрацию в источнике на текущий момент времени.
Для расчета действительного коэффициента диффузии (Da)
Da = L2/(2πtз)
использовали время задержки tз, отсекаемое продолжением линейного участка кривой выхода на оси времени. Из характеристик, описывающих диффузионный процесс, только две являются независимыми. Традиционно используются эффективный коэффициент диффузии De и коэффициент сорбционного распределения Kd (см3/г):
Kd = (α – ε)/ρт,
где α – коэффициент сорбционной емкости:
α = De/Da,
ρт – плотность скелета образца (г/см3), ε – пористость образца, которую рассчитывали как
ε = 1 – ρт/2.75,
где 2.75 г/см3 – средняя плотность частиц глинистых материалов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Выход в приемник диффузионной ячейки через глинистые образцы наблюдался для элементов: Р, Se, Br, Mo, Cs, U (рис. 2). При сквозной диффузии этих элементов были зафиксированы различные типы кривых выхода, связанные с сопряженными процессами сорбции на глинистых минералах и осаждения в поровом растворе [4, 5]. Цезий через все материалы выходил с сорбционной задержкой от 90 до 130 суток (рис. 2а), после которой диффузия проходила в стационарном режиме (тип 2 кривой выхода по [4, 5]). Наиболее быстрая диффузия цезия, судя по наклону линейного участка кривой выхода, наблюдалась в поровом растворе образца КБ, наиболее медленная – в ТЗ.
Рис. 2. Стационарные участки кривых выхода элементов РАО при сквозной диффузии из модельных выщелатов в присутствии ФС через уплотненные образцы глинистых материалов: а – Cs, б – U, в – Se, г – Mo, д – Br, е – P.
При сквозной диффузии урана (рис. 2б) и селена (рис. 2в) наблюдались признаки осаждения соединений этих элементов из порового раствора. Это учитывалось при оценке концентраций элементов в поровом растворе образцов со стороны источника и расчете усредненных значения разницы концентраций (ΔСt) в источнике и приемнике. При диффузии через материалы КБ и ТБ уран показал небольшую сорбционную задержку (тип 4 кривой выхода), в остальных материалах задержки практически не наблюдалось (тип 3). Самая быстрая диффузия урана была отмечена в образце ТБ, самая медленная – в ТЗ. Селен в трех материалах показал три разных типа сквозной диффузии: в ХБ – с сорбционной задержкой (тип 2), в ТЗ – с осаждением (тип 3), в КВ – с сорбционной задержкой и осаждением (тип 4). В этой последовательности уменьшалась и скорость стационарной диффузии.
Диффузия молибдена (рис. 2г) и брома (рис. 2д) происходила стационарно по типу 1 или с небольшой (в пределах погрешности экспериментов) сорбционной задержкой. Максимальная скорость диффузии для молибдена наблюдалась в образце ТБ, для брома – ТЗ, минимальная: для молибдена – в образце КБ, для брома – КВ. Диффузия фосфора в изученных материалах происходила по типу 2 с сорбционной задержкой от 20 (ХБ) до 170 (КБ) суток. Максимальная скорость диффузии фосфора наблюдалась в образцах ХБ и КВ, минимальная – в образцах КБ и ТЗ.
Результаты расчета диффузионно-сорбционных характеристик элементов РАО в изученных образцах, а также средние значения концентраций элементов в поровых растворах со стороны источника диффузионной ячейки во время стационарной диффузии приведены в табл. 4. Наибольшие значения De, варьирующие в относительно узком диапазоне (0.9–4.2) × 10–7 см2/с), имел цезий. Самые низкие значения De (3.2–5.7) × 10–8 см2/с) были присущи фосфору. Самый широкий диапазон вариации De (3.8 × 10–9–1.6 × 10–7 см2/с) показал уран. Значения De для брома, селена и молибдена находились в интервале между цезием и фосфором.
Таблица 3. Массовая доля смектита в материалах, исходные/конечные массово-габаритные характеристики и влажность образцов для изучения сквозной диффузии
Материал | Массовая доля смектита, Cсм | Толщина образца, L (cм) | Плотность скелета, ρт (г/см3) | Влажность, мас% |
КБ | 0.33 | 0.43/0.40 | 1.47/1.46 | 24/24 |
ТБ | 0.36 | 0.46/0.43 | 1.33/1.31 | 28/29 |
ТЗ | 0.06 | 0.39/0.35 | 1.86/1.98 | 15/12 |
ХБ | 0.71 | 0.31/0.42 | 1.90/0.97 | 14/40 |
КВ | 0.61 | 0.30/0.43 | 1.89/1.22 | 14/31 |
Значимые величины Kd для всех изученных глинистых материалов в модельном фосфатном выщелате имели только цезий (28–86 см3/г) и фосфор (2–12 см3/г). Уран показал в этих условиях значимую сорбцию на материалах КБ (8 см3/г) и ТБ (5 см3/г). Сорбция селена проявилась на бентонитовых материалах ХБ и КВ, молибдена – на материалах КБ и ТБ, содержащих много каолинита, а брома – более всего на милоните ТЗ. Однако значения Kd для этих элементов небольшие, а в некоторых случаях могут находиться в пределах погрешности определения. Погрешность при расчете Kd из данных по сквозной диффузии является нелинейной и зависит не только от погрешности определения tз, но и от величины и погрешности De. Подробности, касающиеся сорбционных характеристик материалов, не обсуждаются детально, так как не являются целью данной работы.
Соотношения скоростей диффузии элементов РАО из фосфатных выщелатов в изученных образцах глинистых материалов показано на рис. 3. В некоторых случаях соотношение скоростей (эффективных коэффициентов) диффузии для некоторых элементов нарушается относительно общих закономерностей, описанных выше. Так наклон кривых выхода урана и брома в образце ТБ близок к наклону кривой для цезия. Выход брома через образец ТЗ значительно превышает выход цезия, а выход молибдена равен выходу цезия, что не проявляется больше ни в одном из образцов. Через образец ХБ молибден выходит гораздо быстрее брома, в остальных образцах соотношение скоростей выхода этих элементов противоположное.
Рис. 3. Стационарные участки кривых выхода элементов РАО при сквозной диффузии из модельного выщелата в присутствии ФС через уплотненные образцы глинистых материалов: а – КБ, б – ТБ, в – ТЗ, г – ХБ, д – КВ.
Приведенные примеры отклонений от общих закономерностей диффузии элементов объясняются геохимическими особенностями состава материалов, в том числе содержанием органического вещества. Данных для описания этого фактора диффузии пока недостаточно, но в будущем его желательно учитывать в численных моделях наряду с выделенными ранее [4, 5] факторами: пористостью образцов, содержанием смектита в материале, концентрацией элементов в поровом растворе. Возможно, влияние геохимического фактора будет целесообразно отразить так же, как особенности солевого состава поровых растворов [5], выделив специфические типы техногенно-геохимических систем.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ранее приводились обзоры литературных данных по экспериментальному определению эффективных коэффициентов диффузии трития (НТО), технеция, цезия, урана и селена [4, 5]. Какие-либо результаты по диффузии молибдена и фосфора в научно-технических публикациях не обнаружены. Из изучаемых элементов РАО большое количество данных имеется по диффузии йода, в качестве химического аналога которого в данной работе был использован бром. Поэтому целесообразно сравнить полученные результаты для брома (табл. 4) с имеющимися в литературе данными для эффективных коэффициентов диффузии йода в поровых растворах глинистых материалов при диффузии из растворов с невысоким солесодержанием.
Таблица 4. Диффузионно-сорбционные характеристики элементов в поровых растворах глинистых материалов
Обозначение эксперимента | Раствор в источнике | Cпор, мг/л | De × 107, см2/с | Kd, см3/г |
Cs | ||||
КБ-1 | СМВ-1 | 0.45 | 4.20 | 84 |
ТБ-1 | СМВ-1 | 0.35 | 2.69 | 58 |
ТЗ-3 | СМВ-3 | 0.27 | 0.91 | 28 |
ХБ-8 | СМВ-8 | 0.093 | 2.75 | 86 |
КВ-8 | СМВ-8 | 0.067 | 1.79 | 53 |
U | ||||
КБ-1 | СМВ-1 | 0.05 | 1.23 | 8 |
ТБ-1 | СМВ-1 | 0.07 | 1.55 | 5 |
ТЗ-3 | СМВ-3 | 0.05 | 0.038 | 0.0 |
ХБ-8 | СМВ-8 | 0.01 | 0.16 | 0.0 |
КВ-8 | СМВ-8 | 0.01 | 0.059 | 0.0 |
Se | ||||
ТЗ-3 | СМВ-3 | 0.038 | 0.59 | – |
ХБ-8 | СМВ-8 | 0.27 | 0.99 | 7 |
КВ-8 | СМВ-8 | 0.10 | 0.45 | 5 |
Мо | ||||
КБ-1 | СМВ-1 | 1.23 | 1.19 | 9 |
ТБ-1 | СМВ-1 | 1.17 | 1.24 | 4 |
ТЗ-3 | СМВ-3 | 0.79 | 0.96 | – |
ХБ-8 | СМВ-8 | 0.47 | 0.88 | 2 |
КВ-8 | СМВ-8 | 0.48 | 0.53 | – |
Br | ||||
КБ-1 | СМВ-1 | 0.54 | 2.11 | 8 |
ТБ-1 | СМВ-1 | 0.54 | 2.34 | 6 |
ТЗ-3 | СМВ-3 | 0.6 | 2.79 | 14 |
ХБ-8 | СМВ-8 | 1.04 | 0.44 | – |
КВ-8 | СМВ-8 | 0.85 | 1.37 | 7 |
Р | ||||
КБ-1 | СМВ-1 | 11 | 0.32 | 12 |
ТБ-1 | СМВ-1 | 10 | 0.41 | 12 |
ТЗ-3 | СМВ-3 | 9 | 0.34 | 8 |
ХБ-8 | СМВ-8 | 39 | 0.52 | 2 |
КВ-8 | СМВ-8 | 52 | 0.57 | 8 |
Результаты сравнения показаны на рис. 4 в зависимости от плотности скелета глинистых материалов, а особенности их минерального состава приведены в подписи к рисунку. Диапазон вариации значений D eI при равных плотностях скелета материалов составляет полтора десятичных порядка, а с учетом изменения плотности скелета материалов – два с половиной порядка. Это соответствует вариации значений De для других элементов [4, 5]. Так же как для других элементов неопределенности оценки значений D eI связаны, с одной стороны, с погрешностью экспериментальных результатов, например, серия данных из работы [10] для одного материала и состава раствора, с другой стороны – с упрощенным модельным представлением результатов в зависимости только от одного из факторов диффузии на фоне широкого спектра минерального и химического составов материалов и некоторых отличий в солевом составе растворов.
Рис. 4. Экспериментальные данные по зависимости эффективных коэффициентов диффузии от плотности скелета глинистых материалов для брома (разные глины, эта работа) и йода: [2] – бентонит MX-80 (США): 88.6% Na-смектита; [10] – Avonlea бентонит (Канада): 80% Na-смектита; [11] – бентонит (Корея); [12] – бентонит GMZ (Китай): 75.4% Na-Ca-монтмориллонита; [13] – Kunipia-P: обогащенный 99.9% Na-монтмориллонит из бентонита Kunigel-V1 (Япония); [14] – Сa-монтмориллонит (95%), полученный из Kunipia-F (95% Na-монтмориллонит из бентонита Kunigel-V1, Япония); [15] – бентонит MX-80 (США): 88.6% Na-смектита.
Результаты, полученные для брома на разных глинах (табл. 4), но в однотипных растворах, лежат в разных частях диапазона значений D eI , что подчеркивает значимость для диффузии других факторов, кроме плотности скелета материалов. Поэтому полученные новые результаты по эффективным коэффициентам диффузии элементов РАО вместе с опубликованными ранее данными были описаны в рамках модели, предложенной в работах [4, 5], в форме зависимостей De от общего фактора диффузии FD (б/р), который суммирует эффект частных факторов: пористости образца (ε, б/р), содержания смектита в образце (Cсм, б/р) и концентрации радионуклида (элемента) в поровом растворе (Спор, мг/л).
Пористость, как показано выше, рассчитывали и
ε = 1 – ρт/2.75,
исходя из плотности скелета материала (ρт, г/см3). Содержание смектита в материале определялось как массовая доля смектитовых минералов по результатам количественного рентгенофазового анализа (табл. 3). За концентрацию радионуклида в поровом растворе принималось ее среднее значение со стороны источника за время стационарной диффузии (Спор, табл. 4). Если при диффузии из модельных растворов разного солевого состава (подземная вода и выщелат ФС) для De элемента могла быть использована общая зависимость, результаты экспериментов для разных систем объединялись (рис. 5).
Рис. 5. Зависимости значений De для элементов РАО при сквозной диффузии в поровых растворах уплотненных глинистых материалов от общего фактора диффузии с учетом данных [4, 5]: а – Cs/(МПВИ+МВ+СМВ), б – U/(МВ+СМВ), в – Se/(МВ+СМВ), г – Mo/(МПВИ+СМВ), д – Br/(МПВИ+МВ+СМВ), е – P/СМВ.
Принципы учета частных факторов для расчета общего фактора диффузии были описаны в работе [4]. Уравнения для расчета общего фактора диффузии в рассматриваемых диффузионных системах и уравнения зависимостей эффективных коэффициентов диффузии элементов от общего фактора диффузии показаны на рис. 5 и в табл. 5. Для расчета значений FD и построения диаграмм зависимости De от FD были использованы экспериментальные данные из табл. 4 и работ [4, 5]. На рис. 5 и в табл. 5. также указаны значения коэффициента достоверности аппроксимации (R2) для уравнений аппроксимации экспериментальных данных по зависимостям De от FD. Наиболее достоверное модельное описание De получилось для НТО (R2 = 0.80), цезия (R2 = 0.83), урана из модельного выщелата ФС (R2 = 0.80) и фосфора (R2 = 0.73), наименее достоверное – для молибдена (R2 = 0.29).
Таблица 5. Уравнения для расчета численных значений общего фактора диффузии (б/р) и эффективных коэффициентов диффузии (см2/с) элементов РАО в поровых растворах глинистых материалов разного солевого состава с учетом данных [4, 5] Se Cs U
Элемент | Модельная подземная водаU | Модельный выщелат ФС |
HTO | F DН ТО = ε (1 – 0.4Ссм) Mo D eН ТО = 5.11 × 10–7 (F DН ТО)0.32 (R2 = 0.80) Se | |
Cs | F DC s = ε (1 – 0.1Cсм) + 0.5Спор D eCs = 7.60 × 10–7 (F DC s)2.09 (R2 = 0.83) | |
U(VI) | F DU = 2ε (1 – 0.7Cсм) – 0.33Спор F eU = 6.53 × 10–8 (F DU )0.48 (R2 = 0.41) | F DU = ε (1 – 0.5Cсм) + 3Спор D eU = 3.00 × 10–6 (F DU )6.80 (R2 = 0.80) |
Se(IV) | F DS e = ε (1 – 0.7Cсм) + 0.5Спор D eS e = 2.29 × 10–7 (F DS e)1.36 (R2 = 0.51) | F DS e = ε (1 – 0.2Cсм) + 0.5Спор D eS e = 1.71·10–7 (F DS e)1.53 (R2 = 0.40) |
Mo | F DM o = ε (1 – 0.7Cсм) + 0.33С пор D eM o = 1.23 × 10–7 (F DM o )0.52 (R2 = 0.29) | |
Br | F DB r = ε (1 – 0.5Cсм) – 0.5Спор D eB r = 5.89 ×10–7 (F DB r )1.46 (R2 = 0.63) P | |
P | – | F DP = ε (1 – 0.2Cсм) + 0.005Спор D eP = 6.11 × 10–8 (F DP )0.61 (R2 = 0.73) |
Полученные результаты показали, что не чувствительными элементами к составу диффузионной системы оказались тритий (вода), цезий, молибден и бром. Эти элементы образуют совершенно разные структурные типы частиц раствора: нейтральную, простой катион, оксоанион и простой анион, соответственно. Объединяет эти частицы невозможность гидролиза и образования комплексов с другими частицами раствора, а также устойчивость в широком диапазоне физико-химических условий.
Диффузионные свойства селена и урана показали зависимость от солевого состава диффузионной системы, поскольку формы их нахождения в растворе очень чувствительны к значениям рН, Еh и присутствию в растворах других ионов, например, кальция, карбонатов, сульфатов, фосфатов. Сложные анионы селенита (НSeO3– и SeO 32 –) и уранила ((UO2)2CO3(OH)3– и UO2(CO3) 34 −) сменяют друг друга при значении рН раствора немного выше 8 [16, 17]. Значения рН модельных растворов находились в интервале 8–9 (табл. 2, [4, 5]), причем для модельной подземной воды значения рН были ближе к 8, а для модельных выщелатов ФС – к 9. То есть даже небольшие изменения значений рН в диффузионных экспериментах могли повлиять на форму преобладающих частиц селена и урана в растворах, а разные частицы водного раствора для одного элемента обладают разными значениями коэффициентов диффузии.
Таким образом, новые данные по эффективным коэффициентам диффузии элементов РАО (P, Se, Br, Mo, Cs, U) в поровых растворах глинистых барьерных материалах, полученные с использованием метода сопряженных процессов, позволили уточнить численные модели диффузионного переноса в зависимости от пористости, минерального состава материалов и концентраций элементов в поровом растворе и подтвердили выявленные ранее закономерности диффузии элементов РАО из разных по солевому составу растворов. Эти результаты показали возможность и перспективность применения более сложных, чем ранние однофакторные модели [18], многофакторных феноменологических моделей диффузионного переноса, в которых учитываются, если не все возможные факторы, теоретически влияющие на диффузию [16], то основные и экспериментально подтверждаемые факторы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты экспериментов по сквозной диффузии радионуклидов и имитаторов элементов РАО в поровых растворах уплотненных глинистых материалов различного минерального состава из разных модельных сред – подземной воды и выщелата фосфатной матрицы, описанные выше и в ранее опубликованных работах [4, 5], показали, что диффузия может сопровождаться сопряженными процессами: растворения–осаждения твердых фаз и сорбции–десорбции элементов на физической поверхности твердых фаз. Растворение матрицы РАО может быть использовано для совершенствования методики диффузионных экспериментов. Применение этого метода в проведенных экспериментах позволило поддержать и даже увеличить концентрации селена, брома, молибдена, цезия, урана в источнике диффузионных ячеек, тем самым расширяя диапазон граничных условий и одновременно стабилизируя их в течение эксперимента, что особенно важно для сильно сорбирующихся и легко осаждающихся элементов.
Новые результаты, полученные благодаря предложенному методу, позволили уточнить численные решения эмпирической модели диффузионного переноса элементов, построенной на основе расчета общего фактора диффузии в зависимости от пористости и содержания смектита в глинистых материалах, а также концентраций элементов в поровом растворе. Были подтверждены выявленные ранее закономерности диффузии разных элементов РАО из разных по солевому составу растворов: чувствительными элементами к составу диффузионной системы оказались селен и уран, а нечувствительными элементами – тритий (вода), цезий, молибден и бром. Это объясняется особенностями строения и физико-химических свойств частиц этих элементов в водных растворах. Предложенные численные модели для прогноза диффузионного переноса элементов РАО в поровых растворах глинистых материалов могут быть использованы для расчетов миграции радионуклидов через защитные инженерные барьеры безопасности и горные породы в условиях объектов захоронения и консервации РАО.
Перспективным направлением для продолжения изучения диффузии элементов в глинистых материалах является расширение круга техногенно-геохимических систем, определяемых как составом других кондиционных матриц для РАО (боросиликатные, цементные матрицы, солевой плав), так и геохимическими особенностями глинистых материалов защитных барьеров и вмещающих горных пород. Другим перспективным направлением является изучение таких возможных сопряженных процессов, как реакции между растворенными частицами, окислительно-восстановительные и электрохимические реакции в растворе и на фазовых границах, биохимические реакции.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
K. V. Martynov
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry
Author for correspondence.
Email: mark0s@mail.ru
Russian Federation, Moscow, 119071
E. V. Zakharova
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences
Email: mark0s@mail.ru
Russian Federation, Moscow, 119071
References
- Garcia-Gutierrez M., Cormenzana J.L., Missana T., Mingarro M., Molinero J. // J. Iber. Geol. 2006. Vol. 32. N 1. P. 37.
- Wolfrum C., Lang H., Moser H., Jordan W. // Radiochim. Acta. 1988. Vol. 44/45. Р. 245.
- Lee C.-P., Hu Y., Chen D., Wu E., Wang Z., Wen Z., Tien N.-C., Yang F., Tsai S.-C., Shi Y., Liu Y.-L. // Materials. 2021. Vol. 14. N 22. P. 7056.
- Мартынов К.В., Коневник Ю.В., Захарова Е.В. // Радиохимия. 2023. Т. 65. № 4. С. 364.
- Martynov K.V., Zakharova E.V. // Radiochemistry. 2024. Vol. 66. N 2. P. 212–226.
- Вашман А.А., Демин А.В., Крылова Н.В., Кушников В.В., Матюнин Ю.И., Полуэктов П.П., Поляков А.С., Тетерин Э.Г. // Фосфатные стекла с радиоактивными отходами / Под ред. А.А. Вашмана, А.С. Полякова. – М.: ЦНИИатоминформ, 1997. – 172 с.
- Кочкин Б.Т., Мальковский В.И., Юдинцев С.В. Научные основы оценки безопасности геологической изоляции долгоживущих радиоактивных отходов (Енисейский проект). – М.: ИГЕМ РАН, 2017. – 384 с.
- Абрамов А. А., Большов Л. А., Дорофеев А. Н., Игин И. М., Казаков К. С., Красильников В. Я., Линге И. И., Трохов Н. Н., Уткин С. С. // Радиоактивные отходы. 2020. №1 (10). С. 9.
- Мартынов К.В., Захарова Е.В. // Радиоактивные отходы. 2023. № 2 (23). С. 63.
- Oscarson D. W., Hume H. B., Sawatsky N. G., H. Cheung S. C. // Soil Sci. Soc. Am. J. 1992. Vol. 56. N 5. P. 1400.
- Lee J.O., Cho W.J., Hahn P.S., Park H.H. // J. Korean J. Korean Nucl. Soc. 1994. Vol. 26. N 2. P. 285.
- Wu T., Li J., Dai W., Xiao G.-P., Shu F.-J., Yao J., Su Y.-L., Shi L. // Sci. China Chem. 2012. Vol. 55. P. 1760.
- Tachi Y., Yotsuji K. // Geochim. Cosmochim. Acta. 2014. Vol. 132. P. 75.
- Fukatsu Y., Yotsuji K., Ohkubo T., Tachi Y. // Appl. Clay Sci. 2021. Vol. 211. Art. 106176.
- Tsai T.-L., Tsai S.-C., Chang D.-M., Cheng W.-H. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2021. Vol. 330. P. 1317.
- Wang C., Myshkin V. F., Khan V. A., Panamareva A. N. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2022. Vol. 331. P. 3401.
- Wang Z., Wang H., Li O., Xu M., Guo Y., Li J., Wu T. // Appl. Geochem. 2016. Vol. 73. P. 1.
- Ochs M., Lothenbach B., Wanner H., Sato H., Yui M. // J. Contam. Hydrol. 2001. Vol. 47. P. 283.
Supplementary files