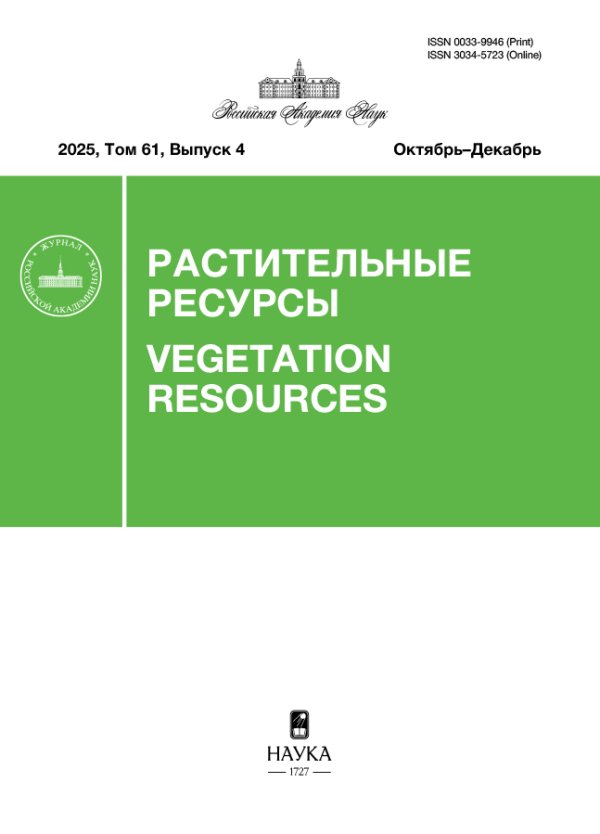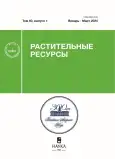Component compoition of the aerial parts Centaurea (Asteraceae) species from Siberia and Central Asia
- Authors: Kasterova E.A.1, Revushkin A.S.2, Ebel A.L.2,3
-
Affiliations:
- Russian State Agrarian University, Moscow Timiryazev Agricultural Academy
- National Research Tomsk State University
- Central Siberian Botanical Garden SB RAS
- Issue: Vol 60, No 1 (2024)
- Pages: 104-111
- Section: Component Composition of Resource Species
- URL: https://journal-vniispk.ru/0033-9946/article/view/258204
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033994624010072
- EDN: https://elibrary.ru/HAXLDJ
- ID: 258204
Cite item
Full Text
Abstract
The component composition of 6 species of the genus Centaurea L. s.l. (C. gontscharovii Iljin, C. modesti Fed., C. phyllopoda Iljin, C. ruthenica Lam., C. scabiosa L., C. sibirica L.) growing in Siberia and Central Asia was studied. For the species C. modesti, C. phyllopoda, C. gontscharovii, the component composition was determined for the first time. Using high performance liquid chromatography (HPLC), 24 phenolic compounds were identified in the aerial parts of the studied species, of which 15 are flavonoids, and 9 are phenolic acids. Ethyl gallate was identified in all studied species. For Central Asian species, except for C. gontscharovii, the presence of avicularin, baicalin, and apigenin is characteristic. Gallic acid was identified in all species except C. sibirica. Chlorogenic acid was characteristic of all species except C. modesti. Syringin, salipurposide, avicularin, baicalin, and apigenin were found in C. ruthenica and C. phyllopoda. Dihydromyricitin was identified in C. ruthenica from Kazachstan only, eriodictyol and ellagic acid were identified in C. scabiosa, and fumaric and salicylic acids were identified in C. phyllopoda. In the studied species, the content of phenolic compounds in terms of dry raw materials was 0.6–6.7%.
Keywords
Full Text
Род Centaurea L. s.l. (василек) включает около 550 видов и является одним из наиболее крупных родов семейства Asteraceae. Виды рода широко распространены в Европе, Азии, в Северной Америке, Африке, 1 вид – в Австралии [1, 2]. На территории Средней Азии встречаются 27 видов васильков, в Сибири – всего 14 видов [3–6]. Виды рода Centaurea произрастают на остепненных разнотравных лугах, на щебнистых и каменистых склонах, в зарослях кустарников, на лесных опушках, являясь непривередливыми, они зачастую встречаются вдоль дорог, на залежах и сорных местах [4, 5].
По своей биологической активности наиболее важными идентифицированными соединениями, выделенными из растений рода Centaurea, являются флавоноиды, их многочисленные водорастворимые гликозиды, сесквитерпеновые лактоны, лигнаны и алкалоиды [7]. Благодаря своему компонентному составу, васильки активно используются в народной медицине при лечении заболеваний нервной системы, болезней печени, при диарее, экземе. В Средней Азии отвары васильков применяют как желчегонные средства при желтухе, они используются для полоскания горла, а также наружно при растяжении мышц и сухожилий. В эксперименте показаны антиоксидантная, антибактериальная, антивирусная, противоопухолевая, противовоспалительная, противоязвенная активность видов рода Centaurea [7].
Несмотря на широкое применение в народной медицине, сведения о составе вторичных метаболитов видов рода Centaurea являются неполными. Согласно литературным данным, во всех изученных видах обнаружены фенольные соединения (флавоноиды, фенолокислоты) [7, 8]. В азиатских видах рода Centaurea изучены преимущественно сесквитерпеновые лактоны [9, 10].
Для 14 сибирских видов рода Centaurea в литературе имеются фрагментарные данные по компонентному составу только 6 видов. Так, в C. sibirica L. ранее было идентифицировано только одно соединение – кверцимеритрин, в C. pseudomaculosa Dobrocz. – сальвигенин и эупаторин [7, 8, 11, 12]. Для 4 видов (C. cyanus L., C. jacea L., C. ruthenica Lam., C. scabiosa L.) идентифицирован ряд общих фенольных соединений: хлорогеновая кислота, апигенин и гиспидулин. В C. cyanus, C. ruthenica, C. scabiosa идентифицированы кофейная и феруловая кислоты, лютеолин; в C. cyanus и C. ruthenica – неохлорогеновая кислота, кемпферол и кверцетин; в C. cyanus и C. scabiosa – салициловая, n-кумаровая кислоты, рутин и апигенин; в C. jacea и C. ruthenica – яцеозидин и аксилларин [7, 8, 13–18]. Имеются сведения о количественном содержании флавоноидов у C. cyanus (2.3–4.1%), C. jacea (0.48–0.93%), C. scabiosa (1.3–2.8%) [14, 15, 19–22]. Более подробного изучения компонентного и количественного состава фенольных соединений сибирских видов не проводилось.
Для 27 видов васильков, распространенных на территории Средней Азии, имеются данные о составе фенольных соединений только 8 видов, 3 из которых характерны и для территории Сибири (C. cyanus, C. scabiosa, C. sibirica). Компонентный состав флавоноидов изученных видов разнообразен, общими для C. arenaria M. Bieb. ex Willd., C. iberica Trevir. ex Spreng., C. ruthenica, C. depressa M. Bieb. является апигенин; для C. arenaria и C. iberica – эупаторин; для C. iberica и C. depressa – скутеллареин, скутелларин; для C. iberica, C. ruthenica, C. depressa – кверцетин, для C. iberica, C. ruthenica – лютеолин. Флавоноиды, идентифицированные в C. solstitialis L. (ориентин, гомоориентин, шафтозид), не были обнаружены в других видах [7, 8, 14, 23]. Отсутствуют данные об уровне содержания флавоноидов в среднеазиатских видах.
В связи с отсутствием данных о флавоноидах среднеазиатских видов (C. modesti Fed., C. phyllopoda Iljin, C. gontscharovii Iljin) и тем, что сведения о компонентном составе сибирских видов (C. scabiosa, C. sibirica) носят фрагментарный характер, фитохимическое изучение перечисленных выше видов является актуальным.
Цель настоящего исследования – изучение и сравнение состава и содержания фенольных соединений в надземных частях 6 видов рода Centaurea, собранных на территории Республики Алтай и Средней Азии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для исследований служили надземные части 6 видов рода Centaurea (C. gontscharovii, C. modesti, C. phyllopoda, C. ruthenica, C. scabiosa, C. sibirica). Сбор материала проводили в период массового цветения растений, в зависимости от местонахождения и вида сбор проходил с начала июня до конца июля 2016–2018 гг. Образцы были собраны из ценопопуляций (ЦП), находящихся в удаленных районах на территории России (Республика Алтай), Казахстана и Таджикистана (табл. 1).
Таблица 1. Местоположение изученных ценопопуляций (ЦП) видов рода Centaurea L. s.l.
Table 1. The location of the studied coenopopulations (CP) of Centaurea L. s.l. species
№ ЦП № CP | Вид Species | Характеристика ЦП Location of the coenopoulation | Координаты Coordinates |
1 | C. gontscharovii | Таджикистан, ущелье р. Ходжигалтон Tajikistan, Khojigalton river gorge | 37° 49´N 70° 06´E |
2 | C. modesti | Казахстан, окр. Алматы Kazakhstan, suburbs of the city of Almaty | 43° 05´N 76° 57´E |
3 | C. phyllopoda | Казахстан, Южно-Казахстанская обл. (= Туркестанская обл.), бас. р. Боралдай Kazakhstan, South Kazakhstan Region (= Turkestan Region), River Bordalai basin | 42° 50´N 70° 03´E |
4 | C. ruthenica | Казахстан, Угамский хребет, ю-з склон Kazakhstan, Ugam Range, South-West slope | 42° 07´N 70° 19´E |
5 | C. ruthenica | Таджикистан, Гиссарский хребет, Зиддинская котловина Tajikistan, Gissar Range, Zidda basin | 39° 07´N 68° 53´E |
6 | C. scabiosa | Республика Алтай, Онгудайский район, среднее течение р. Б. Ильгумень, луговая степь Republic of Altai, Ongudaysky District, middle reaches of the river Bolshoy Ilgumen, meadow steppe | 50° 37´N 86° 25´E |
7 | C. sibirica | Республика Алтай, Онгудайский район, среднее течение р. Б. Ильгумень, луговая степь Republic of Altai, Ongudaysky District, middle reaches of the river Bolshoy Ilgumen, meadow steppe | 50° 37´N 86° 25´E |
Образцы растений высушивали в естественных условиях до воздушно-сухого состояния и измельчали. Точную навеску измельченного воздушно-сухого сырья трехкратно экстрагировали 70%-м этиловым спиртом на водяной бане при температуре 55°С. Полученные экстракты концентрировали под вакуумом с помощью ротационного испарителя (“IKA RV 10 digital”, Германия), центрифугировали. Влажность сырья определяли на анализаторе влажности (“ANB ML-50”, Япония).
Определение компонентного состава и содержания фенольных соединений в этанольных экстрактах осуществляли методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на жидкостном хроматографе Shimadzu LC-20AD (Япония) с диодно-матричным детектором и колонкой Perfect Sil Target ODS-3; элюирование проводили смесью ацетонитрила, изопропилового спирта (5:2) и 0.1%-го раствора трифторуксусной кислоты, градиент от 15 до 35% от 0 до 40 мин. Скорость элюирования 1 мл/мин. Объем пробы 5 мкл. Реконструкцию хроматограмм проводили при длинах волн λmax = 254, 272 нм. Содержание флавоноидов в образцах определяли методом внешнего стандарта как оптимального при хроматографическом анализе многокомпонентных смесей. В работе использованы коммерческие образцы веществ сравнения, содержание основного компонента более 95% (Lachema, Huike Phytopharm, Geneham Pharmaceutical, Sigma Aldrich).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Все полученные экстракты надземных частей исследованных видов рода Centaurea содержат соединения фенольной природы. Максимальное количество изученных вторичных метаболитов (6.7%) обнаружено в C. ruthenica, собранном на территории Таджикистана, а минимальное (0.6%) – в C. gontscharovii. В экстрактах остальных изученных видов суммарное содержание фенольных соединений составляет 2–4% (табл. 2).
Таблица 2. Состав и содержание (%, масс.) фенольных соединений некоторых видов рода Centaurea L. s.l. (% на абс. сух. сырье)
Table 2. Composition and content (%) of phenolic compounds in some Centaurea L. s.l. species (% in oven-dry weight basis)
№ № | Соединение Compound | C. ruthenica (ЦП 4 / CP 4) | C. ruthenica (ЦП 5/ CP 5) | C. phyllopoda | C. modesti | C. gontscharovii | C. scabiosa | C. sibirica |
1 | Сирингин / Syringin | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | |||
2 | Ориентин / Orientin | 0.06 | 0.02 | |||||
3 | Дигидромирицетин / Dihydromyricetin | 0.08 | ||||||
4 | Этилгаллат / Ethyl gallate | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.003 | 0.03 | 0.06 |
5 | Салипурпозид / Salipurposide | 0.02 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.09 | ||
6 | Цинарозид / Cynaroside | 0.69 | 0.13 | 0.05 | ||||
7 | Дигидрокверцетин / Dihydroquercetin | 0.06 | 0.59 | 0.02 | ||||
8 | Изокверцитрин / Isoquercetin | 0.12 | 0.02 | 0.07 | ||||
9 | Нарингенин / Naringenin | 0.003 | 0.01 | 0.01 | ||||
10 | Авикулярин / Avicularin | 0.15 | 0.88 | 0.91 | 0.2 | |||
11 | Хризин-7-0-глюкозид / Chrysin-7-0-glucoside | 0.21 | 0.05 | 0.004 | 0.15 | |||
12 | Мирицетин / Myricetin | 0.24 | 0.21 | |||||
13 | Байкалин / Baicalin | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||
14 | Эриодиктиол / Eriodictyol | 0.01 | ||||||
15 | Апигенин / Apigenin | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.11 | |||
16 | Галловая кислота / Gallic acid | 0.18 | 0.3 | 0.23 | 0.67 | 0.08 | 0.21 | |
17 | Фумаровая кислота / Fumaric acid | 0.16 | ||||||
18 | Хлорогеновая кислота / Chlorogenic acid | 0.17 | 0.13 | 0.9 | 0.09 | 0.09 | 0.9 | |
19 | n-Оксибензойная кислота / n-Oxybenzoic acid | 0.06 | 0.21 | 0.1 | 0.09 | |||
20 | Кофейная кислота / Caffeic acid | 0.04 | 0.51 | 0.07 | ||||
21 | Феруловая кислота / Ferulic acid | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | |||
22 | Эллаговая кислота / Ellagic acid | 0.1 | ||||||
23 | Салициловая кислота / Salicylic acid | 0.0004 | ||||||
24 | Коричная кислота / Cinnamic acid | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | ||
Суммарное содержание гидроксикоричных кислот / Total hydroxycinnamic acids content | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | |
Суммарное содержание флавоноидов / Total flavonoids content | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | |
Примечание: данные представлены в виде среднего арифметического значения, стандартная ошибка составляет ± 0.001–0.01.
Notes: data are expressed as arithmetic mean, standard error is ± 0.001–0.01.
Методом ВЭЖХ в надземных частях 6 видов васильков идентифицировано 24 соединения, 15 из которых являются флавоноидами, а 9 – фенолкарбоновыми кислотами (табл. 2). Во всех изученных видах идентифицирован этилгаллат.
Хроматографический анализ экстрактивных компонентов рассматриваемых видов васильков показывает, что наиболее близкими по компонентному составу фенольных соединений являются C. ruthenica (ЦП 4) и C. phyllopoda. В экстрактах этих видов идентифицированы сирингин, салипурпозид, авикулярин, байкалин и апигенин (табл. 2; рис. 1, 2). Отметим, что C. gontscharovii отличается от других видов рода Centaurea, встречающихся на территории Средней Азии, тем, что не содержит авикулярин, байкалин и апигенин.
Рис. 1. Хроматограмма этанольного экстракта надземной части Centaurea ruthenica (ЦП 4) при длине волны 272 нм.
По горизонтали: время удерживания, мин; по вертикали: единица оптической плотности, mAU. 1 – галловая кислота, 2 – сирингин, 3 – хлорогеновая кислота, 4 – п-оксибензойная кислота, 5 – дигидромирицетин, 6 – этилгаллат, 7 – цинарозид, 8 – нарингенин, 9 – апигенин.
Fig. 1. Chromatogram of ethanol extract of the aerial part of C. ruthenica (CP 4) at a wavelength of 272 nm.
X-axis – retention time, min; y-axis – absorbance unit, mAU. 1 – gallic acid, 2 – syringin, 3 – chlorogenic acid, 4 – p-oxybenzoic acid, 5 – dihydromyricetin, 6 – ethyl gallate, 7 – cynaroside, 8 – naringenin, 9 – apigenin.
Анализ компонентного состава фенолкарбоновых кислот показал, что во всех видах, кроме C. sibirica, идентифицирована галловая кислота, а хлорогеновая кислота характерна для всех видов, кроме C. modesti. Для трех видов (C. ruthenica из ЦП 5, C. modesti и C. scabiosa) характерно наличие феруловой и коричной кислот. Отметим, что дигидромирицитин идентифицирован только в C. ruthenica из ЦП 4, эриодиктиол и эллаговая кислота – только в C. scabiosa, а фумаровая и салициловая кислоты – только в C. phyllopoda.
Рис. 2. Хроматограмма этанольного экстракта надземной части Centaurea phyllopoda (детектирование при длине волны 272 нм).
По горизонтали: время удерживания, мин; по вертикали: единица оптической плотности, mAU. 1 – галловая кислота, 2 – фумаровая кислота, 3 – хлорогеновая кислота, 4 – п-оксибензойная кислота, 5 – этилгаллат, 6 – авикулярин, 7 – байкалин, 8 – апигенин.
Fig. 2. Chromatogram of ethanol extract of the aerial part of Centaurea phyllopoda at a wavelength of 272 nm.
X-axis – retention time, min; y-axis – absorbance unit, mAU. 1 – gallic acid, 2 – fumaric acid, 3 – chlorogenic acid, 4 – p-oxybenzoic acid, 5 – ethyl gallate, 6 – avicularin, 7 – baiсalin, 8 – apigenin.
Суммарное содержание флавоноидов, в пересчете на рутин, в надземных частях исследованных видов составило 0.11–1.65%. Максимальное содержание флавоноидов обнаружено в C. ruthenica и C. phyllopoda (1.65 и 1.13% соответственно), а минимальное (0.11%) – в C. gontscharovii.
Изучение содержания идентифицированных индивидуальных компонентов показало, что ряд видов может служить источником цинарозида (C. ruthenica из ЦП 4), дигидрокверцетина (C. scabiosa), авикулярина (C. ruthenica из ЦП 5; C. phyllopoda) и апигенина (C. ruthenica из ЦП 5). В качестве источника гидроксикоричных кислот можно рекомендовать виды C. ruthenica из ЦП 5; C. phyllopoda и C. sibirica. Анализ компонентного состава показал, что C. modesti отличается максимальным содержанием галловой кислоты, C. phyllopoda и C. sibirica – хлорогеновой кислоты, а C. ruthenica из ЦП 5 – кофейной кислоты.
Выявлено существенное различие в содержании флавоноидов и гидроксикоричных кислот в сырье (надземных частях) C. ruthenica из разных регионов. Образец, собранный на территории Казахстана (C. ruthenica, ЦП 4), отличается низким уровнем флавоноидов – 0.9% и гидроксикоричных кислот – 0.5%. В то же время образец из Таджикистана (C. ruthenica, ЦП 5) содержит 1.6% флавоноидов и 1.3% гидроксикоричных кислот. Сырье C. ruthenica из Таджикистана отличалось наличием коричной кислоты. Несмотря на это, указанные образцы близки по компонентному составу, так, в обоих идентифицирован ряд кислот: галловая, хлорогеновая, поксибензойная, кофейная и феруловая. Общими для обоих ценопопуляций C. ruthenica являются этилгаллат, авикулярин, байкалин и апигенин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) изучен компонентный состав надземных частей 6 видов рода Centaurea L. s.l. (C. gontscharovii Iljin, C. modesti Fed., C. phyllopoda Iljin, C. ruthenica Lam., C. scabiosa L., C. sibirica L.), произрастающих на территории Сибири и Средней Азии. Компонентный состав и содержание фенольных соединений азиатских видов C. modesti, C. phyllopoda и C. gontscharovii изучен впервые.
Показано, что C. ruthenica из Республики Таджикистан и C. phyllopoda являются перспективными источниками флавоноидов и гидроксикоричных кислот. Изученные азиатские виды перспективны в качестве источников индивидуальных соединений, таких как авикулярин, апигенин и байкалин. У C. ruthenica из Таджикистана суммарное содержание соединений фенольной природы заметно выше по сравнению с другими изученными видами. Сравнение компонентного состава C. ruthenica из разных регионов свидетельствует о том, что важным фактором в накоплении вторичных метаболитов является климат, в частности количество осадков, влажность и высота над уровнем моря. Это положение нуждается в дальнейшем изучении и подтверждении.
Для территории Сибири вид C. scabiosa является потенциальным источником флавоноидов, в частности дигидрокверцетина, а C. sibirica – гидроксикоричных кислот, в частности хлорогеновой кислоты. Отметим, что C. sibirica и C. phyllopoda содержат одинаковое количество хлорогеновой кислоты – 0.9%. Ранее у C. sibirica был идентифицирован только кверцимеритрин. Наши исследования показали, что в надземных частях этого вида накапливаются еще 5 флавоноидов: этилгаллат, салипурпозид, дигидрокверцетин, изокверцитрин и мирицетин.
About the authors
E. A. Kasterova
Russian State Agrarian University, Moscow Timiryazev Agricultural Academy
Author for correspondence.
Email: evgenia.kasterova@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
A. S. Revushkin
National Research Tomsk State University
Email: evgenia.kasterova@yandex.ru
Russian Federation, Tomsk
A. L. Ebel
National Research Tomsk State University; Central Siberian Botanical Garden SB RAS
Email: evgenia.kasterova@yandex.ru
Russian Federation, Tomsk; Novosibirsk
References
- Kirpichnikov M.E. 1981. [Family Compositae or Asteraceae]. – In: [Plant life: Flowering plants]. Vol. 5, part 2. Moscow. Р. 462–475. http://plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000033/st047.shtml (In Russian)
- Kamelin R.V. 2000. [Compositae (overview of the system)]. St. Petersburg; Barnaul. 60 р. (In Russian)
- Klokov M.V. 1963. Centaurea L. – In: [Flora of the USSR]. Vol. 28. Moscow; Leningrad. P. 380–579. (In Russian)
- Zhirova O.S. 1997. Centaurea L. – In: [Flora of Siberia]. Vol. 13. Novosibirsk. P. 231–240. (In Russian)
- Zuev V.V. Centaurea L. – In: [summary of Siberian flora: Vascular plants]. 2005. Novosibirsk. P. 217–218. (In Russian)
- Vvedenskij A.I., Kamelin R.V. 1993. [Key to plants of Central Asia (critical summary of flora)]. Vol. 10. 692 р. (In Russian)
- [Plant Resources of Russia: Wild flowering plants and their component composition and biological activity. Family Asteraceae (Compositae)]. 2013. Vol. 5. St. Petersburg; Moscow. 312 р. (In Russian)
- Lar’kina M.S., Kadyrova T.V., Ermilova E.V. 2011. [Phenolic compounds of Centaurea species of global flora (review)]. – Khimija rastitel’nogo syr’ja. 4: 7–14. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17289461 (In Russian)
- Shakeri A., Amini E., Asili J., Masullo M., Piacente S., Iranshahi M. 2018. Screening of several biological activities induced by different sesquiterpene lactones isolated from Centaurea behen L. and Rhaponticum repens (L.) Hidalgo. – Nat. Prod. Res. 32(12): 1436–1440. https://doi.org/10.1080/14786419.2017.1344661
- Shakeri A., Masullo M., Bottone A., Asili J., Emami SA., Piacente S., Iranshahi M. 2018. Sesquiterpene lactones from Centaurea rhizantha C.A. Meyer. – Nat. Prod. Res. 33(14): 1478–6427. https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1483926
- Adekenov S.M., Kadirbelina G.M., Sadykova V.I. 1986. [Biologically active compounds of Centaurea pseudomaculosa]. – Bulletin of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR. Chemical series. 3: 65–69. (In Russian)
- Bubenchikov V.N., Litvinenko V.I., Popova T.P. 1992. [Phenolic compounds of Centaurea pseudomaculosa]. – Chem. Nat. Compd. 28(5): 507. https://doi.org/10.1007/BF00630667
- Minaeva V.G. 1970. [Medicinal plants of Siberia]. Novosibirsk. 282 p. (In Russian)
- Larkina M.S., Kadirova T.V., Koval V.V., Ermilova E.V., Usubov M.V. 2012. [Flavonoids of the aerial parts of Centaurea scabiosa L.]. – Khimija rastitel’nogo syr’ja. 4: 175–180. https://elibrary.ru/item.asp?id=18834506 (In Russian)
- Lar’kina M.S., Kadyrova T.V., Ermilova E.V., Krasnov E.A. 2009. Quantitative determination of flavonoids from the aerial part of greater knapweeed (Centaurea scabiosa L.). – Khimiko-Farmatsevticheskii Zhurnal. 43(6): 320–323. https://doi.org/10.1007/s11094-009-0295-y
- Escher G.B., Santos J.S., Rosso N.D., Marques M.B., Azevedo L., do Carmo M.A.V., et al. 2018. Chemical study, antioxidant, anti-hypertensive, and cytotoxic/cytoprotective activities of Centaurea cyanus L. petals aqueous extract. – Food Chem. Toxicol. 118: 439–453. https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.05.046
- Forgo P., Zupkó I., Molnár J., Vasas A., Dombi G., Hohmann J. 2012. Bioactivity-guided isolation of antiproliferative compounds from Centaurea jacea L. – Fitoterapia. 83(5): 921–925. https://doi.org/10.1016/j.fitote.2012.04.006
- Boldizsár I., Füzfai Z., Tóth F., Sedlák E., Borsodi L., Molnár-Perl I. 2010. Mass fragmentation study of the trimethylsilyl derivatives of arctiin, matairesinoside, arctigenin, phylligenin, matairesinol, pinoresinol and methylarctigenin: their gas and liquid chromatographic analysis in plant extracts. – J. Chromatogr A. 1217: 1674–1682. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2010.01.019
- Podolina E.A., Khanina M.A., Rudakov O.B., Nebolsin A.E. 2018. Ultrasonic extraction and UV spectrophotometric determination of the amount of flavonoids and tanning agents in the above-ground part of a bluebottle. – Proc. of Voronezh State University. Ser.: Chem. Biol. Pharm. 2: 28–35.
- http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/chembio/2018/02/2018–02–04.pdf (In Russian)
- Lisyanskaya D.K., Khanina M.A., Rodin A.P. 2016. [Aspects of a pharmacognostic study of Centaurea cyanus L.]. – In: [Student science for the Moscow Region: Proc. of the Int. sci. conf. of young scientists]. P. 390–394. (In Russian)
- Kadyrova T.V., Ermilova E.V., Larkina M.S. 2014. Antioxidant activity of the extracts from Centaurea jacea L. and Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. – Khimija rastitel’nogo syr’ja. 2: 143–146. https://doi.org/10.14258/jcprm.1402143 (In Russian)
- Vagabova F.A., Radzhabov G.K., Musaev A.M. 2017. Variability of the content of phenolic compounds of some species of blue cornflower family from natural populations of Daghestan. – International Research Journal. 12: 6–10. https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.66.015 (In Russian)
- Csapi B., Hajdu Z., Zupko I., Berenyi A., Forgo P., Szabo P., Hohmann J. 2010. Bioactivity-guided isolation of antiproliferative compounds from Centaurea arenaria. – Phytother. Res. 24(11): 1664–1669. https://doi.org/10.1002/ptr.3187
Supplementary files