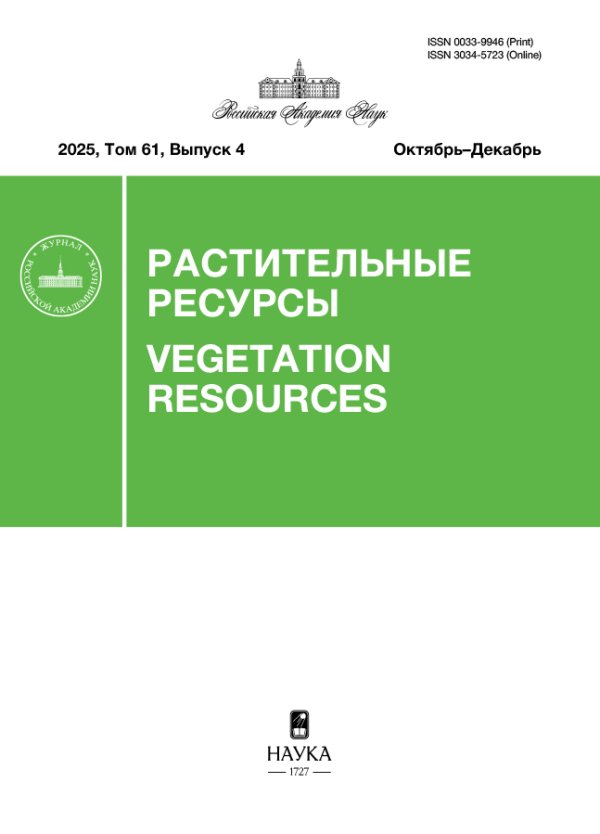Significance of Biologically Active Compounds in Plants for Increasing Their Self-Resistance to Unfavorable Abiotic Impacts
- Authors: Vasfilova E.S.1
-
Affiliations:
- Russian Academy of Scienses, Ural Branch, Institute Botanic Garden
- Issue: Vol 60, No 3 (2024)
- Pages: 3-20
- Section: REVIEWS
- URL: https://journal-vniispk.ru/0033-9946/article/view/277266
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033994624030013
- EDN: https://elibrary.ru/PUGUUO
- ID: 277266
Cite item
Full Text
Abstract
Various abiotic stresses universally affect metabolic processes in plants, significantly limiting their growth and reducing productivity. They can be caused by various factors: extreme temperatures, drought, salinity, UV radiation, heavy metals. Plants, as organisms deprived of mobility, have developed complex and well-organized regulatory mechanisms of adaptation and resistance to abiotic stress conditions, complex alternative defense strategies. They can vary for different plant species, depend on the nature and severity of stress and include the use of the various biologically active compounds as tools to overcome stress conditions and increase plant resistance to adverse environmental influences. These include compounds of both primary metabolism (oligo- and polysaccharides and their derivatives, polyols, amino acids) and secondary metabolism (terpenoids, phenolic compounds – flavonoids, phenolic acids, etc.). These compounds are active antioxidants and provide protection against oxidative damage resulting from various abiotic stresses. They are able to remove and inhibit the formation of reactive oxygen species (ROS), activate antioxidant enzymes, reduce the activity of oxidative enzymes, which leads to a decrease in peroxidation of cell membranes; protect cell structures and important biological macromolecules (proteins, lipids, nucleic acids), which are of great physiological importance for maintaining normal plant life. These compounds are characterized by an active role in providing osmotic adaptation, some of them can effectively replace water molecules, stabilizing the cellular structure through hydrophilic interactions and hydrogen bonds and providing plant resistance to salinity and water deficiency. These biologically active compounds also function as primary signaling molecules and regulate signals that control the expression of many genes and enzymes involved in metabolic processes and associated with stress resistance. Some, such as flavonoids, counteract the negative effects of UV radiation by acting as internal light filters to protect chloroplasts and other organelles from damage. Flavonoids also show the ability to provide protection against stress caused by the accumulation of heavy metals by chelating them and reducing their toxicity. In general, various groups of bioactive compounds are important for combating the weakening and cessation of plant physiological activity, including all key processes such as photosynthesis, biosynthesis of photosynthetic pigments, electron transport, protein synthesis, lipid metabolism, water metabolism and others. Under various environmental stresses, they play an important role in adaptation, ensuring the survival, stability and competitiveness of plants in response to environmental impacts over the life course.
Full Text
Абиотический стресс значительно влияет на рост и продуктивность растений и является основной причиной значительного снижения урожайности и общего производства основных сельскохозяйственных культур во всем мире соответственно на 70 и 50% [1]. Амплитуда абиотических стрессов резко возросла в последние годы, главным образом из-за антропогенного воздействия. Изменение климата и неправильное землепользование усугубили деградацию земель [2]. Кроме того, появилась настоятельная необходимость вовлечения в сельскохозяйственный оборот более засушливых и засоленных территорий, чтобы удовлетворить растущие потребности в продовольствии, особенно в развивающихся странах [3].
Абиотические стрессы могут быть вызваны различными факторами: экстремальными температурами, засухой, засолением, УФ-излучением, тяжелыми металлами, которые ограничивают рост и изменяют химический и компонентный состав растений [4, 5]. Эти неблагоприятные воздействия нарушают баланс между генерацией и уничтожением активных форм кислорода (АФК, Reactive oxygen species — ROS) и усиливают их распространение, что повреждает жизненно важные макромолекулы (нуклеиновые кислоты, белки, углеводы и липиды) и в конечном итоге приводит к гибели клеток [1]. АФК включают как свободнорадикальные формы (супероксид-анион-радикал, O2—) гидроксильный радикал OH•, пергидроксирадикал HO2•, алкоксирадикалы RO•), так и нерадикальные (молекулярные) формы (перекись водорода H2O2 и синглетный кислород 1O2). В нормальных условиях потенциально токсичные метаболиты кислорода генерируются на низком уровне и существует баланс между выработкой и подавлением АФК. Они играют в растениях две разные роли; в низких концентрациях действуют как сигнальные молекулы, которые опосредуют некоторые реакции в клетках растений, включая реакции на стресс. Однако различные экологические стрессы нарушают клеточный гомеостаз и усиливают накопление АФК. Количество АФК, вырабатываемых в результате «окислительного взрыва», может превысить способности систем их улавливания, что приводит к накоплению высоких уровней внутриклеточных АФК [6]. Это вызывает окислительное повреждение липидов мембран (приводит к изменению внутренних свойств мембран, таких как текучесть), нуклеиновых кислот, ингибирование синтеза белков, потерю активности ферментов, необратимое нарушение работы других метаболических структур, что в конечном итоге приводит к гибели клеток [7].
Чтобы избежать окислительного повреждения, растения выработали различные механизмы восстановления, включая ферментативные (супероксиддисмутаза, каталаза, аскорбатпероксидаза, и др.) и неферментативные (сахара, некоторые аминокислоты, фенольные соединения — фенольные кислоты, флавоноиды и т. п.) системы антиоксидантной защиты. Эти системы, действуя совместно, контролируют каскады окисления и защищают растительные клетки от повреждения путем удаления АФК [8–10]. Антиоксидантные метаболиты накапливаются в клетках мезофилла, хлоропластах и митохондриях, которые могут серьезно пострадать от АФК [2].
Растения, как организмы, лишенные мобильности, развили сложные и хорошо организованные регуляторные механизмы адаптации и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессовым условиям, сложные альтернативные стратегии защиты. Они могут быть различными для разных видов растений, зависеть от характера и тяжести стресса [4] и включать использование разнообразных биологически активных соединений (БАС) в качестве инструментов для преодоления стрессовых состояний. Следует отметить мнение ряда исследователей о том, что увеличение в условиях абиотического стресса содержания определенных БАС может также положительно повлиять на ценность сельскохозяйственных культур и ряда растительных продуктов, поскольку такие метаболиты часто имеют большое значение как полезные для здоровья соединения в питании человека [11, 12].
Естественная стрессоустойчивость — это очень сложный процесс, который нельзя объяснить действием молекул какого-то одного вида или единственного механизма [13]. Защитные реакции растений, как правило, носят многокомпонентный характер. Механизмы адаптации к условиям окружающей среды, основанные на активации специфических физиологических и молекулярных реакций, приводят к изменениям в метаболизме растений с целью минимизировать повреждения, вызванные стрессом, обеспечить защиту и выживание вида в специфических условиях. Под действием абиотического стресса меняется первичный метаболизм. Среди первичных метаболитов сахара, сахарные спирты (полиолы), аминокислоты, алифатические полиамины (содержащие две или более аминогрупп) являются наиболее важными метаболитами, на концентрацию которых в тканях растений влияет стресс. Абиотические стрессовые факторы оказывают влияние и на липидный состав растений. Различные группы липидов, такие как жирные кислоты, фосфатидные кислоты, инозитолфосфаты, диацилглицерины, растительные оксилипины (жасмонаты), шинголипиды и N-ацетилэтаноламин, участвуют в передаче сигналов при стрессовых состояниях [14]. Абиотический стресс вызывает изменения и вторичного метаболизма, влияя на содержание фенольных соединений, терпеноидов, глюкозинолатов.
К настоящему времени накоплено много данных об изменениях содержания в растительных тканях ряда биологически активных веществ под влиянием различных абиотических стрессов. Но представляют интерес, в первую очередь, данные именно об адаптивном характере этих изменений, связи с выполнением определенных защитных функций и механизмах их осуществления при стрессах.
Цель обзора — анализ сведений о соединениях, участвующих в защите растений от неблагоприятных абиотических воздействий окружающей среды.
ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ СТРЕССОВ НА РАСТЕНИЯ
Абиотические стрессы весьма разнообразны. Температурный стресс может быть двух типов: тепловой (выше оптимальной температуры) и низкотемпературный (ниже оптимальной температуры). Он является одним из основных стрессов, ограничивающих рост, развитие и продуктивность растений. Среди многочисленных фенотипических симптомов, наблюдаемых после воздействия температурного стресса, можно назвать плохую всхожесть семян, задержку роста всходов, уменьшение размеров и повышенное увядание листьев и, наконец, отмирание тканей [12]. Температурный стресс подавляет репродуктивные процессы, снижает относительное содержание воды, нарушает процесс ассимиляции углерода, увеличивает накопление АФК, что приводит к окислительному стрессу. Он вызывает перекисное окисление липидов, нарушение стабильности мембран и ферментов, а также денатурацию нуклеиновых кислот, выраженный метаболический дисбаланс [15].
Сочетание малого количества осадков, пониженного уровня грунтовых вод и недостаточной доступности воды приводит к стрессу, вызванному засухой. Она влияет на физиологические и метаболические процессы растений, снижает рост, оказывает негативное влияние на урожайность, лимитирует репродуктивное развитие и выживание растений. Водный стресс приводит к снижению ассимиляции CO2 и интенсивности фотосинтеза [15]. Засуха нарушает клеточный гомеостаз, приводя к выработке АФК, что вызывает повреждение клеточных компонентов.
Засоление возникает в результате массового накопления солей вблизи корневой зоны, что ограничивает рост растений, главным образом за счет двух механизмов: осмотического стресса и ионной токсичности [15]. В условиях засоления осмотическое давление почвы намного превышает осмотическое давление растительных клеток, что ограничивает поглощение воды и минералов. Ионная токсичность в тканях растений, чаще из-за накопления натрия, вызывает повреждение клеток путем разрушения мембран и нарушает физиологические процессы растений, включая фотосинтез, дыхание, транспирацию и осморегуляцию [16]. Солевой стресс также вызывает образование АФК в хлоропластах и митохондриях, что приводит к ряду деструктивных процессов [6].
Стресс может быть связан с действием тяжелых металлов, таких как Mn, Fe, Cu, Cd, Zn, Hg, As, Ni. Они накапливаются в почве в результате сброса промышленных отходов и сточных вод. Хотя некоторые из этих металлов важны для роста и развития растений, однако их избыточные концентрации в почве оказывают пагубное влияние на растения. Такой стресс вызывает денатурацию или инактивацию ферментов, связанных с дыханием и фотосинтезом. Он приводит к выработке АФК и окислительному повреждению растений.
Световой стресс, обусловленный чрезмерно высокими уровнями ультрафиолетового (УФ) и видимого излучения, оказывает вредное физиологическое воздействие на растения, влияя на концентрацию хлорофилла, содержание белков и липидов, вызывая повреждение тканей [17]. Избыток видимого света может вызвать серьезное повреждение фотосинтетического аппарата, но это зависит от времени и интенсивности воздействия [12]. УФ-излучение разделяют на три сегмента: УФ-А, УФ-В и УФ-С с длинами волн соответственно 315–400, 280–315 и менее 280 нм. УФ-В может вызвать серьезные метаболические нарушения у растений, отрицательно влияя на фотосинтез и транспирацию, способствуя повреждению клеток. Этот тип излучения ослабляет защитные механизмы и подавляет рост растений [16].
РОЛЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ В ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ
Реакция растений на абиотические стрессы окружающей среды может быть эффективной за счет накопления различных типов низкомолекулярных органических соединений, так называемых совместимых растворенных веществ (compatible solutes). Они включают сахара и их производные (сахароза, трегалоза, полиолы, олигосахариды семейства раффинозы (RFO), олигофруктаны), аминокислоты и их производные. Для этих соединений характерны небольшая молекулярная масса, высокая растворимость, относительно низкая реакционная способность и отсутствие токсичности даже при высоких концентрациях. Совместимые растворенные вещества играют важную роль в повышении устойчивости к стрессу, поддерживая и стабилизируя клеточную структуру, защищая клеточные мембраны, в том числе стабилизируя мембраны тилакоидов для активизации фотосинтеза, снижая токсическое действие АФК, регулируя передачу сигналов стресса [18–20]. Эти соединения важны для борьбы с ослаблением и прекращением физиологической активности растений, включая все ключевые процессы, такие как фотосинтез, биосинтез фотосинтетических пигментов, скорость транспорта электронов, синтез белка, липидный обмен, передача сигналов. Совокупность этих соединений играет важную роль в осмотической регуляции, и, вполне вероятно, что накопленная смесь совместимых растворенных веществ лучше защищает клеточную структуру, чем любое из них по отдельности [21].
Олиго- и полисахариды, их производные
Углеводный обмен играет важную роль в стрессоустойчивости, поскольку он напрямую связан с фотосинтетической активностью. В экстремальных климатических условиях растения накапливают больше растворимых сахаров [11]. К ним относятся, в частности, глюкоза, фруктоза, сахароза, трегалоза. Сахароза — невосстанавливающий дисахарид глюкозы и фруктозы; у некоторых галотолерантных организмов она способствует улучшению роста при высокой солености. Трегалоза — невосстанавливающий дисахарид глюкозы, который защищает растения от окислительного стресса, экстремальных температур, обезвоживания и гиперосмотических условий [5].
Растворимые сахара служат осмопротекторами и антиоксидантами, дают возможность поддерживать клеточный тургор и удалять активные формы кислорода (АФК), образующиеся при стрессе, повышают стабильность мембран и белков, защищают клеточные струтуры от повреждений [22]. Их накопление улучшает способность растений поглощать и удерживать воду. Кроме того, большинство осмотических регуляторов не могут защитить белки и биопленки от потери воды в условиях сильной засухи; только растворимые сахара могут заменить молекулы воды и образовать водородные связи с белками для поддержания структуры и функций белков. Так, трегалоза и сахароза оказывают стабилизирующее и защитное действие на биологические мембраны и белки. Молекулы этих сахаров могут замещать молекулы воды вокруг полярных групп, присутствующих в фосфолипидных мембранах и белках, действуя как связующее звено между соседними липидами и заполняя пробел, образовавшийся после обезвоживания. Таким образом, они могут сохранить нативную структуру мембраны в отсутствие воды [23, 24]. По данным A. K. Sum с соавторами [25], взаимодействие молекул этих дисахаридов с бислоем фосфолипидов происходит на поверхности бислоя и обусловлено образованием множественных водородных связей с определенными группами липидов. Молекулы дисахаридов принимают определенные конформации, чтобы вписаться в топологию поверхности бислоя, часто взаимодействуя одновременно с тремя различными липидами. При высоких концентрациях эти дисахариды могут служить эффективной заменой воды.
Сахара, такие как глюкоза, сахароза, трегалоза, мальтоза, раффиноза, не только действуют как структурные компоненты и метаболические ресурсы, но также функционируют как первичные сигнальные молекулы и регулируют сигналы, контролирующие экспрессию многих генов и ферментов, участвующих в углеводном обмене и связанных с устойчивостью к тепловому стрессу [22]. В частности, трегалоза известна как сигнальная молекула, регулирующая метаболизм углерода и абсцизовой кислоты в условиях стресса [26]. Роль трегалозы и трегалозо-6-фосфата в передаче сигналов абиотического и биотического стресса отмечают A. Janská с соавторами [27].
Полиолы (маннитол, сорбитол, инозитол и др.) представляют собой многоатомные органические соединения, образующиеся в результате реакции восстановления альдегидных или кетогрупп сахаров до гидроксильных групп. Они играют большую роль в осмотической адаптации и обеспечивают устойчивость растений к засолению и дефициту воды. Различные полиолы, вырабатываемые во время абиотического стресса, могут снизить риск повреждения клеток и ускорить рост растения [22, 28]. По мнению A. Janská с соавторами [27], полиолы могут действовать как криопротекторы. Маннитол защищает клеточные структуры, в частности хлоропласты, от фотоокислительного повреждения [26], осуществляет осморегуляцию путем повышения содержания K+, Ca2+ и снижения содержания Na+. В условиях стресса гашение токсичных гидроксильных радикалов осуществляется путем высвобождения большого количества маннитола [8]. Инозитол, пинитол, сорбитол и его изомер галактинол также обладают осмопротекторным действием.
Фруктаны представляют собой полимеры на основе фруктозы, синтезируемые на основе сахарозы ферментами фруктозилтрансферазами. Накопление фруктанов связано с улучшением устойчивости к замораживанию и/или охлаждению, а также к засухе [29]. Одним из способов адаптации к стрессу является вакуолярное накопление фруктанов, которые участвуют в реакциях на стресс [3]. Фруктаны обладают выраженными антиоксидантными свойствами и играют роль в вакуолярных антиоксидантных механизмах, способствуя клеточному гомеостазу АФК [30]. Водорастворимая природа фруктанов может обеспечить их быструю адаптацию в качестве криопротекторов для обеспечения оптимальной защиты мембран. Фруктаны могут стабилизировать мембраны за счет прямого связывания с фосфатными и холиновыми группами мембранных липидов, что приводит к уменьшению оттока воды и защите структурной целостности мембран. Фруктаны типа инулина представляют собой гибкие структуры, которые могут принимать различные конформации, что позволяет им глубоко проникать в мембраны [13, 29]. По мнению R. Valluru, W. Van den Ende [13], смесь фруктанов с высокой и низкой степенями полимеризации (образующихся после их частичного гидролиза, вызванного стрессом) может обеспечить превосходную мембранную защиту. Это может служить указанием на специфические синергические эффекты. Так, по данным D. K. Hincha с соавторами [31], у растений ржи и овса во время засухи смесь олигофруктанов (со степенью полимеризации менее 7) и высокомолекулярных фруктанов в намного большей степени способствовала стабилизации мембран, чем каждая их этих фракций по отдельности.
Аминокислоты и их производные
В ответ на различные абиотические стрессы в растениях происходит эндогенное накопление аминокислот. Они способствуют поддержанию клеточной осморегуляции, защищают важные биологические макромолекулы и клеточные структуры от окислительного повреждения, удаляют АФК [20, 32]. Эти метаболиты имеют амфотерную природу, что делает их идеальными буферами, защищающими растительные клетки от воздействия абиотических стрессов, путем поддержания благоприятных значений клеточного pH [33]. Аминокислоты служат потенциальными сигнальными молекулами, а также предшественниками важных компонентов метаболических сетей, реструктурируемых во время абиотических стрессов; их накопление рассматривается как важный механизм устойчивости к абиотическому стрессу [20].
Стресс засухи обычно вызывает накопление некоторых аминокислот, в том числе пролина, а также углеводов и полиолов, которые выполняют осмопротекторную роль. Но, в то время как увеличение содержания углеводов происходит как краткосрочная реакция, накопление пролина и других аминокислот наблюдается после длительной засухи [15].
Пролин защищает растения от различных видов абиотического стресса: засухи, засоления, экстремальных температур, ультрафиолетового излучения и т. д. [21, 34 и др.]. Стрессовая среда приводит к повышенному производству пролина в растениях, что способствует стрессоустойчивости [35, 36]. Он защищает от деградации пластиды и митохондрии, участвует в регулировании клеточного окислительно-восстановительного баланса [37].
Как отмечают X. Yang с соавторами [38], в качестве вещества, регулирующего осмотическое давление, пролин преимущественно накапливается в вакуолях растений. Когда клетка подвергается осмотическому стрессу, пролин транспортируется в цитоплазму и приводит к снижению осмотического потенциала, сохраняя при этом тургор и содержание воды. Когда содержание воды в клетках снижается, пролин может действовать как «заменитель воды», стабилизируя клеточную структуру посредством гидрофильных взаимодействий и водородных связей [21]. В условиях стресса пролин может связываться с белками, образуя защитную пленку на поверхности белков, что сдерживает выход воды из клетки и снижает ее потери. Кроме того, защитная пленка способствует сохранению структуры и активности белков и других биологических макромолекул в хлоропластах и цитозоле [35, 38].
Пролин выполняет также сигнальную функцию. P. E. Verslues, S. Sharma [21] отмечают, что транспорт пролина между различными частями растения может служить метаболическим сигналом.
По данным S. Hayat с соавторами [36], пролин в стрессовых условиях выступает как хелатор тяжелых металлов (образует комплексы с тяжелыми металлами, такими как кадмий, тем самым снижая их токсичность). P. B. Kavi Kishor с соавторами [34] отмечают, что пролин снижает выработку АФК за счет гашения в тилакоидах синглетного кислорода и супероксидных радикалов, образующихся при высокотемпературном стрессе. Этот механизм может быть наиболее важным в случаях сильного обезвоживания растительной ткани [21]. Пролин может влиять на пролиферацию или гибель клеток и запускать экспрессию специфических генов, что имеет большое значение для восстановления растений после стресса [35]. По мнению P. E. Verslues, S. Sharma [21], наблюдения, что многие растения накапливают большие количества пролина как часть их стратегии ответа на стресс, указывают на преимущество этого ответа перед другими возможными стратегиями.
Результаты ряда исследований свидетельствуют о повышении стрессоустойчивости и при экзогенном применении пролина в низких концентрациях. Например, повышение стрессоустойчивости выявлено при добавлении пролина в культуральную среду для арахиса, люцерны, табака; нанесении его в виде опрыскивания на рассаду и/или вегетирующие растения кукурузы; при предпосевной обработке семян пшеницы и золотистой фасоли [36]. Однако в некоторых работах указывается на токсическое действие пролина при его экзогенном введении в высоких концентрациях (40–50 мМ): ухудшение роста побегов in vitro в эксплантах гипокотилей арабидопсиса, снижение роста рассады риса [36].
Глицин-бетаин (триметилглицин, GB) — метилированное производное аминокислоты глицин, относящееся к четвертичным аммониевым соединениям [10]. Это водорастворимое вещество с амфотерными характеристиками. Его накопление повышает устойчивость растений к различным абиотическим стрессам на всех этапах их жизненного цикла. Повышенное накопление глицин-бетаина происходит преимущественно в хлоропластах и связано с инициацией сети взаимодействий между фотосинтетическим аппаратом растения, его гормонами «стресса» и «роста» и активными формами кислорода [39]. Такие взаимодействия, по-видимому, являются основными факторами, ведущими к эффективной адаптации высших растений к широкому спектру стрессов окружающей среды и смягчению их последствий. Глицин-бетаин может поддерживать фиксацию CO2 в условиях стресса, что, в свою очередь, предотвращает избыточное накопление АФК, защищая хлоропласты [18, 26], и предохраняет клетки от окислительного повреждения [40]. Во время теплового стресса глицин-бетаин способствует поддержанию или увеличению активности ферментов, улавливающих АФК (каталазы, аскорбатпероксидазы, глутатионредуктазы, дегидроаскорбатредуктазы и др.), которые уменьшают уровни АФК в клетках, что приводит к смягчению воздействия абиотического стресса на фотосинтетический аппарат. Кроме того, накопление глицин-бетаина приводит к повышению уровня антиоксидантов, таких как аскорбат и восстановленный глутатион [18].
Подобно пролину, глицин-бетаин является органическим осмолитом, который накапливается у различных видов растений в ответ на стрессы окружающей среды и играет активную роль в обеспечении осмотической адаптации [40]. В условиях стресса глицин-бетаин способствует сохранению целостности мембран, стабилизирует структуру и свойства биологических макромолекул, имеющих важное физиологическое значение в поддержании нормального дыхания и фотосинтеза растений [37, 38, 41].
Как отмечает S. A. Ganie [20], аминокислоты серин и аланин играют решающую роль в смягчении последствий засухи и солевого стресса за счет участия в осморегуляции, защищают фотосинтетический аппарат от фотоингибирования. Как α-аланин, так и β-аланин имеют большое значение для поддержания процесса фиксации азота в условиях засухи и повышают устойчивость растений к различным абиотическим стрессам, особенно к гипоксии и затоплению.
Также при стрессе от засухи накапливаются и другие аминокислоты: лейцин, изолейцин, валин, лизин и метионин (например, в листьях пшеницы и арабидопсиса, листьях и цветках томата, побегах кукурузы [20]). При этом максимальным содержанием отличаются лейцин, изолейцин и валин — аминокислоты с разветвленным углеродным скелетом (branched-chain amino acids — BCAAs). Они могут участвовать в механизмах окислительно-восстановительной регуляции (redox buffering) и передачи энергии, аналогично метаболизму пролина: так, при синтезе пролина в хлоропластах или цитозоле используется НАДФН, тогда как при катаболизме пролина в митохондриях высвобождается восстановитель. Регулирование баланса синтеза и деградации пролина может смягчить дисбаланс клеточного окислительно-восстановительного процесса. В большинстве случаев пролин накапливается в самых больших количествах и, вероятно, является наиболее важным компонентом окислительно-восстановительной регуляции при стрессе, вызванном засухой [21].
По наблюдениям S. A. Ganie [20], эндогенное накопление ароматических аминокислот (фенилаланина, тирозина и триптофана) играет жизненно важную роль в устойчивости растений к засухе; в частности, триптофан может защищать белки от повреждений, вызванных АФК.
В условиях засухи и высокой засоленности наблюдается также резкое увеличение содержания аминокислот аспарагина и треонина (например, в стеблях люпина, корнях и побегах риса, побегах кукурузы, листьях пшеницы и клубнях картофеля) [20]. Накопление аминокислот гистидина и аспарагина в корнях томата, цистеина в растениях арабидопсиса рассматривается как активный ответ на стресс, вызванный воздействием тяжелых металлов (кадмий, никель, свинец).
В условиях абиотического стресса у растений наблюдается также накопление 4-аминобутановой кислоты (GABA, γ-аминомасляная кислота, ГАМК). Это непротеиногенная аминокислота, накопление или экзогенное применение которой способствует росту растений и может облегчить стресс за счет активизации систем антиоксидантной защиты [42]. ГАМК быстро накапливается в ответ на различные стрессы (высокие и низкие температуры, засоление, гипоксия), что позволило сделать вывод о том, что она может функционировать как сигнальная молекула. Это соединение участвует в регуляции внутриклеточного pH и обеспечивает защиту от окислительного повреждения, возникающего в ответ на некоторые абиотические стрессы. Механизм развития солеустойчивости с помощью ГАМК включает стимулирование фотосинтеза и флуоресценции хлорофилла, усиление антиоксидантной активности и осмотическую регуляцию посредством накопления осмолитов, участие в устранении негативного эффекта тяжелых металлов (кадмий, хром). По данным Y. Ma с соавторами [43], в условиях засоления у проростков ячменя экзогенная обработка ГАМК повышала активность и экспрессию генов, участвующих в биосинтезе фенольных соединений, что вызывало их накопление.
ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ
Как биотические, так и абиотические стрессы отвлекают значительное количество субстратов от первичного метаболизма на образование вторичных защитных продуктов, вызывая тем самым сдвиг доступных ресурсов в пользу синтеза и накопления различных вторичных метаболитов (secondary metabolites, SМ) [44]. Это отражается на скорости роста, продуктивности, репродуктивной способности и конкурентоспособности организмов. Виды, производящие защитные метаболиты, вынуждены выделять меньше ресурсов на рост и размножение, что приводит к компромиссу между ростом и защитой, который регулирует потоки углерода между первичным и вторичным метаболизмом, тем самым обеспечивая адаптацию к стрессам окружающей среды [45].
В ответ на разнообразные абиотические стрессы растения воспринимают неблагоприятные сигналы через различные рецепторы, а затем они передаются рядом медиаторов в транскрипционные факторы (TF). Эти факторы напрямую связываются с цис-элементами на промоторах генов, регулируя экспрессию генов и последующий биосинтез вторичных метаболитов [46]. Различные стрессовые факторы могут активировать один и тот же сигнальный путь и индуцировать биосинтез одних и тех же вторичных метаболитов. В ходе эволюции растения приобрели способность вырабатывать обширный и разнообразный набор таких соединений, которые не требуются в первичных процессах роста и развития и не имеют непосредственного значения для основного фотосинтетического или дыхательного метаболизма. Но они имеют большое значение для взаимодействия с окружающей средой, репродуктивной стратегии и реализации защитных механизмов [45].
При различных экологических стрессах вторичные метаболиты играют решающую роль в адаптации, обеспечивают выживание, устойчивость и конкурентоспособность растений [47]. Эти соединения поглощают активные формы кислорода (АФК), защищая растения от перекисного окисления липидов и других окислительных повреждений. Кроме того, вторичные метаболиты выполняют сигнальные функции, они важны для смягчения токсических эффектов стресса посредством экспрессии генов, реагирующих на стресс. В организме растения происходят физиологические модификации, такие как корректировка вторичного метаболизма, ионного и водного баланса и т. д., которые могут прямо или косвенно обеспечить фенотипическую реакцию стрессоустойчивости [48, 49].
В зависимости от пути биосинтеза вторичные метаболиты подразделяются на три основные группы: фенольные соединения (фенольные кислоты, фенилпропаноиды, флавоноиды, лигнаны), терпеноиды и азотистые соединения [50]. Большинство литературных данных в основном касается роли в защите от абиотических стрессов только фенольных соединений и терпеноидов.
Фенольные соединения
Отличительной чертой абиотического стресса является накопление в тканях растений фенольных соединений, которые помогают растениям справляться с ограничениями окружающей среды [1, 51, 52]. Такое накопление обусловлено повышением активности ферментов фенилаланин-аммиак-лиазы (PAL), халконсинтазы (CHS) и других; также увеличивается активность фосфоенолпируват (PEP)-карбоксилазы, что позволяет предположить сдвиг от продукции сахарозы к процессам поддержки защиты и восстановления [9, 45].
Абиотические стрессы (засуха, засоление, высокая/низкая температура, ультрафиолетовое излучение, тяжелые металлы) активируют процесс передачи сигналов в клетках, что приводит к усилению транскрипции фенилпропаноидного пути, способствуя накоплению различных фенольных соединений [1]. Способность синтезировать фенольные соединения вырабатывалась в ходе эволюции у разных линий растений, когда такие соединения удовлетворяли конкретные потребности, что позволяло растениям справляться с постоянно меняющимися экологическими проблемами в течение эволюционного времени. В частности, успешная адаптация к суше некоторых высших представителей Charophyceae, которые рассматриваются как прототипы амфибийных растений, предположительно предшествовавших настоящим наземным растениям при их выходе из водной среды на сушу, была достигнута во многом за счет массового формирования «фенольных экранов ультрафиолетового света» [45].
Фенольные соединения играют ключевую роль в качестве защитных соединений, когда стрессы окружающей среды могут привести к увеличению производства свободных радикалов и окислительным повреждениям растений [44, 53]. Они обладают антиоксидантными свойствами и способны поглощать свободные радикалы, что приводит к снижению перекисного окисления клеточных мембран, тем самым защищая растительные клетки от вредного воздействия окислительного стресса [2, 9, 54, 55]. В качестве антиоксидантов фенольные соединения участвуют в нейтрализации активных форм кислорода (АФК), катализируя реакции оксигенации и ингибируя активность окислительных ферментов. A. Petridis с соавторами [56] приводят данные о весьма значительной корреляции между общим содержанием фенольных соединений и антиоксидантной активностью как в листьях, так и в корнях у четырех сортов Olea europaea L. в условиях засоления.
Фенольные соединения способны осуществлять осморегуляцию в растениях, обеспечивая множественную защиту от стресса. Они также действуют как сигнальные молекулы [53]. Растения с повышенным синтезом полифенолов при абиотических стрессах обычно лучше приспосабливаются к лимитирующим условиям среды [55].
Некоторые фенольные соединения, в частности флавонолы, проявляют способность обеспечивать защиту от стресса, вызванного накоплением тяжелых металлов (например, Fe, Cu, Ni, Zn), путем хелатирования, защищая растения от их токсического действия [2, 54, 57], но для их прочного связывания требуются орто-гидроксильные группы [45].
Максимальное количество данных собрано о роли флавоноидов в жизни растений. Это природные соединения С6-С3-С6 ряда, в которых имеются два бензольных ядра (А и В), соединенных друг с другом трехуглеродным фрагментом. Флавоноиды накапливаются в ответ на различные биотические и абиотические стрессы и считаются важнейшими защитными соединениями [1, 52, 58, 59]. Полифенольная структура и разнообразная химическая природа флавоноидов обеспечивают множественные механизмы действия, способствуя выживанию растений в различных суровых условиях [16]. Ряд исследователей приводят данные о том, что увеличение концентрации флавоноидов в листьях является ключевой стратегией защиты при дефиците воды. В частности, J. Laoue с соавторами [60] отмечают высокую способность средиземноморских видов усиливать метаболизм флавоноидов, чтобы пережить засушливый период. Флавоноиды играют роль в модуляции АФК и обладают механизмами УФ-скрининга [61–63]. Их действие в качестве антиоксидантов основано на способности удалять АФК и ингибировать их образование [64–66], активировать антиоксидантные ферменты [67]. Накопление флавоноидов является механизмом защиты от обширного окислительного повреждения фотосинтетического аппарата при атмосферном загрязнении [68].
Антиоксидантные свойства флавоноидов определяются их структурой и связаны с ОН-группами, способствующими стабилизации свободных радикалов [67, 69]. Эти свойства зависят от количества гидроксильных групп и их положения, наличия и характера заместителей в бензольных кольцах, а также гликозилирования. Наличие ОН-группы в положении С3 кольца А углеродного скелета флавонолов (одной из самых больших групп флавоноидов) способствует более эффективному поглощению АФК [59]. Дигидроксизамещенные в кольце B флавоноиды обладают большей антиоксидантной способностью, в то время как моногидроксизамещенные аналоги B-кольца обладают большей способностью поглощать УФ-излучение [62]. Орто-дигидроксильная структура в кольце В у флавонола кверцетина и его производных (дигидрокверцетина, 3-рамнозида кверцетина и др.), делает их очень эффективными антиоксидантными соединениями и является основным фактором способности удалять АФК [45, 69]. K. Parvin с соавторами [70] отмечают, что экзогенное применение кверцетина на томатах в условиях засоления приводило к снижению отношения Na+/K+, повышению относительного содержания воды в листьях, увеличению количества пролина, а также снижению содержания перекиси водорода и активности липоксигеназы, что указывает на ослабление ионного, осмотического и окислительного стрессов соответственно.
По данным R. A. Larson [17], наибольшую активность проявляют свободные флавонолы мирицетин и робинетин, имеющие по три гидроксильные группы в кольце В. Большинство свободных флавонолов являются эффективными антиоксидантами как в водной, так и в липидной фазе, но увеличение гидроксильных групп в кольце B повышает их активность. Гликозилирование флавоноидов снижает их антиоксидантную активность, но эффект более выражен, когда оно происходит в кольце B. При этом антиоксидантная активность имеет тенденцию к снижению с увеличением количества углеводных фрагментов [71].
Флавоноиды с антиоксидантными свойствами расположены в клетках мезофилла и в центрах генерации АФК, то есть в хлоропластах. Здесь они легко могут гасить H2O2, гидроксильный радикал и синглетный кислород [62]. Окислительный стресс может усугубляться в условиях, ограничивающих диффузию CO2, в частности при засухе, засолении, низких и высоких температурах, дефиците питательных веществ. В таких ситуациях активность ферментов, детоксицирующих АФК, может значительно снижаться в хлоропластах; при этом усиливается биосинтез флавоноидов, улавливающих АФК. Очевидно, флавоноиды представляют собой систему антиоксидантной защиты в тканях растений, подвергающихся различным стрессам [62]. Так, стресс засухи способствует окислительному стрессу, под влиянием которого усиливается биосинтез флавоноидов. R. Jan с соавторами [47] отмечают, что в растениях томата при засухе повышались уровни кемпферола и кверцетина, которые могут детоксицировать молекулы H2O2. Одним из факторов, способствующих антиоксидантному действию флавоноидов, является их взаимодействие с полярными головными группами фосфолипидов мембран на границе раздела липид–вода [72].
Флавонолы кверцетин и кемпферол подавляют фотоперекисное окисление липидов. Некоторые флавоноиды (например, лютеолин) являются мощными ингибиторами ферментов липоксигеназы и простагландин-синтетазы, которые превращают полиненасыщенные жирные кислоты в кислородсодержащие вещества.
Повышенное накопление флавоноидов в ответ на УФ-излучение может уменьшить повреждение подвергшихся воздействию листьев за счет поглощения определенных длин волн. Противодействуя негативным последствиям воздействия УФ-излучения, флавоноиды (в частности гликозиды кверцетина) накапливаются в растительных клетках и защищают их, создавая щит под эпидермальным слоем. Они действуют как внутренние светофильтры для защиты хлоропластов и других органелл от повреждения УФ-излучением посредством механизмов УФ-экранирования [73]. При этом группа флавонолов играет важную роль в защите от ультрафиолета, ингибируя образование АФК и подавляя АФК после их накопления [61, 62]. Флавонолы кверцетин и кемпферол ингибируют фотообесцвечивание каротиноидов в хлоропластах.
В реакциях как на абиотический, так и биотический стресс могут играть роль и антоцианы, также относящиеся к группе флавоноидов [11]. По данным R. Nakabayashi с соавторами, избыточное накопление антоцианов, характеризовавшихся сильной антиоксидантной активностью in vitro, смягчало накопление активных форм кислорода in vivo в условиях окислительного стресса и засухи [65]. Они детоксицируют АФК, образующиеся в результате фотохимических реакций, поглощают избыточное видимое и ультрафиолетовое излучение [16]. Защитный эффект при воздействии ультрафиолета показан для высоких концентраций антоцианов [1, 2, 17], а также изофлавоноидов. Эти соединения предотвращают повреждения и последующую гибель клеток, защищая ДНК от димеризации и разрушения [74]. Высокая антиоксидантная активность отмечена и для халкона бутеина [17].
Большое значение для защиты растений от стресса имеют также фенольные кислоты. Как отмечают W. A. El-Soud с соавторами [76], обработка семян нута эллаговой кислотой ускоряла прорастание семян и рост проростков в условиях осмотического стресса, а также повышала устойчивость к нему. У проростков наблюдали значительное увеличение антиоксидантной способности, более низкие уровни перекисного окисления липидов, утечки электролитов и H2O2. Активность антиоксидантных ферментов (каталазы, пероксидазы, супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы) и ферментов шикиматного пути биосинтеза флавоноидов заметно увеличивалась. C. Ozfidan-Konakci и соавторы [77] приводят данные о том, что экзогенная галловая кислота способствовала детоксикации H2O2 и снижала перекисное окисление липидов за счет усиления активности каталазы и пероксидазы, обеспечивала эффективное использование воды и повышала толерантность растений сои; кроме того, она ослабляла низкотемпературный стресс. У Achillea pachycephala Rech. f., по данным S. Gharibi с соавторами [78], в условиях засухи концентрации фенольных кислот (хлорогеновой, кофейной) и ряда флавоноидов возрастали с увеличением продолжительности стресса; в конце периода стресса экспрессия соответствующих генов также увеличивалась. У Achillea filipendulina Lam. в условиях умеренного и тяжелого стресса засухи наблюдалось высокое общее содержание флавоноидов и фенольных соединений в целом [79].
Салициловая кислота (SA) обычно участвует в защитных реакциях растений при стрессах окружающей среды, в частности в активации антиоксидантной системы. Она является потенциальной сигнальной молекулой и может эффективно смягчать неблагоприятное воздействие сильного освещения на растения. Экзогенная SA повышала активность антиоксидантных ферментов и значительно уменьшала накопление АФК и гибель клеток у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. при высоком освещении [80]. По данным M. Chavoushi с соавторами [81], при влиянии стресса засухи у сафлора Carthamus tinctorius L. обработка салициловой кислотой приводила к повышению скорости фотосинтеза, содержания антоцианов и активности фенилаланин-аммиаклиазы (одного из основных ферментов биосинтеза фенольных соединений). Z. Zhang и соавторы [82] отмечали способность экзогенной салициловой кислоты смягчать воздействие высокотемпературного стресса на растения Capsicum annuum L. Она снижала окислительное повреждение семян; ингибировала потерю воды и поддерживала целостность клеточной структуры, регулируя содержание осмотически активных веществ; снижала продукцию активных форм кислорода (АФК); повышала активность защитных ферментов и содержание неферментативных поглотителей АФК, а также поддерживала высокий уровень фотосинтетической способности.
По мнению R. A. Larson [17], флавоноиды и фенольные кислоты — это наиболее перспективные соединения, повышенная концентрация которых может служить мерой устойчивости растений к техногенному стрессу. Усиление метаболизма флавоноидов и их продукции в условиях климатического стресса можно интерпретировать как улучшение системы химической защиты растения [60].
Терпеноиды (изопреноиды)
Воздействие терпеноидов и их производных на растения при абиотических стрессах приводит к усилению важных для выживания растения защитных реакций, выражающихся в повышении активности антиоксидантной системы, увеличении содержания низкомолекулярных протекторов белка и других физиологически активных веществ. В результате повышается адаптационный потенциал растительного организма, нормализуются процессы роста, функционирования фотосинтетического аппарата, азотного метаболизма, водного обмена и т. п. Механизм ростостимулирующей активности тритерпеновых гликозидов предположительно осуществляется в результате модулирования действия фитогормонов путем влияния на транспорт, внутриклеточное содержание и (или) передачу гормональных сигналов [83]. Регулирующее действие на клетки может быть обусловлено также мембранотропной активностью терпеноидов, в основе которой лежит механизм увеличения ионной проницаемости мембран. Они могут снижать абиотический стресс, временного внедряясь в мембрану, усиливая гидрофобные взаимодействия белковых комплексов между собой или с мембранными липидами [84].
Терпеноиды уменьшают последствия окислительного стресса за счет двух механизмов: а) непосредственного взаимодействия с окислителями внутри клеток; б) изменения передачи сигналов АФК. По мнению C. E. Vickers с соавторами [85], защита от абиотического стресса опосредована прямыми реакциями терпеноидов с окислителями либо внутриклеточно, либо на границе лист–атмосфера.
Летучие изопреноиды (volatile terpenes) играют важную роль в защите от различных абиотических стрессов, включая высокую освещенность, температуру, засуху и др. Все эти воздействия приводят к окислительному стрессу, а присутствие изопреноидов улучшает способность растений справляться с его последствиями, регулируя окислительный статус независимо от природы внешнего (физиологического) стрессора. Защита от абиотического стресса осуществляется за счет прямого или косвенного повышения устойчивости к повреждению АФК [85]. В ответ на стресс растения, выделяющие изопрен, уменьшают накопление АФК и защищают растения от окислительных повреждений [49]. Физиологические уровни эндогенного изопрена могут обеспечивать защиту от 1O2 (синглетного кислорода). Механизмы защиты включают прямую реакцию изопрена с 1O2. Это действие типично и для других изопреноидов, но, по мнению V. Velikova с соавторами [86], изопрен может обеспечивать более динамичный механизм защиты, поскольку он синтезируется быстро, когда высокая интенсивность света приводит к накоплению 1O2.
Изопрен и монотерпены (синтезируемые из двух молекул изопрена) реагируют также с озоном, снижая его токсичность. Изопрен может предотвратить видимый ущерб, вызванный воздействием озона, и значительно снизить потерю фотосинтетической способности из-за АФК [87]. Эти соединения уменьшают абиотический стресс у ряда видов растений и за счет стабилизации липидных мембран, в результате чего снижается перекисное окисление липидов [49, 86, 87]. Объяснение мембраностабилизирующего действия изопрена было впервые предложено T. D. Sharkey и E. L. Singsaas [88]. Благодаря своим липофильным свойствам и месту синтеза (в хлоропластах) изопрен, вероятно, распределяется в липидные фазы тилакоидных мембран. При возникновении теплового стресса мембраны становятся более текучими, а эффективность мембрано-ассоциированных фотосинтетических процессов снижается. Вероятно, механизм защитного действия изопрена заключается в физической стабилизации гидрофобных взаимодействий (липид–липид, липид–белок и/или белок–белок) при повышении температуры. Это усиливает упорядочение мембраны без существенного изменения ее динамических свойств. Таким образом, присутствие изопрена облегчает фотосинтетические процессы при тепловом стрессе. Учитывая, что другие летучие изопреноиды также имеют тенденцию к гидрофобности, этот механизм может быть общим.
Прямые доказательства того, что изопрен непосредственно стабилизирует липидные мембраны и снижает вероятность того, что фосфолипидная мембрана подвергается фазовому переходу, индуцированному нагреванием, приводят M. E. Siwko и соавторы [24]. Изопрен противодействует дезорганизации мембран, связанной с повышением температуры. При этом он относительно легко выводится из мембраны при уменьшении температуры и, будучи очень летучим, легко покидает растение после теплового шока. Синтез изопрена позволяет растениям поддерживать фотосинтетическую активность в условиях термического стресса. Растения, выделяющие изопрен, лучше переносят быстрое нагревание листьев под воздействием солнечного света, что способствует их термотолерантности [87, 89]. В листьях наблюдается пониженное накопление АФК, меньшее повреждение клеток и меньший ущерб фотосинтетическим процессам [85].
Стабилизация мембран и прямое антиоксидантное действие изопрена и монотерпенов сводят к минимуму абиотический стресс у ряда видов растений. Подобно изопрену и монотерпенам, многие летучие сесквитерпены растений (образующиеся из трех молекул изопрена) быстро реагируют с АФК, а их эмиссия стимулируется высокими световыми и температурными условиями; таким образом, эти соединения также могут участвовать в устойчивости к абиотическому стрессу [85]. При других типах стресса, например при засолении, растения также могут накапливать терпеноиды в составе эфирных масел [9].
К нелетучим терпеноидам относятся каротиноиды (тетратерпеноиды), содержащие цепь остатков изопрена и несущих многочисленные сопряженные двойные связи, что позволяет легко поглощать энергию возбужденных молекул и рассеивать избыточную энергию в виде тепла. Продукция этих метаболитов сильно увеличивается во время абиотического стресса и может быть связана с их защитной ролью. Они относятся к группе липофильных антиоксидантов и способны детоксицировать различные АФК, ингибируя окислительное повреждение и защищая фотосинтетический аппарат [7]. Каротиноиды (зеаксантин, неоксантин, лютеин) и токоферолы в ответ на окислительные стимулы действуют как антиоксиданты и могут напрямую удалять АФК [49, 88]. Так, каротиноиды, по крайней мере бета-каротин, удаляют синглетные формы кислорода и эффективно защищают липиды, присутствующие в тилакоидных мембранах, от перекисного окисления [17]. Кроме того, каротиноиды поглощают чрезмерный видимый свет и ультрафиолетовое излучение [90].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Абиотические стрессы могут быть вызваны различными факторами: экстремальными температурами, засухой, засолением, УФ-излучением и др. Они значительно ограничивают рост и продуктивность растений во всем мире. В качестве инструментов для преодоления стрессовых состояний растения развили сложные и хорошо организованные регуляторные механизмы адаптации и устойчивости к ним, которые включают, в частности, использование разнообразных биологически активных соединений, являющихся продуктами как первичного (олиго- и полисахариды и их производные, аминокислоты и др.), так и вторичного метаболизма (терпеноиды, фенольные соединения — флавоноиды, фенольные кислоты и т. д.). Они защищают растения от различных видов абиотического стресса. Данные соединения являются эффективными антиоксидантами; удаляют токсичные активные формы кислорода и ингибируют их образование; защищают биологические макромолекулы (белки, липиды, нуклеиновые кислоты) и клеточные структуры от окислительных повреждений; способствуют стабилизации мембран; обладают осмопротекторным действием; способны хелатировать ионы тяжелых металлов; выполняют сигнальные функции посредством экспрессии генов, реагирующих на стресс. Все это способствует эффективной адаптации высших растений к широкому спектру стрессов окружающей среды и значительному ослаблению их последствий, обеспечивает выживание, устойчивость и конкурентоспособность растений.
БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена в рамках Государственного задания Ботанического сада Уральского отделения РАН по теме «Фенотипическое и генетическое разнообразие флоры и растительности Северной Евразии, изучение адаптации интродуцированных растений природной и культурной флоры, с учетом возможных рисков для экосистем», номер государственной регистрации 1022040100468–6-1.6.11;1.6.20.
About the authors
E. S. Vasfilova
Russian Academy of Scienses, Ural Branch, Institute Botanic Garden
Author for correspondence.
Email: euvas@mail.ru
Russian Federation, Ekaterinburg
References
- Sharma A., Shahzad B., Rehman A., Bhardwaj R., Landi M., Zheng B. 2019. Response of phenylpropanoid pathway and the role of polyphenols in plants under abiotic stress. — Molecules. 24(13): 2452. https://doi.org/10.3390/molecules24132452
- Kumar S., Abedin M. M., Singh A. K., Das S. 2020. Role of phenolic compounds in plant-defensive mechanisms. — In: Plant Phenolics in Sustainable Agriculture. Vol. 1. Springer, Singapore. P. 517–532. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4890-1_22
- Van den Ende W., El-Esawe S. K. 2014. Sucrose signaling pathways leading to fructan and anthocyanin accumulation: A dual function in abiotic and biotic stress responses? — Environ. Exp. Bot. 108: 4–13. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2013.09.017
- Piasecka A., Kachlicki P., Stobiecki M. 2019. Analytical methods for detection of plant metabolomes changes in response to biotic and abiotic stresses. — Int. J. Mol. Sci. 20(2): 379. https://doi.org/10.3390/ijms20020379
- Paliwal A., Verma A., Tiwari H., Singh M. K., Gour J. K., Nigam A. K., Kumar R., Sinha V. B. 2021. Effect and importance of compatible solutes in plant growth promotion under different stress conditions. — In: Compatible Solutes Engineering for Crop Plants Facing Climate Change. Springer, Cham. P. 223–239. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80674-3_10
- Ashraf M. 2009. Biotechnological approach of improving plant salt tolerance using antioxidants as markers. — Biotechnol. Adv. 27(1): 84–93. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2008.09.003
- Sharma P., Jha A. B., Dubey R. S., Pessarakli M. 2012. Reactive oxygen species, oxidative damage, and antioxidative defense mechanism in plants under stressful conditions. — J. Bot. 2012: 217037. https://doi.org/10.1155/2012/217037
- Gill S. S., Tuteja N. 2010. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. — Plant Physiol. Bioch. 48(12): 909–930. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2010.08.016
- Borges C. V., Minatel I. O., Gomez-Gomez H. A., Lima G. P. P. 2017. Medicinal plants: Influence of environmental factors on the content of secondary metabolites. — In: Medicinal Plants and Environmental Challenges. Springer, Cham. P. 259–277. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68717-9_15
- Sharma V., Garg N. 2022. Organic solutes in cereals under abiotic stress. — In: Sustainable Remedies for Abiotic Stress in Cereals. Springer, Singapore. P. 29–50. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5121-3_2
- AbdElgawad H., Peshev D., Zinta G., Van den Ende W., Janssens I. A., Asard H. 2014. Climate extreme effects on the chemical composition of temperate grassland species under ambient and elevated CO2: A comparison of fructan and non-fructan accumulators. — PLOS ONE. 9(3): e92044. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0092044
- Toscano S., Trivellini A., Cocetta G., Bulgari R., Francini A., Romano D., Ferrante A. 2019. Effect of preharvest abiotic stresses on the accumulation of bioactive compounds in horticultural produce. — Front. Plant Sci. 10: 01212. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01212
- Valluru R., Van den Ende W. 2008. Plant fructans in stress environments: emerging concepts and future prospects. — J. Exp. Bot. 59(11): 2905–2916. https://doi.org/10.1093/jxb/ern164
- Dawid C., Hille K. 2018. Functional metabolomics – a useful tool to characterize stress-induced metabolome alterations opening new avenues towards tailoring food crop quality. —Agronomy. 8(8): 138. https://doi.org/10.3390/agronomy8080138
- Arbona V., Manzi M., de Ollas C. Gómez-Cadenas A. 2013. Metabolomics as a tool to investigate abiotic stress tolerance in plants. — Int. J. Mol. Sci. 14(3): 4885–4911. https://doi.org/10.3390/ijms14034885
- Shah A., Smith D. L. 2020. Flavonoids in agriculture: chemistry and roles in, biotic and abiotic stress responses, and microbial associations. — Agronomy. 10(8): 1209. https://doi.org/10.3390/agronomy10081209
- Larson R. A. 1988. The antioxidants of higher plants. — Phytochemistry. 27(4): 969–978. https://doi.org/10.1016/0031-9422(88)80254-1
- Chen T. H. H., Murata N. 2011. Glycinebetaine protects plants against abiotic stress: mechanisms and biotechnological applications. — Plant Cell Environ. 34(1): 1–20. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2010.02232.x
- Farooqi M. Q. U., Zahra Z., Afzal M., Ghani M. I. 2021. Recent advances in plant adaptation to climate change – an introduction to compatible solutes. — In: Compatible Solutes Engineering for Crop Plants Facing Climate Change. Springer, Cham. P. 1–9. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80674-3_1
- Ganie S. A. 2021. Amino acids other than proline and their participation in abiotic stress tolerance. — In: Compatible Solutes Engineering for Crop Plants Facing Climate Change. Springer, Cham. P. 47–96. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80674-3_3
- Verslues P. E., Sharma S. 2010. Proline metabolism and its implications for plant-environment interaction. — The Arabidopsis Book. 8: 1–23. https://doi.org/10.1199/tab.0140
- Vijayakumar A., Beena R. 2023. Alterations in carbohydrate metabolism and modulation of thermo-tolerance in tomato under heat stress. — Int. J. Environ. Clim. Chang. 13(9): 2798–2818. https://doi.org/10.9734/ijecc/2023/v13i92514
- Pereira S., Lins R. D., Chandrasekhar I., Freitas L. C. G., Hünenberger P. H. 2004. Interaction of the disaccharide trehalose with a phospholipid bilayer: a molecular dynamics study. — Biophys. J. 86(4): 2273–2285. https://doi.org/10.1016/S0006-3495(04)74285-X
- Siwko M. E., Marrink S. J., de Vries A. H., Kozubek A., Schoot Uiterkamp A. J. M., Mark A. E. 2007. Does isoprene protect plant membranes from thermal shock? A molecular dynamics study. — Biochim. Biophys. Acta. 1768(2): 198–206. https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2006.09.023
- Sum A. K., Faller R., de Pablo J. J. 2003. Molecular simulation study of phospholipid bilayers and insights of the interactions with disaccharides. — Biophys. J. 85(5): 2830–2844. https://doi.org/10.1016/S0006-3495(03)74706-7
- Miller G., Suzuki N., Ciftci-Yilmaz S., Mittler R. 2010. Reactive oxygen species homeostasis and signaling during drought and salinity stresses. — Plant Cell Environ. 33(4): 453–467. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2009.02041.x
- Janská A., Maršík P., Zelenková S., Ovesná J. 2010. Cold stress and acclimation – what is important for metabolic adjustment? — Plant Biology. 12(3): 395–405. https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2009.00299.x
- Pamuru R. R., Puli C. O. R., Pandita D., Wani S. H. 2021. Sugar alcohols and osmotic stress adaptation in plants. — In: Compatible Solutes Engineering for Crop Plants Facing Climate Change. Springer, Cham. P. 189–204. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80674-3_8
- Márquez-López R. E., Uc-Chuc M. A., Loyola-Vargas V. M., Santiago-García P. A., López M. G. 2023. Fructosyltransferases in plants: Structure, function and application: A review. — Carbohydr. Polym. Technol. Appl. 6: 100343. https://doi.org/10.1016/j.carpta.2023.100343
- Pommerrenig B., Ludewig F., Cvetkovic J., Trentmann O., Klemens P. A. W., Neuhaus H. E. 2018. In concert: orchestrated changes in carbohydrate homeostasis are critical for plant abiotic stress tolerance. — Plant Cell Physiol. 59(7): 1290–1299. https://doi.org/10.1093/pcp/pcy037
- Hincha D. K., Livingston III D. P., Premakumar R., Zuther E., Obel N., Cacela C., Heyer A. G. 2007. Fructans from oat and rye: Composition and effects on membrane stability during drying. — Biochim. Biophys. Acta. 1768(6): 1611–1619. https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2007.03.011
- Ali Q., Athar H., Haider M., Shahid S., Aslam N., Shehzad F., Naseem J., Ashraf R., Ali A., Hussain S. 2019. Role of amino acids in improving abiotic stress tolerance to plants. — In: Plant tolerance to environmental stress. Boca Raton. P. 175–204. https://doi.org/10.1201/9780203705315-12
- Khan N., Ali S., Zandi P., Mehmood A., Ullah S., Ikram M., Ismail S. M. A., Babar M. A. 2020. Role of sugars, amino acids and organic acids in improving plant abiotic stress tolerance. —Pak. J. Bot. 52(2): 355–363. https://doi.org/10.30848/PJB2020-2(24)
- Kavi Kishor P. B., Suravajhala P., Rathnagiri P. 2022. SreenivasuluN. Intriguing role of proline in redox potential conferring high temperature stress tolerance. — Front. Plant Sci. 13: 867531. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.867531
- Szabados L., Savouré A. 2010. Proline: a multifunctional amino acid. — Trends Plant Sci. 15(2): 89–97. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2009.11.009
- Hayat S., Hayat Q., Alyemeni M. N., Wani A. S., Pichtel J., Ahmad A. 2012. Role of proline under changing environments. A review. — Plant Signal. Behav. 7(11): 1456–1466. https://doi.org/10.4161/psb.21949
- Ashraf M., Foolad M.R. 2007. Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. — Environ. Exp. Bot. 59(2): 206–216. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2005.12.006
- Yang X., Lu M., Wang Y., Wang Y., Liu Z., Chen S. 2021. Response mechanism of plants to drought stress. — Horticulturae. 7(3): 50. https://doi.org/10.3390/horticulturae7030050
- Kurepin L. V., Ivanov A. G., Zaman M., Pharis R. P., Hurry V., Hüner N. P. A. 2017. Interaction of glycine betaine and plant hormones: protection of the photosynthetic apparatus during abiotic stress. — In: Photosynthesis: Structures, Mechanisms, and Applications. Springer, Cham. P. 185–202. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48873-8_9
- Al-Huqail A., El-Dakak R. M., Sanad M. N., Badr R. H., Ibrahim M. M., Soliman D., Khan F. 2020. Effects of climate temperature and water stress on plant growth and accumulation of antioxidant compounds in sweet basil (Ocimum basilicum L.) leafy vegetable. — Scientifica. 2020: 3808909. https://doi.org/10.1155/2020/3808909
- Sakamoto A., Murata N. 2002.The role of glycine betaine in the protection of plants from stress: clues from transgenic plants. — Plant Cell Environ. 25(2): 163–171. https://doi.org/10.1046/j.0016-8025.2001.00790.x
- Srivastava V., Mishra S., Chowdhary A. A., Lhamo S., Mehrotra S. 2021. The γ-aminobutyric acid (GABA) towards abiotic stress tolerance. — In: Compatible Solutes Engineering for Crop Plants Facing Climate Change. Springer, Cham. P. 171–188. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80674-3_7
- Ma Y., Wang P., Wang M., Sun M., Gu Z., Yang R. 2019. GABA mediates phenolic compounds accumulation and the antioxidant system enhancement in germinated hulless barley under NaCl stress. — Food Chem. 270: 593–601. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.07.092
- Lattanzio V. 2013. Phenolic compounds: introduction. — In: Natural products. Springer, Berlin, Heidelberg. P. 1543–1580. https://doi.org/10.1007/978-3-642-22144-6_57
- Cheynier V., Comte G., Davies K. M., Lattanzio V., Martens S. 2013. Plant phenolics: recent advances on their biosynthesis, genetics, and ecophysiology. — Plant Physiol. Bioch. 72: 1–20. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2013.05.009
- Meraj T. A., Fu J., Raza M. A., Zhu C., Shen Q., Xu D., Wang Q. 2020. Transcriptional factors regulate plant stress responses through mediating secondary metabolism. — Genes. 11(4): 346. https://doi.org/10.3390/genes11040346
- Jan R., Asaf S., Numan M., Lubna, Kim K. M. 2021. Plant secondary metabolite biosynthesis and transcriptional regulation in response to biotic and abiotic stress conditions. — Agronomy. 11(5): 968. https://doi.org/10.3390/agronomy11050968
- Yadav B., Jogawat A., Rahman M. S., Narayan O.P. 2021. Secondary metabolites in the drought stress tolerance of crop plants: A review. — Gene Rep. 23: 101040. https://doi.org/10.1016/j.genrep.2021.101040
- Akhi M. Z., Haque M. M., Biswas M. S. 2021. Role of secondary metabolites to attenuate stress damages in plants. — In: Antioxidants – Benefits, Sources, Mechanisms of Action. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.95495
- Fang X., Yang C., Wei Y., Ma Q. 2011. Genomics grand for diversified plant secondary metabolites. — Plant Divers. 33(1): 53–64. https://journal.kib.ac.cn/EN/10.3724/SP.J.1143.2011.10233
- Rivero R. M., Ruiz J. M., García P. C., López-Lefebre L. R., Sánchez E., Romero L. 2001. Resistance to cold and heat stress: accumulation of phenolic compounds in tomato and watermelon plants. — Pl. Sci. 160(2): 315–321. https://doi.org/10.1016/S0168-9452(00)00395-2
- Naikoo M. I., Dar M. I., Raghib F., Jaleel H., Ahmad B., Raina A., Khan F. A., Naushin F. 2019. Role and regulation of plants phenolics in abiotic stress tolerance: An overview. — In: Plant signaling molecules. Elsevier: Amsterdam. P. 157–168. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816451-8.00009-5
- Parvin K., Nahar K., Mohsin S. M., Al Mahmud J., Fujita M., Hasanuzzaman M. 2022. Plant phenolic compounds for abiotic stress tolerance. — In: Managing Plant Production Under Changing Environment. Springer, Singapore. P. 193–237. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5059-8_8
- Chen S., Wang Q., Lu H., Li J., Yang D., Liu J., Yan C. 2019. Phenolic metabolism and related heavy metal tolerance mechanism in Kandelia obovata under Cd and Zn stress. — Ecotox. Environ. Safe. 169: 134–143. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.11.004
- Поливанова О. Б., Чередниченко М. Ю. 2023. Регуляция и метаболическая инженерия центрального фенилпропаноидного метаболического пути в ответ на воздействие стрессовых факторов у растений. — Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 26(5): 3–9. https://bmpcjournal.ru/ru/25877313-2023-05-01 Polivanova O. B., Cherednichenko M. Yu. 2023. Regulation and metabolic engineering of the general phenylpropanoid metabolic pathway in response to stress in plants. — Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry. 26(5): 3–9. https://bmpcjournal.ru/en/25877313-2023-05-01 (In Russian)
- Petridis A., Therios I., Samouris G., Tananaki C. 2012. Salinity-induced changes in phenolic compounds in leaves and roots of four olive cultivars (Olea europaea L.) and their relationship to antioxidant activity. — Environ. Exp. Bot. 79: 37–43. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2012.01.007
- Leopoldini M., Russo N., Chiodo S., Toscano M. 2006. Iron chelation by the powerful antioxidant flavonoid quercetin. — J. Agr. Food Chem. 54(17): 6343–6351. https://doi.org/10.1021/jf060986h
- Bartwal A., Mall R., Lohani P., Guru S. K., Arora S. 2013. Role of secondary metabolites and brassinosteroids in plant defense against environmental stresses. — J. Plant Growth Regul. 32(1): 216–232. http://doi.org/10.1007/s00344-012-9272-x
- Singh P., Arif Y., Bajguz A., Hayat S. 2021. The role of quercetin in plants. — Plant Physiol. Bioch. 166: 10–19. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2021.05.023
- Laoué J., Fernandez C., Ormeño E. 2022. Plant flavonoids in Mediterranean species: A focus on flavonols as protective metabolites under climate stress. — Plants. 11(2): 172. https://doi.org/10.3390/plants11020172
- Agati G., Tattini M. 2010. Multiple functional roles of flavonoids in photoprotection. —New Phytol. 186(4): 786–793.https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2010.03269.x
- Agati G., Azzarello E., Pollastri S., Tattini M. 2012. Flavonoids as antioxidants in plants: location and functional significance. — Plant Sci. 196: 67–76. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2012.07.014
- Davies K. M., Albert N. W., Zhou Y., Schwinn K. E. 2018. Functions of flavonoid and betalain pigments in abiotic stress tolerance in plants. — Ann. Pl. Rev. Online. 1(1): 21–62. https://doi.org/10.1002/9781119312994.apr0604
- Rice-Evans C., Miller N., Paganga G. 1997. Antioxidant properties of phenolic compounds. — Trends Plant Sci. 2(4): 152–159. https://doi.org/10.1016/S1360-1385(97)01018-2
- Nakabayashi R., Yonekura-Sakakibara K., Urano K., Suzuki M., Yamada Y., Nishizawa T., Matsuda F., Kojima M., Sakakibara H., Shinozaki K., Michael A. J., Tohge T., Yamazaki M.I., Saito K. 2014. Enhancement of oxidative and drought tolerance in Arabidopsis by overaccumulation of antioxidant flavonoids. — Pl. J. 77(3): 367–379. https://doi.org/10.1111/tpj.12388
- Corso M., Perreau F., Mouille G., Lepiniec L. 2020. Specialized phenolic compounds in seeds: structures, functions, and regulations. — Plant Sci. 296: 110471. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2020.110471
- Kumar S., Pandey A. K. 2013. Chemistry and biological activities of flavonoids: an overview. — Sci. World J. 2013: 162570. https://doi.org/10.1155/2013/162750
- Баяндина И. И., Загурская Ю. В. 2013. Экологические условия и накопление фенольных соединений в лекарственных растениях. — В сб.: Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы. Мат-лы I Междунар. научн. конф. Новосибирск. С. 130–136. https://nsau.edu.ru/file/17251/Bayandina I. I., Zagurskaya Yu. V. 2013. [Ecological conditions and accumulation of phenolic compounds in medicinal plants]. — In: [Medicinal plants: fundamental and applied problems. Materials of the Ist International scientific conference]. Novosibirsk. P. 130–136. https://nsau.edu.ru/file/17251/ (In Russian)
- Heim K. E., Tagliaferro A. R., Bobilya D. J. 2002. Flavonoid antioxidants: chemistry, metabolism and structure-activity relationships. — J. Nutr. Biochem. 13(10): 572–584. https://doi.org/10.1016/S0955-2863(02)00208-5
- Parvin K., Hasanuzzaman M., Bhuyan M. H. M. B., Mohsin S. M., Fujita M. 2019. Quercetin mediated salt tolerance in tomato through the enhancement of plant antioxidant defense and glyoxalase systems. — Plants. 8(8): 247. https://doi.org/10.3390/plants8080247
- Šamec D., Karalija E., Šola I., Vujčíć Bok V., Salopek-Sondi B. 2021. The role of polyphenols in abiotic stress response: the influence of molecular structure. — Plants. 10(1): 118. https://doi.org/10.3390/plants10010118
- Erlejman A. G., Verstraeten S. V., Fraga C. G., Oteiza P. I. 2004. The interaction of flavonoids with membranes: potential determinant of flavonoid antioxidant effects. — Free Radic. Res. 38(12): 1311–1320. https://doi.org/10.1080/10715760400016105
- Treutter D. 2006. Significance of flavonoids in plant resistance: a review. — Environ. Chem. Lett. 4(3): 147–157. https://doi.org/10.1007/s10311-006-0068-8
- Dixon R. A., Paiva N. L. 1995. Stress-induced phenylpropanoid metabolism. — The Plant Cell. 7(7): 1085–1097. https://doi.org/10.1105/tpc.7.7.1085
- Yildiztugay E., Ozfidan-Konakci C., Karahan H., Kucukoduk M., Turkan I. 2019. Ferulic acid confers tolerance against excess boron by regulating ROS levels and inducing antioxidant system in wheat leaves (Triticum aestivum). — Environ. Exp. Bot. 161: 193–202. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2018.10.029
- El-Soud W. A., Hegab M. M., AbdElgawad H., Zinta G., Asard H. 2013. Ability of ellagic acid to alleviate osmotic stress on chickpea seedlings. — Plant Physiol. Bioch. 71: 173–183. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2013.07.007
- Ozfidan-Konakci C., Yildiztugay E., Yildiztugay A., Kucukoduk M. 2019. Cold stress in soybean (Glycine max L.) roots: exogenous gallic acid promotes water status and increases antioxidant activities. — Bot. Serbica. 43(1): 59–71. https://doi.org/10.2298/BOTSERB1901059O
- Gharibi S., Tabatabaei B. E. S., Saeidi G., Talebi M., Matkowski A. 2019. The effect of drought stress on polyphenolic compounds and expression of flavonoid biosynthesis related genes in Achillea pachycephala Rech.f. — Phytochemistry. 162: 90–98. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2019.03.004
- Gharibi S., Tabatabaei B. E. S., Saeidi G., Goli S. A. H. 2016. Effect of drought stress on total phenolic, lipid peroxidation, and antioxidant activity of Achillea species. — Appl. Biochem. Biotechnol. 178(4): 796–809. https://doi.org/10.1007/s12010-015-1909-3
- Yang Z. C., Wu N., Tang L., Yan X. H., Yuan M., Zhang Z. W., Yuan S., Zhang H. Y., Chen Y. E. 2019. Exogenous salicylic acid alleviates the oxidative damage of Arabidopsis thaliana by enhancing antioxidant defense systems under high light. — Biol. Plant. 63: 474–483. https://doi.org/10.32615/bp.2019.074
- Chavoushi M., Najafi F., Salimi A., Angaji S. A. 2020. Effect of salicylic acid and sodium nitroprusside on growth parameters, photosynthetic pigments and secondary metabolites of safflower under drought stress. — Sci. Hortic. 259: 108823. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108823
- Zhang Z., Lan M., Han X., Wu J., Wang-Pruski G. 2020. Response of ornamental pepper to high-temperature stress and role of exogenous salicylic acid in mitigating high temperature. — J. Plant Growth Regul. 39(1): 133–146. https://doi.org/10.1007/s00344-019-09969-y
- Давидянц Э. С. 2023. Тритерпеновые гликозиды как регуляторы роста растений: потенциал и перспективы использования (обзор). — Химия растительного сырья. 1: 5–34. https://doi.org/10.14258/jcprm.20230111368 Davidyants E. S. 2023. Triterpene glycosides as plant growth regulators: potential and prospects for use (review). — Khimija rastitel’nogo syr’ja. 1: 5–34. https://doi.org/10.14258/jcprm.20230111368 (In Russian)
- Boncan D. A. T., Tsang S. S. K., Li C., Lee I. H. T., Lam H. M., Chan T. F., Hui J. H. L. 2020. Terpenes and terpenoids in plants: interactions with environment and insects. — Int. J. Mol. Sci. 21(19): 7382. https://doi.org/10.3390/ijms21197382
- Vickers C. E., Gershenzon J., Lerdau M. T., Loreto F. 2009. A unified mechanism of action for volatile isoprenoids in plant abiotic stress. — Nat. Chem. Biol. 5(5): 283–291. https://doi.org/10.1038/nchembio.158
- Velikova V., Edreva A., Loreto F. 2004. Endogenous isoprene protects Phragmites australis leaves against singlet oxygen. — Physiol. Plant. 122(2): 219–225. https://doi.org/10.1111/j.0031-9317.2004.00392.x
- Sharkey T. D., Wiberley A. E., Donohue A. R. 2008. Isoprene emission from plants: why and how. — Ann. Bot. 101(1): 5–18. https://doi.org/10.1093/aob/mcm240
- Sharkey T. D., Singsaas E. L. 1995. Why plants emit isoprene. — Nature. 374(6525): 769. https://doi.org/10.1038/374769a0
- Singsaas E. L., Lerdau M., Winter K., Sharkey T. D. 1997. Isoprene increases thermotolerance of isoprene-emitting leaves. — Plant Physiol. 115(4): 1413–1420. https://doi.org/10.1104/pp.115.4.1413
- Punetha A., Kumar D., Suryavanshi P., Padalia R. C., Venkatesha K. T. 2022. Environmental abiotic stress and secondary metabolites production in medicinal plants: a review. — J. Agr. Sci. 28(3): 351–362. https://doi.org/10.15832/ankutbd.999117
Supplementary files